Текст книги "Время потрясений. 1900-1950 гг."
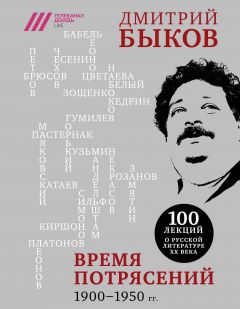
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 32 страниц)
Ну и, конечно, что говорить, самое знаменитое стихотворение Гумилёва – «Заблудившийся трамвай». Стихотворение, которое до сих пор не имеет чёткого прочтения, интерпретации. Оно вызвало к жизни ряд замечательных разборов, в частности, блистательную статью Романа Тименчика «К символике трамвая в русской поэзии». Трамвай имеет некоторые устойчивые коннотации. Красный трамвай – это русская революция, этот звенящий, несущийся по предопределённым рельсам гремящий трамвай истории. Не локомотив. Что такое локомотив истории в городских условиях? Конечно, это трамвай. Гумилёвский трамвай – это именно революция.
Удивительная штука, знаете, я столкнулся с тем, что и Мандельштам, и Гумилёв очень часто были раньше непонятны. Только что я давал урок в одиннадцатом классе, и девочка шестнадцати лет мне совершенно на полном серьёзе стала доказывать, что трамвай – это революция. Я говорю: «Откуда ты это взяла?» Тименчика она явно не читала, моих лекций не слушала. Она говорит: «Послушайте, разве это не очевидно? Что это такое: “Через Неву, через Нил и Сену мы прогремели по трём мостам”? Совершенно очевидно: если Сена, то это французская революция. Если “Мертвые головы продают. В красной рубашке, с лицом, как вымя, голову срезал палач и мне” – совершенно понятные коннотации, это 1793-й или 1789 год. О чём тут говорить? Конечно, трамвай – это революция, проносящая его через весь мир. “Я вскочил на его подножку” – Гумилёв же вернулся в Россию не в саму революцию, а чуть позже, он именно вскочил на подножку русского трамвая. Разве всё это не элементарно?» Не потому, что это класс с умными детьми или элитная школа, школа-то обычная. Я начал понимать, что Гумилёв страшным образом действительно становится понятен сегодня. Может быть, потому что уходит советское литературоведение, всему навязывавшее дурацкие смыслы, а может быть, потому что он писал так плотно и быстро, что это действительно понятно только нынешним детям с их клиповым сознанием.
«Заблудившийся трамвай» – стихотворение странное, потому что нам не всегда понятны его контексты, те смыслы, которые Гумилёв, поэт вполне рациональный и никогда не пребывающий в поэтическом делириуме, имеет в виду. Кстати говоря, Мандельштам так же по-акмеистически ясен и рационален даже в «Воронежских стихах». Всегда можно понять, что он имеет в виду, выстроив правильный контекст, считав ассоциации. Это никогда не бред, не суггестивная лирика, это всегда довольно чёткие конструкции.
«Заблудившийся трамвай», конечно, становится понятен с учётом двух контекстов: Французская революция, явный намёк на которую содержится в этой зеленной лавке, в этой страшной горе окровавленных голов, и еще один очень важный контекст, тоже относящийся к XVIII веку, – это, конечно, «Капитанская дочка», «История Пугачёва». Не зря Тынянов писал, что русская революция вскрывает пласты позапрошлого века, восемнадцатого. Когда мы вспоминаем, о чём речь, нам становится понятно стихотворение в целом:
А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!
Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковёр ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла!
Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренною косой
Шёл представляться Императрице
И не увиделся вновь с тобой.
Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.
И сразу ветер знакомый и сладкий,
И за мостом летит на меня
Всадника длань в железной перчатке
И два копыта его коня.
Верной твердынею православья
Врезан Исакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравьи
Машеньки и панихиду по мне.
И всё ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить…
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.
Очень трудно себе представить у Гумилёва, мастера формы, такую непосредственную, чистую, детскую, даже, казалось бы, неумелую интонацию, такие абсолютно непосредственные стихи. О чём здесь речь, при чём здесь «Капитанская дочка»? Видимо, здесь ещё одно напоминание о русской революции, пусть неудачной, о попытке пугачёвщины и о любви, которая оказалась заложницей страшных исторических перемен. Только у Пушкина выжили и Гринёв, и Маша, а здесь они гибнут: «Может ли быть, что ты умерла!» и «панихиду по мне». Сколько бы он ни заказывал молебен во здравие Машеньки, ясно, что она умерла, и поэтому – «Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить». Это любовь, это личность, которая стала жертвой необратимых катастрофических общественных перемен.
Правда, потом, как мне кажется, всё восстанавливается. Империя отстраивается заново, и не зря «Верной твердынею православья врезан Исакий в вышине», не зря «Всадника длань в железной перчатке и два копыта его коня», в конце концов, летят на героя. Всё революции заканчиваются установлением прежнего порядка, а жизни прежней уже не вернёшь. Этот трамвай промчался, и не осталось его, а жизнь погибла. Таков, мне кажется, внутренний сюжет этого стихотворения.
Гибель Гумилёва, казалось бы, случайная, на самом деле, возможно (есть и такая версия), предопределена тем, что он был роковым образом несовместим с советской властью. Погиб бы не так, так иначе. Но мне кажется почему-то, что Гумилёв, растворившись в крови советской поэзии, войдя в неё через Тихонова и Симонова, был на самом деле поэтом настоящей советской утопии, той утопии будущего, которую некоторые идеалисты среди большевиков имели в виду. К сожалению, к трагическому стечению обстоятельств, получилось так, что и сама эта революция была раздавлена в первые же месяцы, русская революция обернулась террором, а не свободой. С этим террором Гумилёв был безусловно не совместим, хотя наследие «Шатра», книги прощания с миром, радостных воспоминаний о странствиях, каким-то боком, какой-то случайной нотой в советской поэзии осталось. Советская поэзия всегда мечтала о героях, о конквистадорах, об освоении новых земель. Хотя бы в этом поэтическое бессмертие Гумилёва было ему даровано.
Если бы Гумилёв выжил, что бы он писал?
Мне представляется, что путь Гумилёва пролегал, как он сказал:
Но в мире есть иные области,
Луной мучительной томимы.
Для высшей силы, высшей доблести
Они навек недостижимы.
Путь его пролегал в метафизику. Поэтому мне представляется, что Гумилёв писал бы по большей части в стол что-то в духе Даниила Андреева, что-то мистическое. Внешне, может быть, я думаю, он стал бы одним из исследователей русской Средней Азии. Он бы удалился туда, где Луговской писал вдохновленное, конечно, им «Большевикам пустыни и весны». Внешняя жизнь его, я думаю, была бы полна странствий по советским окраинам, а внутренняя – сочинения текстов, не рассчитанных на публикацию. Прославился бы он как полярный или азиатский исследователь, дожил бы до семидесятых. В семидесятых его архивы были бы открыты, и мы увидели бы величайшего, главного поэта эпохи. Вот так, мне кажется, было бы. Такая утопия продолжения жизни Гумилёва есть в романе Успенского и Лазарчука «Посмотри в глаза чудовищ». Там есть прекрасный эпизод, где он убивает Жданова, мстя ему за Ахматову. Такое могло быть.
Илья Эренбург
«Необычайные похождения Хулио Хуренито», 1922
Когда говоришь о прозе Эренбурга, приходится всегда сталкиваться с довольно занятным парадоксом. Проза эта при жизни Эренбурга не нашла своего ценителя, единственным ценителем был Сталин, который благодарил его за доставленное наслаждение специальной телеграммой после романа «Буря» – прямого послания к нему, которое он, надо отдать ему должное, считал, понял. Что касается его остальной прозы, она всегда проходила по разряду фельетона и вызывала эмоции довольно-таки полярные. Тынянов, который очень хорошо разбирался в истории литературы, в контексте и в векторе будущего, с конкретными персоналиями у Тынянова не очень ладилось, иногда он ярко талантливых людей игнорировал, как, например, прошёл совершенно мимо его сознания Ходасевич. Грешным делом, я здесь с ним солидарен, но мы оба не правы.
А вот что касается «Необычайных приключений Хулио Хуренито и его учеников», или сокращенно просто «XX, Хулио Хуренито», о нём сказал Тынянов, что у Эренбурга всё герои невесомы и умеют только гибнуть, поэтому и гибнут, что у них чёрнильная кровь, что у них фельетонные чёрнила вместо крови, что этих героев носит ветром, потому что они сделаны из газетной бумаги. Но тот же Тынянов провидчески писал о том, что иногда писатель отходит на пограничные территории за подкреплением. Пушкин пишет альбомную лирику, чтобы открыть в ней новые приёмы, Маяковский пишет рекламу, чтобы открыть в ней новый способ лирического высказывания. И это так, потому что любовные декларации у Маяковского тоже имеют немножечко характер рекламы, или, по крайней мере, саморекламы, и часто встречающийся у него образ – вывеска, он и постель выкатил на эстраду, и застрелился в бабочке, то есть всё на эстраде произошло. Точно так же и с Эренбургом, он отошёл за подкреплением на сопредельную территорию, он отошёл в газету.
Конечно, «Хулио Хуренито» – это фельетонный роман, роман, в котором много животрепещущей злободневности, роман, в котором многовато конкретных деталей. Но вот какой, понимаете ли, странный парадокс, чем более вещь злободневна, тем больше у неё шансов пережить своё время. Отчасти потому, что в злободневной вещи есть страсть, а страсть, как писал Бабель, движет мирами, а отчасти потому, что в русской истории не так уж много и меняется, русская история самовоспроизводится. Поэтому всё, что написал Эренбург, оказалось бессмертно.
«Хулио Хуренито» – книга не просто вечно актуальная, а пророческая, в ней предсказан Холокост, предсказана атомная бомбардировка Хиросимы, предсказана в целом Вторая мировая война очень точно. Вообще Эренбург умудрился каким-то образом всё просчитать. Как это получилось? Вообще Илья Григорьевич, великий формотворец, человек, который открывает новые формы, а содержанием их наполняют другие. Почему? Наверное, потому, что он боится, потому что он останавливается в полушаге от открытия. Может, потому, что он, по собственному определению, слишком еврей, в нём слишком много иудейского трепета. Иногда он умудряется называть вещи своими именами, вот уникальный случай совпадения формы и содержания – это «Хулио Хуренито», там книга написана в его фельетонной манере и таким же фельетонным прекрасным содержанием наполнена. Но всё же чаще всего он форму открывает, а преуспевают в ней другие. Он открыл способ писать стихи в строчку, а прославилась в этом жанре Мария Шкапская, его петербургская подруга, и даже не столько петербургская, сколько парижская. Он открыл способ писать плутовские романы, и ведь из «Хулио Хуренито» выросли и «Ибикус» Алексея Толстого, и «Растратчики» Катаева, и отчасти, кстати, «Клоп» Маяковского, но в наибольшей степени, конечно, Бендер, потому что Бендер, Остап Берта Мария Бендер-бей, это и есть Хулио Хуренито, с его десятком имён и даже одно из имён, Мария, у них совпадает.
Бендер очень похож на Хулио Хуренито, великого провокатора, жулика, манипулятора. Ведь это именно Хулио Хуренито принадлежат великие слова: «Кто сказал “А”, должен сказать “Б”». Ха! А я ещё раз скажу «А» или возьму и прямо упраздненную ижицу вытащу за уши. И вот в этом, действительно, весь Хуренито, великий провокатор, великий остряк, путешественник, пошляк. Кстати говоря, странным образом в этом персонаже, с его мексиканскими корнями, предсказан даже Кастанеда, другой великий шарлатан, которому Дон Хуан чего-то там влил в уши, какую-то глупость невероятную, а Карлос Кастанеда поверил и действует по указаниям Дона Хуана всю жизнь, и даже ради него жуёт невкусный кактус. Вот Хулио Хуренито – это прототип всех учителей, спекулянтов, всех великих провокаторов в русской литературе XX века, в каком-то смысле даже прародитель пелевинских бесчисленных гуру, которые вдувают в уши ученикам какие-то софистские мудрости.
«Хулио Хуренито» – роман, не имеющий сюжета. Описан авантюрист, тридцатилетний, обаятельный, с кудрявыми как бы рожками на голове, немножко сатана, немножко падший ангел. Он явился то ли из Мексики, то ли из Испании, о прошлом его ничего не известно, как и о прошлом Бендера, мы знаем только, что он сын турецкоподданного, скончавшегося в страшных судорогах. Но самое удивительное, что и Хуренито, и Бендер – это действительно люди без почвы, но неотразимое обаяние этих людей в том, что это единственное, что уцелело от золотого века Европы. Они последние, кто уцелел от прекрасной довоенной эпохи. Вообще, правильно писал кто-то, сейчас уже не помню кто, «кто не жил в Европе до 1914 года, тот не жил вообще». Утончённая Вена, блистательный Париж, загадочная Америка, пробуждающаяся Африка и Австралия, полярные исследования, телефон, автомобили, чудеса прогресса, страстная деликатность в отношениях, абсолютно новые любовные драмы, в том числе гомосексуальные, открытие новых возможностей человеческого тела, техники, философии, религии – предел, за которым наступила катастрофа. Предел утончённости, изысканности, разврата, и вот среди всего этого есть один герой, который выживает. Мы знаем, что в атомной войне не выживёт даже таракан. У Маяковского бессмертен оказался клоп. А вот бессмертный клоп, бессмертно выживший после всех катаклизмов, – это Хулио Хуренито, жулик. Поэтому, собственно, вот это очень странно, трудно объяснить такой, если хотите, шок двадцатых. Главным героем литературы двадцатых годов оказывается жулик. Мы всё ждали, что этим главным героем окажется победивший пролетарий, но его настолько нет в литературе, что кажется иногда, будто его не было и в реальности, будто эту революцию сделали не пролетарии. Это правда, её сделали совсем не пролетарии. Будто эта революция случилась сама собой.
А где же, послушайте, где герои революционных лет? Где герои Гражданской войны? На этот вопрос нам отвечает Толстой в «Гадюке» и Леонов в «Воре». Они криминализировались, они никому не нужны, их пистолеты пошли на воровской промысел или на убийство соседей по коммуналке, потому что в мирную жизнь эти герои не вписались, в пространство нэпачей тоже никак. Бессмертен оказался самый пошлый персонаж Серебряного века, и Зощенко об этом написал замечательно, у него выжили именно такие люди, как Назар Ильич Синебрюхов, повествователь в его замечательной книге. Это человек, воспитанный на романе «Ключи счастья», человек, который говорит слогом Вербицкой, это мещанин, это мелкий чиновник. Кто такой Ибикус? Кто такой, вообще говоря, Невзоров в романе Толстого «Ибикус», лучшем его произведении? Кто это? Это мелкий чиновник, которого никто не замечал, хлюпик с длинными волосами, востреньким носиком. Но он оказался гениальным прохиндеем, он оказался изобретателем тараканьих бегов, которые потом, как всё плохо лежащее, охотно стырил Булгаков, но придумал-то, разумеется, Толстой.
Кстати говоря, тараканьи бега были реальностью, но описал их первым, в «Ибикусе», именно Алексей Николаевич, за что Булгаков вывел его потом в таком противном виде в «Театральном романе». Собственно, появление жулика как типа – это главный ответ эпохи на садизм, кровь Первой мировой войны, Гражданской войны. Всё идеалисты померли, а выжил Великий Манипулятор. Вот с большинством случилось то, что случилось с Кисой Воробьяниновым. А Бендер колесит по России, используя 400 сравнительно честных способов отъёма денег у населения.
Хулио Хуренито как раз и есть мастер парадокса, мошенничества, жульничества. Он задаёт свои вопросы ученикам, а среди его учеников присутствуют представители всех великих наций, начиная с маленького африканца, пигмея Айши, и кончая русским евреем Ильей Эренбургом. Именно Хулио Хуренито задаёт всем этим нациям вопрос, скажете ли вы миру «да» или «нет». И итальянец Эрколе Бамбуччи говорит: «Да, да, спагетти», француз говорит: «Да, женщины, луковый суп», даже Айша говорит: «Да, да, моя Африка». А еврей говорит: «Нет». Своё вечное скептическое, ироническое, еврейское «нет», и в этом смысле, конечно, Илья Эренбург начертал замечательный автопортрет.
Хулио Хуренито всё равно гибнет в романе. Гибнет он потому, что, когда его ученики после мировой войны приехали в Ростов, оказались в революционной России, революционная Россия и оказалась той лисой, которая схрумкала этого колобка. Его убили под Таганрогом, потому что на нём были хорошие сапоги, убили для того, чтобы эти сапоги с него снять. И образ босого учителя, лежащего в канаве, – это замечательный финал и его карьеры, и книги. Эренбург, наверное, очень точно почувствовал, как будет выглядеть Христос XX века. Конечно, Хулио Хуренито – это пародийная, травестийная, в жанре высокой пародии фигура нового Христа. Но это Христос без учения, Христос, если угодно, без позитива. В чём же учение этого Христа? В том, что он задает вопросы, а не дает ответы, в том, что он интеллектуальный провокатор, а не сектант, в том, что он не вождь учения, а он человек, всегда и везде задающий вопрос, вместо того чтобы давать готовый ответ. И новое христианство заключается именно в том, чтобы не разделять учение масс, не ходить вместе с толпами, не воздымать знамена, а в любой монолитной среде пытаться нащупать лакуну несогласия, пытаться нащупать кислородный пузырёк отдельности. И вот в этом правда Хулио Хуренито и основа его учения. И поэтому роман Эренбурга оказался таким замечательным предсказанием, он предсказал, что это будет век тотальности, век невежества, век ничтожеств, которые хватаются за идею, а личность умрёт в этом веке.
Последнее прибежище личности – это жульничество, как ни странно. Быть интеллектуальным жуликом, всё время ускользать от всех определений, ловчить. У Бендера же было, как вы помните, одно противоречие с советской властью, он говорил, она хочет строить социализм, а я не хочу. Вот Хулио Хуренито ничего не хочет строить, Хулио Хуренито хочет сохранить человеческое «я», и в этом его утопия, и поэтому несчастные ученики Хулио Хуренито, собираясь, вспоминают учителя как самое светлое, что у них было. Да, конечно, этот роман написан не кровью, он написан чёрнилами, разведёнными слюной фельетониста. Но ничего не поделаешь, роман-фельетон – это тоже ответ. А кто написал эпос в двадцатые годы? Шолохов разве что, но тоже это эпос о судьбе крошечного участка земли, одинокого казачьего племени. А большой эпос, вообще-то, в двадцатые годы оборачивается кондовой скукой.
Главный жанр двадцатых годов – это именно странствия хитреца, это жизнеописание плута, плутовской роман в духе Бендера. Почему? Потому что, как правильно заметил Петров в книге «Мой друг Ильф», нашей правдой и нашим хлебом была ирония, потому что всё остальное было уничтожено. И та глубокая, гуманистическая, истинно христианская, даже, я бы сказал, дзенская ирония, с которой Эренбург подходит к миру, это и есть гениальный ответ еврейского фельетониста на царство тотальностей.
Судьба этого романа сложилась довольно трагически. К прозе Эренбурга никто, как я уже сказал, включая его самого, всерьёз не относился. Некоторые его романы, как, например, «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца», так не дошли до советской публикации, остались напечатанными за границей. Некоторые, слабые, такие как «Трест Д.Е.», были напечатаны и широко обсуждались. А «Хулио Хуренито» был опубликован и фактически забыт на многие годы. Эренбург от него фактически отрёкся и до собрания сочинений шестидесятых годов, большого восьмитомника, его не переиздавал. По-настоящему оценил эту книгу только один читатель, но зато Ленин. Надо сказать, что у Эренбурга вообще мало было грамотных интерпретаторов. Но ему повезло, потому что он с Лениным был знаком ещё по Парижу и бывал в школе в Лонжюмо, где имел кличку «Илья Лохматый». Эренбург был вообще очень неряшлив. И когда Ленин прочитал «Хулио Хуренито», в 1922 году, он радостно говорил Крупской: ты представляешь, наш Илья Лохматый какую книгу написал! Ему понравилась и фельетонность её, и её пророчества, и её остроумие, и её цинизм. И это лишний раз подтверждает, что Ленин, в общем, сложный политик, был хорошим литературным критиком. Если бы он этим и ограничился, от этого бы все только выиграли.
Вот тут поступил вопрос, как я сам оцениваю прозу Эренбурга с эстетической стороны
Знаете, наверное, это была не самая плохая проза, если его роман «Буря» послужил фактически основой для романа Литтелла «Благоволительницы», тоже об антропологе, и имел такой международный успех. Сейчас «Бурю» никто не перечитывает, а ведь «Буря» – сильный роман. Это показывает, что иной раз, когда человек проговаривается о самом тайном и заветном, даже постыдном, у него получается гениально. Надо писать о своей болезни, понимаете, выписывать из себя свою болезнь. Вот Эренбург ненавидел немцев, ненавидел немцев не как нацию, в нём фашизма этого не было. Он ненавидел немецкую философию, немецкий подход к жизни, немецкую романтическую тяжёловесность, немецкое лицемерие, немецкую философию ницшеанства, всё это он ненавидел кровно, как француз. Французам же свойственно такое немножко антропологическое отвращение к немцам. И Эренбург позволил себе написать книгу о гибели немецкой цивилизации, немецкого духа. И книга получилась что надо. «Буря» – это великая книга. У неё есть, конечно, месседж, направленный непосредственно Сталину, он говорит о том, что европейский человек не выдержал испытания фашизмом, что Европа погибла, и, может быть, я сейчас думаю, ребята, может быть, он был прав. Может быть, она была действительно обречёна, потому что Европа после 1945 года не воскресла. А Эренбург об этом догадался. Плюс к тому его сухой сыпучий метод, недоговорки, подтексты, у Эренбурга подтекстов побольше, чем у Хемингуэя, потому что побольше причин умалчивать. Хемингуэй умалчивает из красивой европейской модерности, а Эренбург – из понятного желания конспирологии. Это то, что Нонна Слепакова называла «советским символизмом». И конечно, в этом смысле недоговоренности и контекстные глубины Эренбурга мне лично интереснее хемингуэевских, и поэтому Хемингуэй, кстати говоря, его так не любил. Я думаю, он просто завидовал.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































