Текст книги "Время потрясений. 1900-1950 гг."
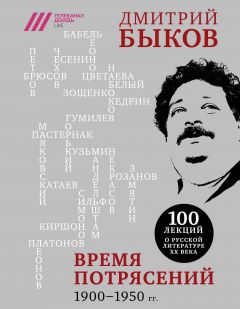
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 32 страниц)
Викентий Вересаев
«В тупике», 1923
Викентий Вересаев, он же Смидович, – один из тех людей, чья судьба в России тоже сложилась довольно-таки парадоксально. Мы хорошо знаем его как одного из переводчиков Гомера, хорошо знаем его как составителя знаменитого коллажа «Пушкин в жизни» и «Гоголь в жизни» – это замечательный такой подбор свидетельств современников. Надо сказать, что художественное чутьё ему в этом смысле не изменяло, потому что здорово подобрано, когда после серии материалов о смерти Пушкина мы читаем, как его престарелый дядя, будучи влюблен в молоденькую красавицу, подбирает выплюнутые ей шкурки от клюквы и ест. После этого мир без Пушкина становится окончательно чудовищен и тёмен, и мы погружаемся в эту бездну пошлости, оставшуюся без него. И конечно, это здорово придумано.
Он очень знаменитый переводчик Гомера, его так называемых гимнов, автор и интерпретатор огромного количества статей и об античной литературе, и замечательного мемуарного цикла, и прелестного очерка о Толстом, я думаю, самого жёсткого, в этом очерке сказаны замечательные слова: если бы мне не сказали, что это Толстой, я подумал бы, что это лёгкомысленный и непоследовательный толстовец, способный любую тему, вплоть до разведения помидоров, свести к необходимости любить всех. Это очень здорово.
Но что касается его собственной прозы, она как-то осталась в тени. Тут две причины. Причина первая в том, что Вересаев совсем не модернист, а успех в это время могла иметь только проза хоть в какой-то степени модерная. Скажем, Бунин, который модернистов ненавидел, скорее всего, всё-таки к ним ревновал. Потому что сам он, безусловно, модернист, новатор, невзирая на всю архаику своих взглядов, своих подчеркнуто дворянских убеждений, пишет он как писатель абсолютно новаторский. Отсюда лаконизм его этой стихопрозы, стихотворений в прозе, отсюда её невероятная сухость, сдержанность, сильные краски, фрагментарные сюжеты, тяготение к темам любви и смерти, классическим темам модерна, патологии извращений – это всё Бунин. И напрасно мы думаем, что Бунин так уж целиком в русском дворянстве, в русском золотом веке. Бунин – классический писатель Серебряного века, и «Тёмные аллеи» – это лучший сборник модернистских новелл. А Вересаев – совсем классический автор, у него собственного языка, по сути дела, нет, язык у него очень нейтрален. И прав был Тынянов, когда ругал роман «В тупике» за то, что всё герои ведут себя очень литературно, за то, что, когда одну из героинь, есть там такая Вера, расстреливают, ей не сочувствуешь, потому что она и там выкрикивает лозунги какие-то перед этим. Ну глупо все, и картонно, и, в общем, как-то… Поскольку Вересаев принадлежал действительно к племени честных русских литераторов, чья честность является их главным достоинством, как-то совершенно забылись его выдающиеся, на мой взгляд, достижения, прежде всего роман «В тупике». Я не говорю о воспоминаниях, которые были, кстати, с маминой лёгкой руки одной из любимых книг моего детства, некоторые цитаты оттуда, типа «и, сладко плача, я ушёл за бузину» до сих пор у нас служат паролями.
Но роман «В тупике», конечно, силён другим. Силён он не стилем, не композицией, не слогом, силён он интуитивно понятым вот этим ощущением тупика. Там что, собственно, происходит? Есть старый врач, честный человек, участник Пироговских съездов, знаете, есть такой классический образ русского старого врача, часто ещё военного врача, который любит дочек, говорит всем правду в глаза, отличается удивительной способностью мобилизоваться мгновенно, чтит врачебный долг, там его фамилия Сартанов. Вот есть этот врач, такой седой, прямой, он умирает в конце. Есть Крым 1917–1918 годов. Роман писался с 1920 года по 1923-й, вышел в 1923-м, а действие его происходит с 1918-го по 1920-й. Есть дачники в Крыму. Надо сказать, что Крым этих времён описан в трёх текстах по-настоящему сильно: у Набокова в «Других берегах», у Вересаева «В тупике» и у Шмелёва в «Солнце мёртвых». Это, наверное, лучший текст, написанный о тогдашнем Крыме. Понимаете, страшная местность, метафизику Крыма можно понять там. Крым – это же предел, где обрывается Россия над морем чёрным и глухим. Он вдвинут в море, и он как бы из времени вдвинут в вечность, он всегда вне времени и всегда на границе. Крым – это вообще граница России, граница мира и граница жизни и смерти, там всегда живут туберкулёзные больные, и Чехов там живёт. Вот на этой границе происходят какие-то вещи, позволяющие немного заглянуть за грань. Крым ничей, всегда, и через него прокатываются волны красных, белых, зелёных, красных, белых, зелёных. А дачники живут и не знают, как им жить.
Вот в этой же ситуации пограничья написано лучшее, на мой взгляд, стихотворение Мандельштама «Золотистого меда струя из бутылки текла». Тоже непонятно, что будет. Понимаете, нет образа будущего, есть образ страха перед этим будущим. «Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина». И вот, что будет за этой тишиной, за её пределами? Ясно, что эта тишина перед взрывом, пауза перед смертью или катастрофой, это очень чувствуется.
И вот роман «В тупике» повествует о том самом тупике, когда будущее – за красными, а правда – за белыми, но силы нет ни у тех, ни у других. Вот там есть прелестная главная героиня Катя, одна из сартановских дочерей. Вообще Вересаев первым написал роман, тип которого, схему которого использовали потом очень многие – история двух сестёр. Эта тема сестёр, она была в ненаписанном романе Маяковского «Две сестры», в котором он очень мечтал написать судьбу Эли и Лили, она была, естественно, в «Сёстрах» у Алексея Толстого, есть сёстры практически обязательно во всем советском эпосе, наиболее наглядно у Гросмана в «Жизни и судьбе», потому что на судьбах двух сестёр и на жизни их мужей лучше всего показать вот это раздвоение, условно говоря, России красной и России белой, России пролетарской и России интеллигентской, путь Рощина и путь Телегина в «Хождении по мукам». Вот тоже здесь есть две сёстры, одна сестра гибнет, её расстреливают там белые, а другая сестра уезжает неизвестно куда, её перед этим успели ранить в руку, когда она уходила в горы. У неё любовь с замечательным Дмитрием, который вернулся с фронта и рассказывает о страшном озверении народа. Вот как раз главная подспудная тема «В тупике» – это тема озверения людей. Там есть дивная сцена, когда Катя тащит мешок, она чудом каким-то образом добыла муки, а весь народ смотрит, и никто ей не поможет, всё говорят: «А, прошла пора чужие-то хребты эксплуатировать, вот сама теперь тащи». Хорошо, нашёлся добрый человек, который ей помог этот мешок положить на телегу и потом сам рассказывает, как экспроприировали лошадь у его кума, а кум лошадь не отдавал, его в лоб из револьвера, да в канаву и бросили. Вот озверение. И об этом же правильно говорит Дмитрий, вернувшийся с фронта. Не то что человеческая жизнь утратила ценность, это бог бы с ним, она и не имела особой ценности, но зверство приобрело самоценность. Всем приятно звереть, все с наслаждением падают вот в эту бездну. И Вересаев очень точно понимает, что время Сартановых кончилось, время русской интеллигенции закончилось, того, что Парфёнов называет так точно умершей, ушедшей России, Андрей Кончаловский – белой Россией. Время этой России кончилось. У белых нет ни силы, ни по большому счёту правды, хотя справедливость историческая, возможно, за ними, но их время безнадёжно упущено. А у красных, за которыми и сила, и, может быть, какая-то правда, ну как же, действительно, видите ли, царизм был ужасен, но у красных нет главного, у них нет человечности. И поэтому они обречёны.
И вот там есть такой Белозёров, актёр императорских театров, который при любой власти устраивается, но особенно льнёт к большевикам, он там устраивает театральный отдел. И его душевная тучность, жирность, его душевная абсолютная отделённость от людей, его страшная душевная глухота становятся залогом того, что эта ожиревшая душонка при красных преуспевает. А главная особенность деятельности красных там тоже очень точно выведена, когда они сразу начинают лютую бюрократию, они всё стараются формализовать. Они устраивают тут же отдел театральный, культурный с какими-то подотделами, они пытаются формализовать медицину, сельское хозяйство, всё у них тут же какие-то записи, выписи и черточки, документики, то есть всё немедленно погрязает в море бюрократии. Ну как невежественный человек, дорвавшийся до управления, как он может создать иллюзию управления? Он начинает писать бесконечные директивы. Об этом же, кстати, очень точно говорит Пастернак в «Докторе Живаго», он говорит, что революция была живое дело, а язык директив был мертв, и это был язык каменный, казённый. И вот абсолютно точно это почуял Вересаев. Конечно, после 1923 года его роман не мог бы быть напечатан. Да, понятно, что белые изжили себя, да, понятно, что белых всё ненавидят, им никто не сочувствует. Но понятно и то, что на смену им пришла мертвая материя, и поэтому роман «В тупике» – это роман о тупике приличных людей, которым в 1922 году некуда податься, им некуда деться. Это роман, в котором обозначен совершенно чётко предел той России. А какой оказалась новая Россия, мы знаем. Может быть, она и была жива только в той степени, в какой в ней сохранялось что-то от прежнего. Но всё это обречёно, всё это так страшно заканчивается.
Может быть, именно поэтому книга эта, мало понятая современниками, оказалась последним большим художественным произведением Вересаева. Всё, что он писал после этого, было либо мемуарными очерками, либо правленными переизданиями старых, очень талантливых «Записок врача». Почему эта книга не получилась так сильна, как сильна была историческая фактура, её породившая? Почему она несколько слабее того же «Солнца мёртвых» Шмелёва, которое написано после смерти сына и продиктовано ужасом и отчаянием после этого? Сын Шмелёва был расстрелян просто потому, что это был белый офицер, он поверил обещаниям красных, пришёл регистрироваться, а всех белых офицеров расстреляли немедленно, и конечно, Шмелев этого не прощает, поэтому его книга проникнута такой болью и ужасом, ненавистью. А почему этого нет у Вересаева? Вересаев довольно точно говорил про Леонида Андреева, он хорошо его знал, он говорил, что вот Леонид Андреев не был на войне 1904 года и написал «Красный смех», а сам он был и ничего столь истерического писать не смог, потому что он, как военный врач, оперировавший под пулями, перевязывавший под пулями, он знает, что на третий день привыкаешь, душа зарастает какой-то коркой. А у Андреева она не зарастала, поэтому он, даже не будучи на фронте, написал такой кровавый и мясной текст «Красный смех». Так вот Вересаев – действительно очень здоровый человек, поэтому в его страшной книге нет настоящей экспрессии, а есть честность и здравомыслие. Но честности и здравомыслия для великой литературы недостаточно, поэтому эта книга для нас скорее прекрасное свидетельство, скорее памятник эпохи, нежели памятник словесности.
Да, тут поступили вопросы, как я отношусь к биографическим трудам Вересаева, а именно к «Пушкину в жизни»?
Вы знаете, что очень многие ругали эту книгу за то, что Пушкин в жизни там есть, а лирики там нет, нет Пушкина-гения. Это неправда. Просто советское литературоведение очень боялось всякой сальности, всякой живой ноты, всякой живой души, поэтому им надо было показывать Пушкина-антикрепостника, Пушкина-декабриста, а Пушкина – отца незаконного ребёнка ему не надо было показывать, а Пушкина на пирушке или Пушкина в диалоге с Николаем не надо было показывать. Ну, это как бы принцессы не какают. Так вот соответственно и Пушкин, он не жил, а он только писал. Вересаев выправил этот перелом. И хотя его книга с 1937 года, к столетию смерти Пушкина, очень долго потом не переиздавалась, но если б вы знали, какой это был раритет и как её на три дня, на три ночи давали. Я думаю, что Вересаев внёс великий вклад в пушкинистику, собрав небывалый свод мемуарных свидетельств, и мало того, что это была каторжная и великая работа, прелесть этой работы в том, что она всё-таки о творчестве тоже. Пушкин показан там творцом, вопреки эпохе. И впоследствии именно эта концепция творить вопреки жизни вдохновила, скажем, Тарковского на «Рублёва». Я думаю, что, как это ни парадоксально, но книга Вересаева – это книга того же значения.
Исаак Бабель
«Конармия», 1924
Мы попробуем поговорить о 1924 годе, а именно о серьёзном литературном дебюте Бабеля. Настоящий дебют его, мало кем замеченный, кроме тогдашних блюстителей нравственности, состоялся в 1916 году в журнале «Летопись», когда рассказы двадцатидвухлетнего Бабеля напечатал Горький. И тут же Бабелю был вменен иск за порнографию. Но поскольку революция произошла год спустя, никаких последствий для него это не имело.
Первая заслуживающая внимания его публикация, куда вошли лучшие рассказы «Конармии», в том числе знаменитая «Соль», осуществилась в «ЛЕФе» с подачи Маяковского. Маяковскому в 1924 году в Одессе показали бабелевские рассказы, он необычайно проникся, до такой степени, что обожал читать его вслух. Пьесу «Закат», по воспоминаниям Павла Лавута, он читал вслух при первой возможности. Оказывался в купе с приятелем – читал ему, заманивал гостей в Гендриков – читал им. Точно так же он несколько раз читал со сцены рассказ «Соль», который поражал его точностью в передаче интонаций. Он наслаждался самой фактурой бабелевского слога, удивительной, несколько карикатурной и шаржированной, но тем не менее абсолютно точной речевой маской страшного красноармейца Никиты Балмашева, который в рассказе «Измена» призывает всех подозрительных расстреливать: «измена ходит, разувшись, в нашем дому, измена закинула за спину штиблеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемом дому». А вот в рассказе «Соль» он расстреливал спекулянтку: «И сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики».
Бабель вообще замечателен этой абсолютной драматургической точностью и пластикой воспроизводства чужой речи, но именно это чаще всего отвлекает наше внимание от действительно грандиозных проблем, которые он ставит. Собственно говоря, как характеризуют у него Беню Крика, Беня говорит мало, но смачно, хочется, чтобы он сказал что-нибудь ещё. Точно так же и Бабель говорит смачно, и мы за красотой, за совершенством его прозаической пластики совершенно забываем о том зверстве и кошмаре, который он рисует.
Генезис Бабеля довольно сложен. Существовала эпиграмма, приписывавшаяся Флиту: «Под пушек гром, под звоны сабель от Зощенко родился Бабель». Считалось, что Бабель действительно восходит к зощенковскому сказу, к зощенковской передаче чужой речи, но, конечно, корни Бабеля гораздо глубже. На формальном уровне, я думаю, его манера восходит более всего к Талмуду, к Библии. Не случайно он получил талмудическое образование, лет в шесть-семь знал иврит значительно лучше русского. Получил сугубо книжное образование, французский тоже знал очень неплохо, а по-русски начал писал в 12–13 лет. Как он пишет, «удавался мне только диалог». Вторая составляющая его прозы – это, конечно, французский натурализм, прежде всего Золя, в некоторой степени очень им любимый Мопассан. Бабель написал прекрасный рассказ о том, как он его переводил вместе с графоманкой. Удивительно, что этот синтез библейского бесстыдства, как это называл Пушкин, «библейская похабность», и бесстыдства французской прозы вместе порождают небывалую по откровенности и точности, по эротизму, физиологичности прозу Бабеля. Как совершенно правильно говорил о нём Воронский, «мир Бабеля – это кровь, слёзы, пот и сперма». Да, действительно, это так.
Но при всём при этом я думаю, что, если рассматривать непосредственных предшественников Бабеля, мы же знаем, что в русской литературе всё циклично. Все персонажи воспроизводятся. Скажем, Блок повторяет судьбу Жуковского, потом Окуджава повторяет его судьбу. Пастернак во многих отношениях занимает пушкинскую нишу и сам пишет об этом «Стансы», рифмующиеся с пушкинскими. Эта цикличность так или иначе всеми осознаётся. Солженицын и Достоевский копируют друг друга странным образом, как два зеркала. Таким же образом у Бабеля есть один предшественник, совершенно очевидный. Вы с лёгкостью назовёте его мне. Это книжный человек, который за 100 лет до Бабеля попробовал полюбить людей брутальных, широких, страшных, попробовал описать такой же пьяный и шумный интернационал, который орудует примерно в тех же местах, в среде западного славянства, непосредственно на польской границе. Человек, который с восторгом и ужасом описывает этих могучих кентавров, этих всадников, полуживотных-полулюдей, полубогов, которые лишены, наверно, традиционной морали, но зато у них свои очень жёсткие представления о чести. Кто же этот книжник, создавший свой страшноватый казачий эпос? Существовал классический анекдот о том, каков образовательный минимум просвещённого человека: «Не путать Гоголя с Гегелем, Гегеля с Бебелем, Бебеля с Бабелем, Бабеля с кабелем, кабеля с кобелем, а кобеля с сукой». Это прожиточный минимум интеллигента. Так вот, в том и заключается трагедия, что Гоголя с Бабелем по некоторым параметрам действительно легко спутать. Я назвал бы два самых страшных параметра. Первый, что для меня очень принципиально здесь, потому что речь идёт о честном художнике, о честной поставленной перед ним задаче, – он честно пытается полюбить этот абсолютно чуждый ему мир. Трудно представить себе что-нибудь более далекое от запорожского казачества, чем Гоголь. Застенчивый Гоголь, помните, Кушнер о нём писал: «Не то что раздеться, куска проглотить не мог при свидетелях». Да, это действительно так. Осторожный, замкнутый, по всей вероятности, либо никогда не знавший женской любви, либо знавший и испугавшийся навеки. Чуждый всякой брутальности, образованный, утончённый человек, автор сложнейшей прозы, скорее фантастической, чем реалистической. Гоголь искренне пытается полюбить этих богатырей, этих людей, для которых сила превыше всего, и правда, и честь тоже, конечно, но не будем отрицать того, что правдой, верой они чаще всего прикрывают собственные звериные разгулы. Это всё демагогия насчёт веры и правды. И гибнет Тарас Бульба довольно глупо, из-за люльки, которую он хотел подобрать. Но это тоже доказывает, что для него предрассудки выше разума, честь выше прагматики. Неприемлемо бросить люльку, чтобы она досталась ляхам: «Не хочу, чтобы люлька досталась ляхам!» Это очень жёсткое разделение на свой-чужой. Люди, для которых, конечно, честь выше совести, для них Гоголь пытается подобрать максимум романтики, оправданий. Это попытка полюбить звероватых сильных людей, которая исходит от человека книжного, рассудочного. Ведь Бабель страстно хочет стать таким, как герои «Конармии», но путь к этому признанию, к тому, как он пишет, чтобы «казаки перестали провожать усмешками меня и мою лошадь», лежит через отказ от собственной личности, к сожалению. Он лежит через убийство (пусть это даже убийство гуся в рассказе «Мой первый гусь»), через отказ от собственных моральных установок. Иван Акинфиев, главный садист среди конармейцев, кричит Кириллу Лютову, протагонисту Бабеля: «Ты молокан, ты патронов не залаживаешь»! Имеется в виду – не закладываешь. Лютов не хочет стрелять по людям. А молокан – это обозначение сектанта, гуманиста, человека религиозного. Для них-то ни Бога, ни чёрта уже нет. Конечно, попыткой их полюбить Бабель отказывается, к сожалению, от собственной идентичности. Он вынужден признать, что в «Конармии» он утрачивает лицо. По большому счёту вся «Конармия», цикл рассказов (или роман, как её называют), – это рассказ об утрате лица, о попытке слияния с массой и о безнадёжности этой попытки. Понимаете, это же время разделений, когда даже по семье проходит страшная трещина. Посмотрите на описание страшной, с вытаращенными глазами семьи в гениальном рассказе «Письмо», где сначала отец пытает сына, попавшего к нему в плен, а потом другой сын мстит ему, пытая отца: «Хорошо вам, папаша, в моих руках? А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?» Это довольно страшный рассказ о трещине, которая проходит через монолит, а потом монолит срастается, как по живому. Полюбить не получилось, Бабель так и не стал своим.
Вторая тема, которая мне кажется даже более важной. И в «Конармии», и в «Одесских рассказах» тема «Тараса Бульбы», хотим мы того или нет, – это тема отца, убивающего своих детей. Это тема ветхозаветная, в общем-то. Я не говорю, что это тема Авраама и Исаака. Вообще, вы знаете, в Библии тема отношений чрезвычайно болезненна. Достаточно вспомнить классический анекдот, когда еврей приходит к раввину и говорит: «Рабби, что делать, мой сын принял христианство!» – «Господь сочувствует вам, но у него те же проблемы». Вот здесь та же самая история. Это крушение мира, в котором отец – главная ключевая фигура. Это крушение мифа об отце, крушение патриархального мира. В этом мире по-настоящему восставший сын – это, конечно, Андрий, который предпочёл любовь. Но и Остап, который обречён, тоже наглядно показывает, что мир Отца, мир прежних ценностей кончился. Пришло что-то другое. После «Тараса Бульбы» мир будет другим, в этом-то и ужас. Бабелевский мир, мир «Одесских рассказов» и «Конармии» – это мир, где кончилась власть отцов. В «Письме» дети пытают отца, в «Закате», центральном произведении одесского цикла, двое сыновей Менделя Крика восстают против своего отца. Это по большому счёту и есть крах ветхозаветного мира. Об этом рассказывал Гоголь в «Тарасе Бульбе», об этом рассказывает Бабель в «Одесских рассказах» и «Конармии».
В «Одесских рассказах» все друг другу свои. В Одессе даже налётчики грабят жертву со всем уважением. Ей пишут сначала подробное вежливое письмо, чтобы жертва положила деньги под водовозную бочку. Если она их не кладёт, ей подробно объясняют, в чём она не права. Замечательный диалог в «Одесских рассказах», которые тоже начали печататься в 1924 году в одесской газете «Маяк», когда Рувим Тартаковский, жертва налёта Бени Крика, ему кричит: «Хорошую моду себе взял – убивать живых людей!» Это всё происходит в рамках одной общности. Все друг другу свои. А в мире «Конармии», в страшном мире, все друг другу чужие. Это мир непоправимых разделений. Бабель (Лютов) – чужой конармейцам, поляки чужие казакам, евреи чужие всем. Массовым истреблением евреев опять заканчивается всё. Это мир, в котором нет никакой общей платформы, не о чем договориться. Самое страшное разделение показано, пожалуй, в рассказе «Иваны», где дьякон Иван, дезертир, попадает в лапы тому же самому Ивану Акинфиеву, который везёт его в трибунал, но ясно, что он замучает его сам по дороге. Дьякон симулировал глухоту, и теперь Акинфиев всё время стреляет у него над ухом из пистолета с тем, чтобы вызвать у него глухоту. Страшная мольба дьякона «Отпишите супруге моей в Касимов, пущай она плачет обо мне». Вот это два лика России: зверский лик Ивана Акинфиева и кроткий лик дьякона. Между ними не может быть ничего общего, никакой общей платформы нет. Россия непоправимо чужая для всех, и все непоправимо чужие друг другу. Это, собственно говоря, и есть главная мораль «Конармии».
Каким рисуется Бабелю выход, сказать очень трудно, потому что, как многие правильно замечали, мир Бабеля – это мир, в котором власть Отца кончилась, а власть Христа не началась, Христос не пришёл. Правда, есть у меня одно кощунственное соображение касательно «Одесских рассказов». Действительно, на смену Менделю Крику, который даже среди биндюжников считается грубияном, пришли его сыновья, прежде всего Беня. Беня – это центр нового жанра, плутовского романа. Плутовской роман, как мы уже знаем из предыдущей лекции, начался в России с Хулио Хуренито и его учеников, затем продолжился в Бене Крике, разумеется, продолжился у Ильфа и Петрова, у Катаева в «Растратчиках», у нескольких замечательных авторов сразу. Конечно, Бендер – наиболее важная здесь фигура. В «Ибикусе» у Толстого это Невзоров. Главной фигурой двадцатых годов оказался плут. И вот здесь я задумываюсь почему. Дело в том, что плутовской роман, и это особенно видно на примере Бени Крика и Хулио Хуренито, – это мир, в котором вместо страшного мира отца-патриарха предлагается по-своему милосердный, шутовской, пародийный мир плута. Отсюда недалеко до страшного вывода о том, что первым плутовским романом в истории человечества было Евангелие. Христос – это тоже трикстер, великий шутник, который ходит по воде, превращает воду в вино, говорит притчами (говорит мало, но смачно). В общем, Беня Крик, конечно, христологическая фигура. Он пытается договориться, избежать убийства, вместо страшного силового управления отцовским извозом насадить какие-то человеческие, более-менее рациональные правила. И он тоже обречён. Ясно, что его убьют. Его убивают в сценарии, который Бабель написал, имея, конечно, в виду судьбу Япончика. Гибнет Хулио Хуренито, не гибнет, но полный крах терпит Бендер. Плут обречён именно потому, что он пытается острить в этом несмешном мире, пытается смягчать его парадоксом. А самое главное, мир плутовства – мир высокой пародии, как и само Евангелие пародийно по отношению к Ветхому Завету. «До семи ли раз прощать? Нет, до семижды семидесяти раз».
Мир «Конармии» лишён этого светлого, примиряющего, если угодно, шутовского начала. Это мир тошнотворно серьёзный. Единственная фигура в нём, которая как-то претендует, может быть, на какое-то добро и примирение, – это фигура самого Лютова. Но Лютов слишком конформист для того, чтобы в этом мире что-то изменить. Он хочет быть как они, и в этом его беда. Поэтому сам он выживает, а душу свою теряет безнадёжно. «Конармия» – это история о том, как интеллигент потерял лицо, тщетно пытаясь избавиться от своего человеческого содержания.
Прижизненная критическая судьба Бабеля была довольно счастливой. Его почти сразу приняли как классика, но был один человек, который наехал на него, принялся его топтать с абсолютно копытной убеждённостью. Это Будённый, тот самый, который выведен у него вроде бы легендарным, безмерно положительным, безмерно чтимым героем, но Будённый точно почувствовал бабелевское отвращение к грубости конармейского быта, к собственной пошлости, собственному самолюбованию. Будённый там выведен, конечно, немного Петрушкой. Он написал большую статью: «Бабизм Бабеля». Горькому пришлось за Бабеля вступаться.
Самое удивительное, что Бабеля называют бардом мирового еврейства, а между тем как раз Троцкий, человек, который и был в революции носителем еврейского мстительного начала, тоже очень не полюбил Бабеля. Он написал, что Бабель, рассматривая огромное тело революции, увидел только её половые части. Это чудовищная глупость, конечно, но ничего не поделаешь: Троцкому нравилась героика и романтика, а Бабель предпочёл описать самый неудачный поход, польский, участником которого он и был. Поход, который кончился поражением и крахом мифа о мировой революции. Поэтому со стороны начальства, к сожалению, наблюдался серьёзный скепсис. Не знаю, насколько справедливы бабелевские рассказы о его встречах со Сталиным на даче Горького, но Эренбург вспоминает, что Бабель вернулся мрачный и сказал: «Плохо дело, друг мой. Я не понравился».
Он не умел нравиться этой публике, потому что, чтобы нравиться ей, надо было быть нелюдем, а Бабель был человеком. Это сделало его замечательным писателем и жертвой этих чудовищных времён.
Последнее, что здесь следовало сказать, конечно, это то, что, если не брать в расчёт очень сложных библейских или иных коннотаций, отсылок, цитат Бабеля, если наслаждаться просто его стилистикой, безусловно, он самый яркий писатель двадцатых годов, потому что, как сказал он, «Ни одно железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя». Лаконизм Бабеля – у него некоторые рассказы по полстранички, великолепие его речевых характеристик, его любовь к одесскому быту и нелюбовь к зверству – всё это сделало из него фигуру самую обаятельную для 20-х годов. Именно поэтому в 30-е годы творчество его фактически прекращается. Книга новелл о коллективизации «Великая Криница» остаётся незаконченной, её изымают при аресте, мы не знаем до сих пор, где она. Роман о чекистах, над которым он работал в последние годы, ему не удавался, по всей вероятности, он никогда бы не закончил его.
В общем, в мире, где всё меньше становилось кислорода, Бабель замолчал. Он называл себя великим мастером молчания. Именно поэтому то немногое, что он написал и опубликовал, до сих пор для нас остаётся невероятно притягательным. В каком-то смысле его молчание, его исчезновение остаётся главной травмой советской литературы.
Почему при такой точности, сценической речи и таком мастерстве новеллы Бабеля до сих пор не экранизированы, а пьесы его не имеют сценической судьбы?
У Бабеля, как и у Гоголя, две пьесы. Одна очень успешная в сценическом смысле – «Закат». Вторая была считаные разы успешно поставлена, потому что это очень сложная пьеса. У Гоголя это «Женитьба», а у Бабеля «Мария». Первое – комедия, второе, скорее, драма или трагикомедия, во всяком случае.
Я могу объяснить, почему тексты Бабеля не имеют счастливой сценической судьбы. Именно потому, что это проза. Проза тяжело переводится на язык театра. Когда Беня Крик разговаривает у Бабеля, это в первую очередь литература. Сыграть Беню Крика невозможно, потому что надо сыграть легенду, образ невероятного обаяния. Свердлин, который сыграл Беню Крика в пьесе, написанной для кино, был гениальным актёром. Вы знаете его по роли Насреддина в «Бухаре». Но всё-таки даже ему не под силу передать атмосферу легенды, которая окружает этого налётчика. Они все играют налётчика, а надо играть Христа. Вот в этом парадокс.
Посмотрите на Котовского, вот парадоксальная фигура. Это грабитель, разбойник, маргинал, это герой, это в некотором смысле национальный святой, потому что поведение его в Одессе, когда он выступал неким Робин Гудом, отнимал у богатых и передаривал бедным, тоже делает его легендой. Дело не в том, что Беня Крик налётчик. Дело в том, что Беня Крик приходит упорядочивать мир, разорённый отцом, мир, в котором отец грубил, хамил, а Беня Крик пришёл наводить новые связи. Он очарователен. Вот это очарование никто не может сыграть. Все играют убийцу, бандита, а Беня Крик от бандитизма не получает никакого удовольствия. Вы же помните, когда в знаменитом рассказе «Король» в сцене свадьбы его сёстры Двойры он в отчаянии, что ему нарушают праздник, говорит: «Папаша, не обращайте внимания на этих глупостей. Прошу вас, выпивайте и закусывайте…»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































