Текст книги "Время потрясений. 1900-1950 гг."
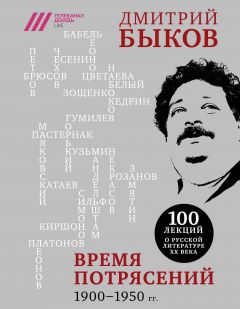
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 32 страниц)
Юрий Домбровский
«Обезьяна приходит за своим черепом», 1944
Мы поговорим о 1944 годе и о книге на первый взгляд неожиданной, о книге, которая была закончена в 1944 году и пропала. Нашлась она странным образом только в 1958 году. Это роман Юрия Домбровского «Обезьяна приходит за своим черепом».
О Домбровском вообще надо рассказывать отдельно, потому жизнь его – удивительный детектив. Самое удивительное, что книги его продолжают обнаруживаться. Полулегендарный роман, само существование которого было под вопросом, первая его большая прозаическая работа, роман в повестях и рассказах «Рождение мыши», был опубликован только в 2010 году. Мне самому пришлось вместе с редактором издательства «ПРОЗАиК» из черновиков собирать удивительно сложно построенную, буквально рассыпающуюся под руками книгу.
Юрий Осипович Домбровский сидел трижды, сидел очень тяжело. Первый раз он попал в ссылку, потом его арестовали по доносу, и он оказался на Колыме. С Колымы его сактировали. Как вы понимаете, актировка – «по актировке, врачей путёвке, я покидаю лагеря» – это уже действительно для полутрупа. Если человек не может далее отбывать наказание, значит, он действительно фактически мертвец. Живой мертвец Домбровский, погибающий от пеллагры, в 1943 году умудрился доехать до Алма-Аты, где отбывал когда-то ссылку. Город этот был для него фактически родным. Там, в больнице, с трудом водя рукой, он начинает писать роман, которому суждено стать первой книгой о фашизме. Он заканчивает его в 1944 году, а потом по доносу известной впоследствии детской писательницы Ирины Стрелковой, которую он потом разоблачил, Домбровский садится сразу после войны и попадает в лагерь ещё на шесть лет. Только после этого, когда он реабилитирован, ему неожиданно, совершенно случайно приносят пачку тетрадок, уцелевшую в Алма-Ате при обыске, пачку черновиков «Обезьяны».
В 1958 году он приводит роман в порядок, дописывает к нему пролог и эпилог, где упоминает уже и дело Розенбергов, и маккартизм, и волну послевоенной реабилитации фашизма, которая случилась и которую он предсказывал. В 1958 году книга выходит в свет, практически никем не замеченная. Это очень странно, наверно, потому, что от Домбровского, человека с тремя сроками, ждали чего-то гораздо более разоблачительного.
Хочу сказать, что до 1962 года лагерная тема официально остаётся железно табуированной. Ничего о советском тоталитаризме напечатать нельзя. Пока в ноябре 1962 года не появляется «Один день Ивана Денисовича», ничего о лагерях официально напечатать нельзя. «Колымские рассказы» Шаламова ходят по рукам, напечатанными их никто не видел. Я уж не говорю о массе других лагерных текстов, которые тоже написаны и не существуют официально.
Вторая причина, по которой этот роман остался незамеченным, – эта книга очень европейская. Как и очень многие рассказы Домбровского (например, рассказы о Шекспире), она свидетельствует об энциклопедической образованности автора, о его отточенном европейском ироническом суховатом стиле. Это совсем не то, чего ждёшь от человека с подобным опытом. Он пишет серьёзный европейский интеллектуальный, философский, я рискнул бы сказать, антропологический роман. А это, в общем, не приветствуется. Советская печать тогда рассматривала только социологический аспект фашизма. В самом деле, не расисты же мы, не можем же мы говорить, что бывают люди хорошие, а бывают плохие? Нет, бывают люди, попавшие в неправильные условия. Там, в Германии, сложился такой социальный климат, что представители крупного капитала взяли на вооружение реакционную теорию, в результате Европа сильно скакнула назад – вдруг скакнула в Средневековье. Предположить, что мы столкнулись в лице фашистов с антропологической проблемой, вслух было нельзя. Это и сейчас вслух не очень можно говорить.
Есть три книги – я не беру сейчас Гроссмана, это отдельная тема, – в которых главный герой – антрополог, и это сделано сознательно. Это роман Эренбурга «Буря», который я считаю лучшим русским романом о войне, романом, в котором раньше Гроссмана и Симонова, бескомпромисснее и живее поставлены главные вопросы. Второй роман – роман Литтелла «Благоволительницы», который в значительной степени, кстати говоря, базируется на материалах и манере «Бури», на записках Юргенса, на текстах Гроссмана, то есть книга в достаточной степени вторичная. И наконец, третья книга – роман Домбровского, которому так не повезло, который еле живой бывший зэк дописывает в 1944 году в Алма-Ате, а между тем это великий европейский роман, который ставит в полный рост главные проблемы.
Я скажу ещё немножко о Домбровском. Домбровский, вообще говоря, стоит в русской литературе наособицу, потому что он очень непохож на традиционного русского писателя. С кем его можно было бы сравнить? Наверно, разве что с Лимоновым, потому что есть в нём какое-то героическое самолюбование, молодечество, удаль и совершенно нет желания жаловаться. Он очень неубиваемый человек. Известно, что Домбровский умудрялся и в лагере шутить по-французски, как вспоминают его сосидельцы. Он умудрился написать два весёлых, увлекательных романа о времени репрессий. Его знаменитая дилогия, «Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей», как ни удивительно, – это книги, полные очаровательных женщин, любви, задора, юмора, секса, насмешки. В общем, он совершенно боком стоит в русской страдательной и просто монотонно занудной традиции. Его проза удивительно весёлая и динамичная. У него с первой фразы интересно! Да и сам Домбровский, который был совершенно не похож на страдальца, с его роскошным чёрным чубом… Зубов, правда, совсем не было, но сам он выглядел всегда очень молодо, как бы законсервировавшись в этой вечной мерзлоте. Когда он повёл, насколько я помню, Феликса Светова в какую-то забегаловку и начал с чудовищной скоростью уничтожать котлеты, чекушку и пиво, Светов – или не он, я сейчас не помню, кто с ним был тогда, – сказал: «Юра, всё-таки помедленнее, я так не могу». На это Домбровский ответил: «Вы все ни хрена не можете, что я могу». Это, пожалуй, очень применимо к Домбровскому. Никто ни хрена не может, что мог Домбровский. Это был совершенно феноменальный сверхчеловеческий тип. И убили-то его в драке, убили его провокаторы, нанесли ему увечья. Он отбился, одного уложил, двое убежали. Феноменальный тип!
Кстати, я очень дружу с его вдовой, она была намного младше Домбровского. Он женился на молодой прелестной девушке Кларе Турумовой, она-то как раз хранительница его наследия. Я должен сказать, что общение с ней или записи его голоса, которых много сохранилось, всегда внушают мне какое-то невероятное желание жить. Домбровский много раз говорил, что он, наверно, цыган, потому что какая-то цыганская безбашенность есть в его натуре.
Романы его очень мало похожи на этого бесшабашного, хорошо дерущегося человека, который «любил вид своей руки с финкой», как он вспоминает об этом в рассказе «Ручка, ножка, огуречик». Романы его действительно изобличают европейскую образованность и невероятную отвагу в постановке последних вопросов. В чём главная метафора романа «Обезьяна приходит за своим черепом»? Один из персонажей там говорит: «Мы сидим тут с вами, три интеллигентных человека, рассуждаем о Шиллере и Гёте. А представьте себе, что в ваш дом вдруг входит питекантроп и требует назад тот череп, который хранится у вас, у антрополога, в шкафу? Мы сегодня столкнулись с визитом питекантропа».
Действительно, роман Домбровского описывает научную антропологическую коллизию – там не названа страна, хотя понятно, что речь идёт о Франции, – связанную с фашистской расовой теорией. Отец главного героя, Леон Мезонье, – антрополог, человек, о котором мы знаем прежде всего то, что он любит красиво говорить и говорит действительно прекрасно. Но ничего, кроме этого, он сделать не может. Правда, он обладает замечательной несгибаемостью, замечательным нонконформизмом. Можно сказать, что отчасти роман Домбровского – оправдание людей, умеющих говорить красиво, потому что для Домбровского это одно из высших человеческих искусств.
Мезонье гибнет именно потому, что он не согласен слегка подкорректировать расовую теорию. От него всего-то требуется признать, что существует особое сверхчеловеческое племя арийцев, что арийцы с давних времён отличались от людей восточной расы. Вы прекрасно знаете, что немецкая расовая теория опиралась на бесчисленные подделки, когда челюсть одного вида приставлялась к черепу другого вида, когда всячески обосновывалась эта арийская теория, вычислялся лицевой угол. Для Мезонье это было сущим пустяком – просто признать, что существует высшая раса! Но он на это не готов. Написав последний конспект собственной антропологической теории о том, что никакой высшей расы не существует, он завещает передать эту книгу в Москву и там напечатать, а сам гибнет. Но удивительнее всего здесь то, что роман Домбровского не ограничивается констатацией полной несостоятельности арийской теории. К сожалению, Домбровский вынужден подтвердить и то, что антропологический вызов Второй мировой войны гораздо серьёзнее. Нам приходится по-новому подойти к понятию человека.
Там есть ещё один персонаж – Ланэ, учёный-конформист. Можно догадаться, что действие происходит именно во Франции, а для Домбровского падение Франции, её национальная катастрофа была личной. Он абсолютный франкофил, знаток языка, любитель Вийона, переводчик с французского. Для него мучительно то, что Франция вот так сдалась, что она вот так себя предала. Ланэ – самый наглядный и, пожалуй, самый назойливый символ абсолютного конформиста в этом романе. Ланэ – добродушный толстяк, который, в сущности, ничего и не сделал, только пошёл на эту подмену, на предательство. Беда не в том, что он оказался предателем по отношению к Мезонье, даже не в том, что он оказался вишистом по идеологии, что он поддержал коллаборационистов. Беда в том, что он предал науку. Он-то как согласился написать, что арийская раса существует. Почему Ланэ это сделал, а Мезонье – нет, ведь они, в общем, оба люди? Мы привыкли, что у человека есть некий нравственный идеал, врождённая мораль, присущая ему изначально. Оказывается, что ничего подобного нет. Вот фрагмент романа, в котором высказаны самые страшные, самые беспощадные слова:
«Разум нашей эпохи находится совсем в иных руках. Он – понятие отрицательное, а не позитивное. <…> Мы, Войцик, узнали самое страшное и прочное в мире – пустоту. У одного из наших поэтов есть стихотворение, как называется оно, сейчас не помню, а коротко дело-то вот в чём. В одном языческом храме, в нише, стоит статуя – истины ли, разума ли, какого-нибудь высшего существа, не помню, да в данном случае это не играет роли. Важно только вот что: статуя эта завешена, и видеть её могут только жрецы, и то в день посвящения, и вот если они выдержат лицезрение бога, то они и сами станут как боги. Так, по крайней мере, им обещают. Но тут есть загвоздка: во-первых, это последний искус, и к нему нужно подготавливаться целыми годами, постом, воздержанием, непрерывным самоусовершенствованием, ну и так далее, в том же духе, во-вторых, – и вот это самое главное! – и после этого только весьма немногие могут посмотреть в лицо бога. А дальше сюжет разворачивается так: перед героем стихотворения в день его посвящения скинули покрывало с ниши, где находилась статуя, и он сошёл с ума. Отчего? Вся штука-то в том, что и автор этого не разъясняет. Просто посмотрел, сошёл с ума – и только. Спрашивается: что же он увидел, таящееся под этим покрывалом? Никто этого не знает. Но сказать вам, Войцик, сейчас – что? Ничего под ним не было! Голая и пустая ниша – паутина, мокрицы и мышиный помёт. Неплохо задумано? Отдерни и любуйся этой чёрной дырой. Она и есть истина. Ясно, что те встревоженные дурачки, что готовятся увидеть что-то, не выдерживают этого чистого ничто. Но я-то, освобождённый от жалости и чувства добра и совести, я-то выдержу! Я смело смотрю в лицо этой чёрной дыре и благодарю, что в ней нет ничего, кроме мышиного помёта! Знаете, единственное, что мне нравится в Евангелии, – это то, что Христос не ответил Пилату на его вопрос, что есть истина. Но вот я бы ответил, и правильно ответил. Была Германия монархией, стала Германия республикой, была Германия республикой, снова стала Германия монархией, а потом не будет ни Германии, ни монархии, ни республики, а будет всё та же чёрная дыра. Вот и всё. Ну, посудите сами: из-за чего тут кричать, страдать, истекать чернилами, слюной или кровью, сходить с ума и закончить чем же?»
Вот это как раз новое состояние человека после Второй мировой войны (в общем, и после Первой мировой тоже), состояние, которого, боюсь, никто по-настоящему не отразил и не понял, его попытались очень быстро забыть. Оказалось, что человек действительно оставлен с миром один на один. Того, что творилось во время Второй мировой войны, никакой бог вытерпеть бы не мог. Кушнер тоже задаёт этот вопрос:
Где был любимый вами бог?
Или, как думает Бердяев,
Он самых слабых негодяев
Слабей, заоблачный дымок?
<…>
Один возможен был бы бог,
Идущий в газовые печи
С детьми, под зло подставив плечи,
Как старый польский педагог.
Действительно, а где был бог в это время? На этот вопрос нет ответа. Выходит, что человеку приходится либо переменить концепцию бога, либо стоять с миром один на один и, наверно, приходится как-то переформулировать концепцию человека. По роману Домбровского «Обезьяна приходит за своим черепом», обезьяны в человеке больше, вот что самое страшное. Он один сумел сформулировать этот вывод из XX века. Да, человек в начале века, наверно, подошёл к самому значительному, самому высокому порогу. Да, он, наверно, должен был совершить какой-то антропологический скачок, а вместо этого скачка, которого ждал весь XIX век, которого ждал Ницше, а в России – все во главе с Мережковским, вместо сверхчеловека обнаружилась обезьяна. Она пришла, и это самое страшное. Почему это получилось? Тут виновата не экономика, не европейская культура, а глубоко сидящее в человеке, непобедимое, неистребимое звериное начало. Когда налёт цивилизации слетает, этот зверь актуализуется. Этот зверь бывает разной породы, иногда он повышенно адаптивный, приспосабливающийся к любым условиям, зверь-конформист, как добрейший толстяк Ланэ. Иногда, например, это такой персонаж, как Гарднер, выведенный в этом романе страшный фашистский палач, который получает наслаждение от своей власти над людьми, который наслаждается избавлением от совести. Этот зверь довольно многолик, он не очень примитивен. Вопрос в том, что быть просто человеком уже стало мало. В новых условиях и новых реальностях, при обладании новыми средствами, при угрозах прогресса человек недостаточен. Этот роман о страшной недостаточности человека. Выдержать может Мезонье. Почему Леон Мезонье, главный герой романа, это выдерживает? Тут у Домбровского тоже очень нестандартный ответ, Домбровский вообще не даёт стандартных ответов. Почему он всё время подчёркивает позёрство этого героя, его любовь к красивоговорению, его шикарный кабинет, грубо говоря, его понты и снобизм? Потому что ему не всё равно, как он выглядит со стороны. Для того чтобы выдержать искусы этого века, надо смотреть на себя со стороны, любоваться собой, хорошо о себе думать. Тогда у тебя есть шанс. Выдерживает не тот, у кого правильное социальное происхождение или мировоззрение, выдерживает тот, кому не всё равно, как он будет выглядеть, как он будет умирать. Поэтому Леон Мезонье – очень важный персонаж. Сын его, Ганс Мезонье, – такой же, говоря по-современному, понтярщик, но при этом за его понтами стоит храбрость, понимание того, что ему не всё равно, как он будет жить и умирать.
Конечно, дописывая и переписывая роман в 1958 году, Домбровский внёс туда очень многое из того, что он передумал после Сталина, то, чего он не мог знать в 1944 году. Вопрос, который встаёт перед ним со всей прямотой, – это вопрос, который сформулировала Ахматова в 1956-м: «Две России посмотрят друг другу в глаза: та, которая сажала, и та, которая сидела». Они посмотрели друг другу в глаза и выдержали этот взгляд, у Галича это подробно описано в песне «Желание славы». В очередной раз сработал стокгольмский синдром. Но тогда было непонятно.
Домбровский задаёт вопрос: а что же будет с палачами? Мезонье встречает палача Гарднера, он узнаёт его на улице и выясняет, что Гарднер отсидел своё и был выпущен, у него якобы эпилептические припадки, ему можно не досиживать, он тоже как бы помилован и живёт, ходит среди людей. Он честно говорит: «Очень многие люди заинтересованы в том, чтобы мне ничего не было». А почему? Не только же потому, что у фашистов есть много денег или высокие покровители. Нет, не поэтому. Это происходит потому, что человечеству очень выгодно забыть о своём позоре, как будто этого не было, как забывают о своём грехопадении. Ну, был какой-то фашизм, какая-то расовая теория, какие-то заблуждения, но сейчас-то всё кончилось и можно жить по-прежнему!
Он предсказал, что в шестидесятые годы всех помилуют. Все палачи будут абсолютно свободны. Может, фашистским палачам какое-то возмездие достанется, и то далеко не всем, а вот советским палачам ничего не будет. Сталинские палачи будут доживать при прекрасных пенсиях. В эпилоге романа, дописанном в 1958 году, всё это сказано пусть по-эзоповски, но достаточно прямым текстом. Люди не захотят стать другими после Второй мировой войны, они не смогут жить с той правдой о себе, которая открылась им, они предпочтут забыть эту правду. И в самом деле, после Второй мировой настало то, что предсказал Домбровский. Настало страшное измельчание человеческой природы. Человек упал в бездну и отползает от неё, стараясь не помнить о ней, замазывать дыры в мировоззрении, потому что выдержать эту правду о себе невозможно. Невозможно быть человеком, зная, что ты обезьяна и что эта обезьяна уже однажды выползала из тебя.
Конечно, легче всего было бы оправдать себя биологическим несовершенством, но Домбровский открытым текстом говорит в романе: у вас есть шанс перестать быть этой обезьяной, но это потребует от вас колоссальной внутренней революции, а на это готовы очень немногие. Например, он на себе провёл эту операцию. Этот роман написан человеком, который видел самое страшное и не боится уже ничего.
Что есть в этой книге, так это бесстрашие. Перечитывать её сейчас очень полезно, когда мы видим, во что превратился человек, как он преступно измельчал, как он отошёл от главных вопросов и радостно смирился с обезьяной в себе, как эта обезьяна ликует и подпрыгивает. Вот это на самом деле и есть самое страшное, именно поэтому о книге Домбровского сегодня предпочитают не помнить, но она существует, и мне очень приятно напомнить о её существовании.
Каким образом Домбровский напечатал книгу в 1958 году?
Он напечатал её довольно просто. Это нам в наше достаточно цензурированное время кажется: «Как так, действительно!» А ничего особенного, если уж Солженицына печатали, то почему было не напечатать роман о европейском человеке в 1958 году? Все думали, что фашизм – болезнь Европы, понимаете? Очень многие после «Бури» Эренбурга усвоили этот пафос, адресованный Сталину: Европа не выдержала фашизма, а Россия сумела победить его, значит, коммунизм всё-таки прав.
Это было напечатано как очередной роман о закате, о деградации Европы. Только Домбровский понимал, что речь идёт о человечестве в целом, но, слава богу, это понимание было недоступно партийным редакторам. Они предпочли книгу напечатать и замолчать.
Александр Твардовский
«Василий Тёркин», 1945
Главным литературным событием 1945 года была книга Александра Твардовского «Василий Тёркин». Действительно, жанра у этой книги нет. Она так и называется – «книга про бойца». Ни романом в стихах, ни поэмой, ни сборником стихотворений назвать её нельзя. Что это за особенное произведение, мы сейчас поговорим.
Правду сказать, в 1945 году у нас есть довольно неплохой выбор. В 1945 году вышла первая редакция фадеевской «Молодой гвардии», встреченная резкой критикой, потому что роль партии там была недостаточно чётко прописана. В 1945 году Пастернак работает над романом в стихах «Зарево», который не заканчивает, потому что понимает, что после публикации первой главы вторую и третью никто печатать уже не будет. В 1945 году уже начинается работа над «Сталинградом» – как ещё тогда называется эта книга – Виктора Некрасова. Много интересного тогда происходит, о части этих книг мы поговорим позже. Но главное событие 1945 года, главный символ победы – появление книги Твардовского, которая и становится на долгое время главным поэтическим произведением о войне, более значительным, чем все стихотворения Симонова, Тарковского, Гудзенко, Луконина, Самойлова и Слуцкого, которые начали печататься после. Говоря о военной поэзии, в первую очередь мы вспоминаем «Василия Тёркина». В чём тут дело?
Надо сказать, Твардовский в своей жизни был до некоторой степени фаталистом. Хотя он был активным человеком, дважды находясь на посту редактора «Нового мира», многое сделал для того, чтобы расширить границы советской литературы, многое недозволенное в ней сделать дозволенным, но это касается его журнальной борьбы. А вот в жизни он предпочитал, чтобы книгу писала сама жизнь, а не автор. Это новый, я бы сказал, принципиальной новизны подход к литературе. Как это ни печально, но XX век и в особенности XXI век показали условность всех жанров. Жизнь – процесс непрерывный, поэтому законченность фабулы всегда условна. Твардовский решил написать книгу, которая ограничена чисто хронологическими рамками.
Начало её – начало войны, и мы ничего не узнаем о довоенном Тёркине. Тёркин – герой без биографии, он появился в 1941 году. А почему же без конца? «Просто жалко молодца», – отвечает Твардовский в своей достаточно циничной фольклорной манере. Герой не погибает, он исчезает в 1945 году. Это очень интересно, почему у Тёркина нет никакого будущего после войны и никакого прошлого до неё. Правда, Твардовский попытался написать значительно менее удачную, хотя местами, конечно, замечательную поэму «Тёркин на том свете», где «Тридцати неполных лет – любо ли не любо – прибыл Тёркин на тот свет, а на этом убыл», то есть Тёркин всё-таки погиб, а потом умудрился сбежать и из ада.
Вопрос в том, что Тёркин – это действительно герой, который невозможен вне войны, как невозможна рыба вне воды. На самом деле он до войны растворялся в массе, было непонятно, кто он такой и как его зовут. Возможно, он жил какой-то мирной жизнью и у него даже была биография, но её отрезало с началом войны. После 1945 года у него, возможно, будет какое-то продолжение, он вернётся, хотя мы не знаем ничего: ни жены, ни матери, ни семьи. Что-то у него будет, но это будет другой человек. В том всё дело, что эти четыре года войны, 1941–1945, вырезаны из его биографии, на это время он становится другим, его зовут на это время Василием Тёркиным. Конечно, надо было бы отдельно написать подробную работу о причинах, по которым Твардовский взял имя и фамилию из боборыкинского романа, который совершенно забылся. Твардовский, наверно, знал о нём по чистой случайности.
Надо сказать, Твардовский довольно широко заимствовал чужое и не особенно комплексовал по этому поводу. Как мы знаем, талант заимствует, гений ворует. Не помню уже, чья это формула, но она очень точная. Твардовский, например, взял сюжет «Страны Муравии» из очень плохого романа Фёдора Панфёрова «Бруски». Видимо, он просто понял, что в романе эта история не нужна, а у него поработает – и получилась гениальная поэма про Никиту Моргунка, который ищет справедливую мужицкую страну. Точно так же он у совершенно забытого Боборыкина взял совершенно забытого героя романа «Василий Тёркин». Это был какой-то купчишка, я читал этот роман и двадцать раз его забыл. Твардовский сделал его героем своей поэмы. Почему? Вероятно, ему понравилось имя «Василий», которое сочетает, с одной стороны, чрезвычайную простоту, а с другой – царственность. Всё-таки «басилевс», всё-таки Василий и есть «царственный». А Тёркин – очень хорошая и удобная фамилия, это тёртый малый, которого успела изрядно потереть жизнь. Как мы знаем, он какого-то крестьянского происхождения, видимо, он понюхал жизни колхозной деревни, повидал коллективизацию и крестьянский труд. Видимо, он воевал и раньше, может быть, в Гражданскую, может быть, ещё в империалистическую. Тёркин вообще-то не так уж и молод, ему или под сорок, или за сорок, в любом случае он застал Гражданскую войну. Так что это во всех отношениях тёртый солдат. Удивительно, в этой его потёртости есть и некоторая ершистость, которая Тёркину тоже присуща. Это фамилия с довольно широким диапазоном отсылок. Василий Тёркин, царственный потёртый человек, и становится универсальным символом войны.
Книга Твардовского писалась случайно, составляясь постепенно из тех глав, которые он печатал во фронтовых газетах. Работал он в нескольких газетах на протяжении войны, везде тёркинские главы – первая из них, «Переправа», была написана ещё во время финской войны, в 1940 году – пользовались у солдат большим успехом. Почему они пользовались таким успехом, довольно непростой вопрос. Дед мой, который прошёл всю войну, рассказывал, что высшей приметой успеха газеты было то, что её не сразу раскуривали. Не раскуривали некоторые очерки Эренбурга, некоторые стихи Симонова и почти не раскуривали Твардовского. Дед-то вообще не курил, а в первые же дни войны разбомбило эшелон, в котором он ехал, и погиб чемодан папирос, который курящая бабушка дала ему с собой. Так он и не закурил на фронте.
Почему всё-таки от раскурки «Тёркин» спасался? Я полагаю, что тут была двоякая причина. Во-первых, этот четырёхстопный хорей, которым он написан, и простая, добротная, будничная интонация делают эту вещь чрезвычайно оптимистичной. Возникает ощущение, что есть ещё нечто неубиваемое – простой здравый смысл, какая-то энергия (а её действительно очень много в этих стихах), довольно циничная шутка, с которой Тёркин приходит. Есть ощущение, так или иначе, какого-то бессмертного, очень прозаического, будничного, но всё-таки неубиваемого начала. Второе, что подкупает в «Тёркине», – он как-то очень совпадает с ритмом и лексикой солдатской жизни. Как человек, служивший в армии, я понимаю, что любая армейская работа – на 90 % тяжёлый физический труд. Жертвовать собой, совершать подвиг приходится далеко не ежедневно. Большую часть времени надо тащить на себе тяжести, мириться с тяготами и лишениями воинской службы, недоедать, страдать от холода и жары. Та стихия языка, которая живёт в «Тёркине», – это проговаривание, проборматывание про себя каких-то бессмысленных слов. Скажу ужасную вещь, но, во всяком случае, первая треть «Тёркина» (он задумывался автором в трёх частях), которая объемлет собой первые два года войны, – это довольно-таки бессмысленные стихи. Можно понять Ахматову, которая, прочитав начало «Тёркина», сказала: «Во время войны нужны такие весёлые стишки». Совсем иначе отнёсся к этому Пастернак, который сказал: «Твардовский оказался нашим Гансом Саксом» (это создатель языка немецкой народной поэзии).
Надо сказать, что этот язык у Твардовского ближе всего к народному заговору, к пословице, часто бессмысленной, к ритмичному проборматыванию, как в первой главе повторяется слово «сабантуй»:
Повторить согласен снова:
Что не знаешь – не толкуй.
Сабантуй – одно лишь слово —
Сабантуй!..
Что это такое? Понятно, что это некая большая неприятность, «малый сабантуй» – это малая бомбёжка, «большой сабантуй» – огонь по всему фронту. В этой постоянной речевой невнятице и есть апелляция к какой-то древнейшей народной памяти, ведь большинство заговоров тоже совершенно бессмысленны. Это то, что можно бормотать про себя, когда ты вжимаешься в землю под бомбёжкой, когда толкаешь застрявшую машину, тащишь увязнувшее орудие. Это какие-то ритмичные слова, которые повторяешь под тяжёлую и смертельно опасную физическую работу. Смысл уходит, остаётся энергия ритмичного слова.
Почему «Тёркин» оказался бессмертным? Потому что в иных ситуациях в жизни, когда тебе в голову не полезет совершенно никакая лирика, потому что ты занят не лирическими вещами, тебе в голову лезет «Тёркин»: «Пусть ты чёрт, да наши черти всех чертей в сто раз чертей!» Это ритм кулачной драки, который повторяет какие-то слова. Тёркин чувствует, что немец-то сильнее, кормленый, здоровый, от него чесноком разит, он только что пожрал. Нужно как-то разбудить в себе нечеловеческую ярость, а сделать это можно, только повторяя какие-то ритмичные бессмысленные глубоко народные подсознательные слова. С чем бы это сравнить? Когда я уходил в армию, я был в гостях на даче у Новеллы Матвеевой. Она сказала: «Может случиться, Дима, в некоторых обстоятельствах вам потребуется большая злоба. Считайте, что я вам передаю мантру, повторяйте про себя слова: “Вот тебе, гадина, вот тебе, гадюка, вот тебе за Гайдна, вот тебе за Глюка”». Должен сказать, что несколько раз мне это очень хорошо помогло.
Большая часть «Тёркина», не только первая его треть, – это то, что рассчитано на пробуждение, как ни странно, читательского подсознания. Вызов в себе злобы, энергии, упорства, готовности к какому-то долгому физическому напряжению – всё это зашифровано в словесной ткани «Тёркина». Нечеловеческое напряжение первых месяцев войны ведёт к тому, что в человеке отключается штатское, человеческое. В нём пробуждается языческое, какие-то дохристианские корни – умение прижаться к земле, нюхом найти еду, зализывать рану. Это действительно на грани человеческого, и в этом смысле «Тёркин» работает, ничего не поделаешь.
Но есть в «Тёркине», конечно, и вторая треть, центральная её глава «Два солдата», где Тёркин встречается со старым солдатом, солдатом империалистической войны. Они ведут разговор, как отец с сыном. Это очень важный эпизод, потому что там выражается самое страшное.
Даже в 1943 году, даже после Сталинграда исход войны не очевиден. Сейчас легко говорить, что война была выиграна Россией в тот момент, как крякнулся блицкриг, как стало понятно, что немцам придётся сидеть в окопах во время зимней кампании 1941 года, что их отбросят от Москвы, что немецкие коммуникации не были рассчитаны на российские расстояния и морозы. Это легко говорить сейчас. Не то что в 1941 году, когда немцев впервые по-настоящему погнали от Москвы, в 1942-м, когда начался Сталинград, в 1943-м, во время Курской битвы – ещё и в 1944 году всё ещё было не очевидно. Шли поиски оружия возмездия, Гитлер чуть не получил атомную бомбу, вообще было непонятно, как всё повернётся. Неопределённость исхода войны как раз и выражена в этой ключевой главе 1943 года. Почему она принципиально важна для Твардовского? Пожалуй, Советский Союз понёс самые большие в истории потери именно в мирном населении, они составляют примерно половину всех потерь во Второй мировой войне, которые понёс Советский Союз. Это невероятный процент. Во Франции, например, он был порядка 7 %, в Германии – порядка 10 %, в России половина всех людей, которые погибли на войне, были мирными. Поэтому отношение мирного населения к солдатам было разным, неоднозначным. Симонов вспоминает о том Страшном суде, по сути дела, который испытывает откатывающаяся армия. Для них Страшный суд – глаза оставляемых стариков и женщин. Об этом написано «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины». Они провожают отступающую армию, это очень страшное ощущение. Чувство вины перед населением, которое испытывает Тёркин, пусть уже во время наступления, пусть они возвращают свою землю, но всё ещё непонятно, чем это кончится. Когда старик его спрашивает: «Побьём мы немца?», он не знает ответа. Тёркин задумывается очень надолго. Тёркин молчит в ответ на этот вопрос, потому что отвечать что-нибудь шапкозакидательское в духе 1940 года невозможно. Тем более что в 1940 году вообще табуирована тема войны, ещё действует договор о ненападении и как бы нейтралитет в отношении фашизма. Тёркин очень долго молчит. Сначала он доедает яичницу, которую ему приготовила старуха, потом подгребает сало куском хлеба, потом встаёт, заправляет гимнастёрку и затягивает ремень. Только после этого на пороге он говорит: «Побьём, отец». Это долгое молчание, долгая неопределённость остаётся самым достоверным свидетельством этой неокончательности.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































