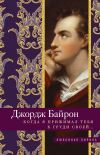Текст книги "Люди возле лошадей"

Автор книги: Дмитрий Урнов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 42 страниц)
Требования к лошади
«Лошадь должна быть талантлива».
А. М. Фаворский.

Для спортивного сборника в серии «Жизнь замечательных людей» мне был заказан очерк о Борисе Лилове – шестикратный чемпион СССР, победитель в Парижском парке Принцев, получивший ещё и особый приз за обаяние в езде. Слава Лилова неразрывна с гнедой «Диаграммой». О соотношении коня и всадника в борьбе за успех расспросил я Фаворского, соконюшенника Лилова. Он произнес речь.
Фаворский (сидя на сундуке с овсом). Лошадь должна быть талантлива. У неё должны быть душа, ум, сердце и другие природные данные, необходимые в нашем деле. Диаграмма у Бориса была талантлива. Мой Крохотный талантлив. У Лисицына Пентели, небольшой, лещеватый, а талантливый, просто талантливый! Конкур – не скачки, паркур (маршрут) – не ипподром. Скакуну нужна резвость и ещё раз резвость, все остальное постольку-поскольку. А конь конкуриста должен обладать свойствами, вроде взаимоисключающими. Резвость и в конкуре нужна: иначе не наверстаешь время, упущенное при повалах. Но резвость – нервы, а с чрезмерными нервами на манеже делать нечего. На паркуре от коня и седока требуется прежде всего расчет. Борис всю жизнь ехал по маршруту: всегда в посыле! По улице шел и высчитывал темп прыжка до каждой лужицы. Он даже во сне брал барьеры. В чем заключался его секрет? Нет сомнения – руки. Ну, и голова. Чувство лошади! Как никто, угадывал, когда нужно «снять» лошадь и поднять перед препятствием на прыжок. В этом не знал себе равных.
(В коридоре шум. Фаворский поясняет: «Терентъич ребят отчитывает». Внушение тренера выслушивают Олимпийские чемпионы Иван Калита и Елена Петушкова).
Фаворский (вернувшись на сундук с овсом). Борис понимал лошадь, но и лошади его понимали. И Бриг, и Атлантида, а Диаграмма в особенности. В спорт поступила со скачек, но скакала бесцветно, нашла себя на манеже. Темпераментна была – в меру. Обладала природным сбором: от рождения была ей дана гармония движений, а в прыжке это – всё. Трудно было уловить, кто же из них рассчитывает, когда шли они с Борисом на препятствие – одно, другое, третье и разноперые стенки. С любой ноги эта кобылешка взлетала, как мячик. Была незлопамятна. Борис никогда её не наказывал. Напряжения приходилось выдерживать страшные. А с кобылами, как бывает: отобьешь душу и – конец! Но Диаграмма была отходчива. Умела себя беречь, распределяла свои силы без лукавства и без отлыниванья. Открытая сердцем, откровенная по езде, да что говорить, талантлива была.
На высоте Парнаса
«Здоров я или болен, лучше всего чувствую себя верхом».
Мишель Монтень.
«Коня, коня! Полцарства за коня!» – сократив цену вдвое, Яков Брянский, актер и переводчик, создал по-русски шекспировскую крылатую строку. У Шекспира – королевство, всё королевство за коня: «A horse, a horse, my kingdom for a horse!» В шекспировской хронике «Генрих V» цена лошади соотносится с мерой патриотизма: «Продает свой дом и пашню, чтобы купить коня и идти в бой». «Приключения Робинзона Крузо» в первом издании по цене потянули треть лошади – настолько был велик спрос на книгу, ставшую бестселлером своего времени и классикой на века, оставаясь и сегодня самой читаемой в мире книгой. В своё время даже «Путешествия капитана Гулливера» направленные против Робинзона, не нарушили успеха будто бы «изложенного им самим, моряком из Йорка». Напротив, правдивости Гулливера поверили ещё больше. Нашелся лишь один педант-читатель, который, не отрицая достоверности рассказанного капитаном о людях малюсеньких и гигантах, всё же усомнился, будто игогоги могли говорить.
«Усталый конь, забыв былую прыть,
Едва трусит лениво подо мной…»
Из сонетов Шекспира, перевод С.Я. Маршака.
Шекспир в столичный Лондон из родного Стратфорда двести миль отмахал пешком. Пришел не один – вместе с братом Эдмундом. Братья начали работать при театре на заречной стороне, у них там нашлись «свои люди», земляки. Эдмунд скончался с напастью чумы. Вильям, желая достойно помянуть брата, (по документам) оплатил похоронный звон большого колокола в соборе недалеко от театра и согласно преданиям не раз повторял их общий путь по дороге в родные края.
Появилась ли у Шекспира лошадь или оставалась в мечтах, неизвестно, но есть у него строки, навеянные ездой в седле. Более того, в творениях Шекспира проявляется знание конного дела. Поэма «Венера и Адонис» содержит подробное, по всем статям, описание жеребца. Характерная особенность классических описаний – отражают прочитанное. Великие писатели были великими читателями и чтобы им поверили, старались свой рассказ встроить в принятую систему словесного выражения. Понимал или нет Шекспир в лошадях, он следовал «Правилам выездки» Бландевиля.
Крутая холка, ясный полный глаз,
Сухие ноги, круглые копыта,
Нередко вустые щетки, кожа как атлас,
А ноздри ветру широко открыты.
Грудь широка, а голова мала…
Перевод – С. Я. Маршака.
В переводе, прекрасном переводе, всё же переводе, не уместились Шекспиром (по Бландевилю) отмеченные вислый круп и прямой постанов ног.
Мы не знаем, откуда у Шекспира глубокое понимание лошади, как узнал он названия кавалерийских приемов, конских пород и статей, где научился различать масти, детали сбруи до мелочей, почему о стихах нередко говорит как о скачках, прислушиваясь к их «фальшивому галопу» или, напротив, сбалансированному ходу. Нам неведомы обстоятельства, научившие Шекспира языку ездока, жаргону манежа, однако на этом языке им выражено намерение «обуздать горячего Пегаса, мир поразив благородством выездки». Сказал же Эмерсон: «Езда верхом – занятие многомысленное». Участник трех революций маркиз Лафайет лошадь, сбросившую седока, сделал своим символом. Умение управлять конем служило мерой мастерства писателям, особенно поэтам: поэзия, словесная музыка, сродни упряжной и верховой езде, требующей гармонического взаимодействия с лошадью. Классические имена дают повод подъехать к ним, так сказать, на коне. «Нельзя критиковать с высоты коня», сказал Горький, но можно взглянуть. С древности, разбирая природу искусства, толковали, кто – возница, врач или поэт – лучше поймет Гомерово описание конского бега. Древние думали: ключ вдохновения бьет, где конь ударит копытом. Законодатель поэзии Филип Сидней, чьи взгляды воздействовали на Шекспира, начинал с конюшни излагать поэтическую программу и выводил законы поэтического мастерства из бесед с берейтором, инструктором верховой езды. Гете говорит, что поэтические силы проснулись в нем после падения с лошади. У Толстого сказано: «Как меня стукнула о землю лошадь и сломала руку, так я сказал себе, что я литератор». Джек Лондон решил, что ему и жить незачем, когда в довершение всех несчастий пал его любимый конь.
В нашей классике то и дело попадаются обороты речи из лексикона конюшни, присутствие лошадей в русской поэзии и в русской прозе неустранимо. «Бил на голову» или «подкован по летнему и (по зимнему) на шипы», – говорится у Герцена, а речь не о бегах – о спорах между западниками и славянофилами. «Лошадь заступила за стропку» – тоже у Герцена, но имеется в виду не лошадь, а неожиданное движение мировой истории. И это говорится совсем не конником, он, если и «катался», то на отслужившей свое полицейской кляче, однако в сознании у него, поглощенного размышлениями о философии истории, лошади постоянно оставались на уме.
Почти все русские классики писали о лошадях так или иначе. Грибоедов составил специальный кавалерийский трактат. Карамзин описал, как он спешил на скачки в Виндзор и, не найдя из Лондона экипажа до места, с половины пути шёл пешком, а работая над «Историей Государства Российского», историограф, когда жил у Вяземского в Остафьеве, каждое утро, прежде чем сесть за свой труд, садился в седло и по часу ездил верхом. Сидел или нет в седле друг Карамзина, Жуковский, но в переводах у него непрерывно раздается конский фырк и топ, а если в оригинале ничего нет иппического, о лошадях, то переводчик приписывал лошадей от себя. «Я хочу быть на лошади!» – провозгласил литератор-пророк Константин Леонтьев, чьи воззрения отдают мракобесием (тоской по розге, по определению чеховскому), но слог его гибок и прозрачен, как ни у кого из прозаиков, надо же так мелодично писать о необходимости пороть и лить кровь во имя самобытности. Лермонтов – кадровый кавалерист. Фет – и кавалерист, и коннозаводчик. Сухово-Ко былин разводил лошадей и участвовал в скачках с препятствиями. Толстой в молодости мечтал служить в конной гвардии, в зрелые годы пытался создать конный завод, устраивал народные конные состязания среди башкиров, с конем и седлом не расставался всю жизнь и за гробом его, как полагается у конников, вели Делира. Достоевский пытался приучить к лошадям своих детей, считая это важным уроком жизни, но от неумения только загубили жеребенка, впрочем, сын писателя стал специалистом по коневодству. «И у меня в пьесе есть лошадь», подчеркивал Чехов, считая это немаловажным компонентом «Чайки» – первой из его эпохальных пьес.
«Хочу жеребцов выезжать».
Пушкин.
Пушкин решил заняться выездкой, следуя поэтическим образцам. «Вольное подражание Альфьери и Байрону» – сообщает он в письме брату о намерении регулярно ездить верхом и в библиотеке его появляется манежное наставление Риго. Эта книга служила поэту практическим пособием, о чем в экземпляре, ему принадлежавшем, который мне разрешили подержать в руках, говорит читанная глава о потертостях седлом.
Пушкин подтрунивал над Кюхельбекером: тот свалился с коня, сам же Пушкин в ту пору писал Вяземскому о себе: «Упал на льду не с лошади, а с лошадью: большая разница для моего наезднического честолюбия». Надо знать на опыте разницу, все оттенки, чтобы так проникновенно и вместе с тем профессионально верно говорить о коне, как Пушкин в «Песне о вещем Олеге» или описать, как конь грызет и пенит мундштук или «как гонит бич в песку манежном на корде резвых кобылиц». Опыт всадника сказывается в пушкинской строке о крестьянской лошадке, которая «снег почуя, плетется рысью как-нибудь». Кому случалось выезжать на лошади после первого снегопада, тот знает, как всякий конь несколько упирается, неуверенно ступая по дорожному покрову, вдруг ставшему зыбким. С вопросом уточнить смысл пушкинской строки ко мне обратился академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, ответ он воспроизвел в своей книге размышлений, ссылка, им сделанная, принесла мне известности больше, чем всё мной написанное вместе взятое, что, разумеется, следует приписать авторитету ученого и важности предмета им затронутого.
От конюшни до Захарова, или Захарьина, где рос Пушкин, на хорошей лошади с час ходу, если не гнать («За галоп голову оторву», – говорил тренер Гриднев). Тимофей Трофимович Демидов, старый драгун, живший по-соседству на конном заводе, рассказывал, как у него однажды убежали из табуна жеребята, и он нашел их в Захарове. «Ничего там уж нет, – говорил Трофимыч, прибавляя: – Поэт писал стихи на березах».
В памяти Трофимыча, я знал, сохранились путем многих косвенных отражений бытовые легенды «про царей и про цариц» и вообще про знаменитостей столетней давности. Но главным образом предания армейские. «Ссора произошла, – говорил старик о роковом поединке поэта, – когда кавалергарды стояли на травах». Ситуация «на травах» и вся версия о ссоре с Дантесом идут от князя Трубецкого, гвардейского офицера, служившего вместе с Дантесом. О том, как маленький Пушкин царапал на стволах захаровских берез, рассказывали в другом, домашнем кругу. Стало быть, Трофимыч услыхал об этом позднее. Приехал за жеребятами в Захарово, стал спрашивать про Пушкина, который не поладил с кавалергардами, когда они стояли на травах, а ему в ответ: «А, Пушкин! Тот, что стихи на березах у нас писал».
Не мог я никак ощутить точный момент, чтобы решить и отправиться в Захарово – пенаты Пушкина. Погода, небо, расцветка леса, словно указующее сочетание звезд должны были оказаться в картинном между собою соответствии. Хотя дорога была очень красива и как бы вела за собой. И только когда все-таки я поехал в Захарово, и лошадь в одном месте отказалась идти через воду, я взялся за хлыст и вспомнил: то была дорога самозванца. «Вот хоть отсюда свороти влево, да бором иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью, там через болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево, а тут уж всякий мальчишка доведет до Луевых гор». Так в «Борисе Годунове» хозяйка корчмы объясняет беглому монаху Григорию, как добраться до литовской границы. Какая «литовская граница»! Вот он, Чеканский ручей – конь пробует его копытом и пятится. «Вперед и горе Годунову!» Теперь возле Хлопина, называемого Хлюпиным, препятствием было уже не болото, а железнодорожные пути. Лошадь робела черных змеиных рельсов. Дорога на Захарово переместившаяся в «Борисе Годунове» в подмосковные края, показывала ход пушкинской мысли. Следуя Вальтеру Скотту, домашним образом, стремился поэт почувствовать и познать отечественную историю, ибо история была для него личным делом. Он выверяет свою родословную на фоне летописей. Читает труд Карамзина и набрасывает автобиографические записки. У него является мысль о создании национальной трагедии шекспировского масштаба. Ищет в прошлом эпоху, которая соединилась бы с текущим. Ему близки и Псков и Новгород, он чувствует наследственную связь с петровской эпохой, но в итоге мысль его замыкается на Смутном времени. Фактически Пушкин обратился к своему детству, вернулся к истокам – «мое Захарово», рядом Вяземы – вотчина Годуновых, где витают легенды о Борисе, о Марине Мнишек, здесь же похоронен его младший брат. Замысел рождается как бы из «семени», глубоко укоренившемся в родной почве; подымается могучий ствол, ветви широко и свободно охватывают пространство и время, и по ним, сколько бы далеко они ни устремились, движется все тот же ток личного восприятия прошлого своей родины. В Захарово лошадь моя испугалась пушкинского обелиска, осадила и от шпоры дала свечку – поднялась на дыбы. В окнах местной школы, перед которой поставлен обелиск, выставились бритые головы первоклассников, в глазах вопрос: «Где опустишь ты копыта?» Проскочил я деревню, парк, «кленов темный ряд», пруд, реку, «зерцало вод», «в лугах тропинку» – по стихам, хотя все это было значительно моложе пушкинского времени.
Лошадь, как обычно, когда повернешь к дому, тянула с охотой в предвкушении сена и овса. Трофимычу я сказал, что проехал в Захарово. «Ничего там уж нет, – отозвался старый кавалерист. – Поэт писал стихи на березах». Мне казалось, что в Захарово я съездил не на лошади, а на машине времени.
«Мечтал заняться лошадьми».
Альфьери.
Пушкин о пристрастии итальянского поэта к лошадям, возможно, не только читал, но и слышал: итальянец приезжал в Россию. Было это за тридцать лет до рождения нашего поэта, с тех пор изустные предания могли сохраниться. Редкое упоминание об Альфьери обходится без указания на его одержимость верховой ездой. «Без лошади я – полчеловека» – говорил итальянский поэт, он нуждался в умиротворяющем общении с лошадью. Получившее у врачей название иппотерапии чудодейственное воздействие запечатлено Чеховым в рассказе «Тоска». Граф Орлов, отставленный от государственных дел, занялся коннозаводством, чтобы смягчить приступы ипохондрии.
Альфьери с ранних лет страдал меланхолией, испытывая резкие перепады настроения, зато возле лошадей ему удавалось обретать душевное равновесие. Подражать Альфьери, занявшись верховой ездой, Пушкин решил, испытывая припадки тоски. Мои приятели-врачи студентами на лекциях в Мединституте слышали, что то были признаки маниакального психоза.
«Тогда смог я предаться занятию лошадьми, о чем давно мечтал», – пишет Альфьери о переломном моменте в своей жизни, когда он закончил Академию общеобразовательную и ему было позволено поступить в Академию специальную – обучения верховой езде.
Альфьери много путешествовал, заглянул в Россию, посещал Англию – страну скачек. Один из английских вояжей проделал «исключительно ради лошадей»: им было вывезено четырнадцать голов различных пород. На обратном пути с целым караваном пересек Альпы, сопровождая колонну верхом на коне.
«Немногим ниже ставлю я себя в сравнении с Ганнибалом», – говорит он, вспоминая горный переход знаменитого полководца и указывая отличие: – Ему переход стоил несметное количество уксуса, а мне – вина». Ганнибал растворял валуны на своем пути уксусом. Проводники Альфьери поддерживали себя вином за счет нанимателя.
«Байрон преуспел по всех видах спорта».
Томас Мур.
Пловец, боксер и фехтовальщик при врожденном увечье стопы. Скрученная стопа видна и в силуэте, вырезанном хорошо знавшей поэта женой его друга. В изустных преданиях и в рукописных свидетельствах Байрон и лошади неразлучны. Первый же англичанин, у которого по заданию Московского ипподрома, меня ещё студентом назначили переводчиком, едва я заговаривал о Байроне, прерывал мою речь: «Могу вас познакомить с Леди Вентворт». Было это во времена, когда несанкционированный контакт с иностранцами не поощрялся, предложение я отклонил, не имея понятия, кто такая эта Леди. Но по службе в Институте Мировой литературы, открываю английское «Поэтическое обозрение»: «Скончалась Леди Вентворт». Правнучка Байрона – лошадница. Разводила арабов. У неё Буденный покупал лошадей для конзавода под Змейкой, где так и ведутся породные линии от приобретенных им жеребцов.
Знал бы Пушкин: не больше часа езды верхом отделяло его Захарово от разговоров о нем и о Байроне! И каких разговоров – из первых уст: «Четверг 21-го мая [1825]. За вторым завтраком мы ели простогнашу, а затем пропели Экспромт в Иславском на музыку Геништы». Публикатор и комментатор этого английского дневника, знающая и дотошная американка, выбилась из сил, так и не выяснив, что значит «простогнаша», зато разъяснила, что теперь известно не каждому: Иосиф Геништа – русский композитор, чех по происхождению, автор романсов на слова Пушкина. А в произношении простокваши затруднялась англичанка, автор дневника. Обладала приятным голосом, но ей не без труда давались положенные на музыку Геништой пушкинская «Элегия» и «Черная шаль».
Иславское – подмосковное село, от Захарова до Иславского, даже если не гнать, сравнительно недолгий пробег. Имение Трубецких, у них в гувернантках жила и вела свой дневник Клер Клермонт, мимолетная любовь Байрона, имевшая от него ребенка. Клер находилась то в Иславском, то в Москве, когда Пушкин оставался в ссылке, зато она вращалась в пушкинском кругу среди родственников и друзей поэта. Однажды даже написала прямо по-русски «Пушкин» – без ошибки. В том же кругу Клер слышала часто произносимое имя Byron, заставлявшее учащенно биться её сердце. И чем восторженнее судили российские почитатели английского поэта, тем тяжелее становилось у неё на душе. Не раз говорит она о том, что ей невыносимо слышать похвалы ему, который когда-то для неё был Albe, солнечный восход и ослепительная белизна, а стал источником страданий и воплощением зла.
Личность Байрона имела над современниками власть не меньшую, чем его стихи. Поэт выступал перед читателями наравне с его поэтическими созданиями. Байрона читали и вели себя байронически. Был ли Байрон поп-звездой своего времени, как иногда приходится слышать? Нет, щеголи-стиляги той поры, вроде Бруммеля, известны разве что историкам, а Байрона и знаменитым мало назвать. Он, по определению Гете, был властителем дум. Каких дум, о том, вероятно, не догадываются представляющие автора «Дон-Жуана» всего лишь позёром. «Я заточенье полюбил» – ход байронической мысли, мучительной и неотступной, в переводе передано Жуковским, Достоевским развит байронический мотив самомучительства. Что для современников значил Байрон, есть пушкинские признания: «Мрачное, могущественное лицо, столь таинственно пленительное». Байрон был всё для Аполлона Григорьева и Афанасия Фета. Герцен считал Байрона выразителем радикального скептицизма, духовным наследником Шекспира, Гоббса и Юма. Когда фигура Байрона подернулась дымкой уходящего времени, Достоевский счёл нужным предостеречь: «Словом байронист браниться нельзя, – и пояснил: – Протест колоссальной личности воплотился в Байроне». Чехов, читая «Дон-Жуана» вне байронической эпохи, тем не менее, сделал вывод: «Здесь все мы!».
«Ездил верхом».
Из дневника Байрона.
Байрон, как и Альфьери, держал лошадей и ездил ежедневно. Лошади упоминаются у него в дневнике изо дня в день: «Ездил верхом… Ездил верхом…». Посетив Ватерлоо, поэт галопом пролетел по историческому ристалищу. Имеются сведения, что конь под ним был казацкий. И как знать, это мог быть ветеран эпохального сражения, оставшийся в тех краях с тех пор, когда там победно проходили казачьи полки. В сердце Западной Европы казаки оставили по себе память словом бистро и конской кличкой «Атаман Платофф» – скакун взявший Дерби. Байрон, очутившись на ратном поле, где решались судьбы мира, промчался по всем позициям, вернулся, дал коню остыть и – опять помчался…
Понимал ли поэт в лошадях? Знал, как писать о лошадях, чтобы верили, будто он истинный конник. А женщины? Строки поэта одаряли их бессмертием, послужить ему источником вдохновения, кажется, не жалко ценой мук ревности и боли расставания.
Нет слез в очах, уста молчат,
От тайных дум томится грудь,
И эти думы вечный яд. —
Им не пройти, им не уснуть!
Не мне о счастье бредить вновь, —
Лишь знаю я (и мог снести),
Что тщетно в нас жила любовь,
Лишь чувствую – прости! прости!
Перевод Лермонтова.
Слушая за обеденным столом разговоры о Байроне, Клер Клермонт не вмешивалась и не разглашала терзавшей её тайны. А хозяева не подозревали, как близко находятся к первоисточнику сведений о легендарном поэте. «Слышать не могу, – между тем пишет Клер Клермонт, доверяя дневнику терзающие её переживания, – как превозносят они этого обманщика. С умилением рассуждают они о том, какую заботу проявлял он о своих мартышках». О домашнем зверинце поэт не забывал, а собственную дочь оставил на руках у лицемерных корыстолюбцев, позволив ей умереть от небрежения.
«Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай!»
Байрон в переводе Пушкина.
Хозяева усадьбы в Иславском, упоминая Байрона, знали о его личной жизни, но им не приходило в голову, что гувернантка Дуни, их дочери, была матерью дочери Байрона. Внебрачными связями и незаконными детьми шокировать наше высшее сословие было нельзя. За тем же обеденным столом сиживали либо виновники, либо плоды тайных амуров. Среди наших первейших писателей есть и незаконные дети, и отцы незаконных детей. Бастрад занимает центральное место в толпе персонажей нашей «Илиады» – «Войны и мира». В деревне Ясная Поляна, у Толстого под боком, рос сын, похожий на него больше его законных сыновей. Но что позволено господам, того не простили бы гувернантке, подающей дурной пример.
Дочь Клер Клермонт, прижитая от Байрона и названная Яркой (Allegra), покорила поэта сходством с ним. По-началу он не верил слухам и сплетням, будто это его ребенок, однако увидев девочку, написал другу, посвященному в тайну её рождения: «Спора нет, это из Байронов». И чем крепче привязывался он к дочери, тем больше отчуждался от её матери. В конце концов согласился принять и растить внебрачного ребенка, однако при условии, что Клер откажется от материнских прав. Клер согласилась, но воспитывалась Аллегра по чужим людям, в монастыре, и пяти с половиной лет живая, веселая девочка угасла. Спустя два года не стало Байрона. «Я поехала в Россию, спасаясь от неотступных воспоминаний об ударах, что мне наносила моя неверная и мрачная Судьба, – писала Клер, – я бежала от призраков, казалось, неразлучных со мной».
«Прогулки над Москвой-рекой мне нравятся больше, чем в нашем саду», – запись в её дневнике в пору пребывания в Иславском. И сейчас за рекой виднеются те же поля, на которые смотрела Клер. Проезжал я на Зверобое упоминаемый ею пруд, уцелел и ставший детской больницей дом Трубецких. Клер бродила среди остатков обветшавшей усадьбы и видела развалины храма Юпитера, а я увидел статую Ленина перед магазином, где расхожими (подчас единственными) товарами были хлеб и водка. Ленинская статуя выглядела воплощением иронии истории: в полный рост фигура лысого человека, в распахнутом пальто, кепка сорвана с головы, зажата в одной руке, а другая – собрана в кулак, руки разведены в стороны, ноги широко расставлены, голова вздернута, рот полуоткрыт, будто стоящий на постаменте вопит: «Что же это творится?!!!».
Недавно в архивах кроме дневника Клер Клермонт обнаружили её воспоминания. Поэт, пишет Клер, оказался чудовищем. «Это был тигр (с ошибкой в слове «тигр»), удовлетворявший свою ненасытность, причиняя боль беззащитным женщинам».
Байрон успел ответить на упреки. «На моем месте, – писал он другу, – если ты живой человек, как бы ты поступил, если на тебя бросается семнадцатилетняя девушка в расцвете лет?». Выходит, был тигр, была и тигрица. Что решилась бы предпочесть юная душа, если бы ей предложили выбор между разбитым сердцем и поэтическим бессмертием?
Вся глубь небес и звезды все
В её очах заключены.
Как солнце в утренней росе,
Но только мраком смягчены.
Прибавить луч иль тень отнять —
И будет уж совсем не та
Волос агатовая прядь,
Не те глаза, не те уста
И лоб, где помыслов печать
Так безупречна, так чиста.
А этот взгляд, и цвет ланит,
И легкий смех, как всплеск морской, —
Всё в ней о мире говорит.
Она в душе хранит покой
И если счастье подарит,
То самой щедрою рукой.
Перевод С. Я. Маршака.
Прядь дамских волос увидел я в руках Мёррея, потомственного издателя. В семействе Мёрреев были разные имена, но перед публикой каждый представал «Джоном Мёреем» – под очередным номером. Байрона при жизни печатал Мёррей Второй, с Мёреем Шестым мы стояли у камина, где были сожжены мемуары поэта по настоянию покинутой жены:
Свершилось всё – слова напрасны,
И нет напрасней слов моих;
Но в чувствах сердца мы не властны,
И нет преград стремленью их.
Прости ж, прости! Тебя лишенный,
Всего, в чем думал счастье зреть,
Истлевший сердцем, сокрушенный,
Могу ль я больше умереть?
Перевод И. Козлова.
В доме Мёрреев на лондонской улице Эбемарл, 50 те же стены удерживают атмосферу далекой эпохи. Посетитель-американец (рассказал Шестой) вознамерился байроновские мемуары восстановить из воздуха. Его отговаривали: слова вместе с пеплом улетели в трубу, уцелел лишь клочок от рукописи с ничего не значащим фрагментом фразы.
Публиковать мемуары в свое время было немыслимо, на это Байрон и не рассчитывал: «Не раньше, чем через много лет, когда уже никого из упомянутых не будет в живых». Почему же рукопись уничтожили, а не сохранили в тайнике? Основная причина – настойчивое желание покинутой жены вытравить признания кратковременного мужа в грехах, о которых он рассказывал в мемуарах и намекал в стихах, посвященных сестре:
Ты одна не шатнулась душою,
В нежном сердце твой брат не упал,
И любовь, столь ценимую мною,
Я в тебе лишь одной отыскал.
Перевод Ольги Чуминой.
Пушкин, садясь в седло, подражал Байрону и следовал ему, оправдывая плотское влечение к сестре, что нашло отражение в пушкинских строках, подчас нескромных (как в телевизионных передачах полагается предупреждать употребление нецензурной лексики), приведу поскромнее:
Быстрою стрелой
На невский брег примчуся,
С подругой обнимуся…
Биографы Байрона, изучавшие историю уничтожения мемуаров, сошлись на том, что узкий круг причастных, выражая заботу о посмертной репутации поэта, преследовал и свои интересы. Ближайший друг Байрона барон Браутон высказался за уничтожение мемуаров, которых не читал, но заведомо знал, что личные признания всегда нескромны, а скандал мог отразиться на репутации его – члена Палаты лордов. Со своей стороны Мёррей Второй, издатель, подозревал, что Томас Мур, биограф поэта, обладатель рукописи и единственный, кто противился уничтожению мемуаров, намеревается их сбыть издателю-конкуренту. Вот и решили, пусть лучше никому не достанется. Разодрали две переплетенные тетради и предали огню.
На долю Шестого из Мёреев всё-таки осталось предостаточно, он выпустил двадцать два тома переписки поэта, но издателю всё казалось мало. «Ищите письма Байрона у вас в стране, ищите!» – повторял Шестой во время нашей беседы, полагая, что есть не выявленные русские корреспонденты Байрона. Когда же я сказал, что ездил верхом через Иславское, наследственный издатель поэта уподобился охотничьей собаке, услыхавшей посвист вальдшнепов.
Проезжая по косогору, где прогуливалась Клер Клермонт, загляделся я на округу, упоминаемую в её дневнике, задумался, затянул повод, Зверь прянул назад, и поползли мы вниз по косогору, мы – с лошадью. Зверь не сразу опомнился и не сделал попытки со мной расправиться. Хмыкнул, будто хотел сказать: «Ну, и ездок!».
Выслушав сообщение неприглашенного посетителя о поездке по следам Клер Клермонт и, возможно, желая пойти со своего козыря, Меррей Шестой порывистым жестом открыл ящик письменного стола и оттуда извлек копну дамских волос цвета вороньего крыла.
На прощание издатель повторил: «Ищите письма Байрона, ищите!». Писем я не нашел, послал на лондонский адрес том «Литературного наследства» с переводом дневника Клер Клермонт. Перевод сделан академиком М. П. Алексеевым. Обладавший редкостным чутьем изыскателя, Михаил Павлович установил: Клер Клермонт и есть «дочь Альбиона». Да, та самая, известная нам из чеховского рассказа. Предания о ней докатились до молодого писателя-врача, начинавшего клиническую службу в Звенигороде, неподалеку от Иславского.
«Он не изменит, он не обманет».
Песня Казбича.
… Прочел статью о лошадях в жизни и творчестве Лермонтова. Статья старательная и содержательная, но авторы, видно, вроде меня, интересующимися лошадьми литераторы – не конники. Иначе не спутали бы с орловцем орлово-растопчинца, лермонтовского коня по кличке «Парадер». Никого касательно лошадей учить не смею – натерпелся от знатоков. «Для меня, молодой человек, – сказал один из них, – ваши суждения веса не имеют». И было это сказано после восторженных слов по его же адресу! Окружала меня обстановка безжалостной требовательности, хорошо, не гнали.
Содержательная статья заставила меня задуматься над вопросом, ответ на который для авторов был, кажется, ясен: любил ли Лермонтов лошадей? О том говорят его стихи, рисунки и повесть «Бэла». Как говорят – колдовство! У меня, прямо скажу, стоит вспомнить «Горные вершины» и «Выхожу один я на дорогу», начинает шуметь в голове. Перечитывал несчетное число раз и каждый раз
– головокружение. Лермонтовским стихам не нужна даже музыка, романсы огрубляют стихи, слова поэта и есть музыка. Лермонтову было доступно мистическое, за что и Пушкин не брался, а если брался – не получалось.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.