Текст книги "Кротовые норы"
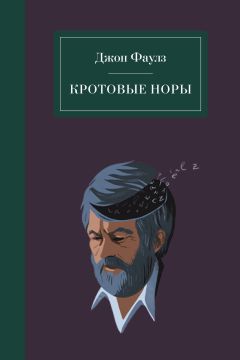
Автор книги: Джон Фаулз
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
III. Литература и литературная критика
Мои воспоминания о Кафке (1970)
В каком-то смысле я хорошо подготовлен к тому, чтобы написать этот очерк, поскольку читал почти все, написанное Кафкой, еще в Оксфорде, когда был студентом – более двадцати лет назад, – и с тех пор не прочел ни единого его слова. Я совершенно уверен, что провалил бы даже самое элементарное школьное сочинение о его творчестве. Вы, конечно, подумаете – только дурак может, не зная броду, соваться в воду. Но чуть позже (пятясь, словно рак, как это мне свойственно) я надеюсь показать моим читателям, что можно кое-что сказать о средненормальном невежестве больших писателей. Ясно, что предложить какой-то новый взгляд на Кафку я не смогу; все, на что я способен, так это попытаться описать, в стиле натуралиста, работающего в поле, реальность его присутствия в моем культурном ландшафте. К этому описанию я намерен присовокупить некоторые размышления по поводу дилеммы, главной для всякого пишущего романиста, дилеммы вовсе не новой самой по себе, но такой, из-за которой все мы сегодня испытываем неловкость и к которой посмертное влияние Кафки и его, так сказать, «статус» по-прежнему имеют самое прямое отношение.
Мой подход может сослужить мне службу в том смысле, что подчеркнет: этот очерк пишется практически работающим писателем, а не университетским литературоведом, и более того – писателем, которого не вполне устраивают сегодняшние взаимоотношения между преподавателями – и преподаванием – литературы и профессиональными литераторами. Я вовсе не убежден в том, что сочинитель литературных произведений – будь то прозаик или поэт – должен искать руководства под эгидой университета. Никто не пошлет потенциального жреца жизни обучаться в школе ритуальных услуг, каким бы полезным и блестяще выполняющим свои задачи это учреждение ни оказалось; точно так же, коль речь идет об искусстве, где столь высок спрос на индивидуальность, независимость и широту взглядов, молодой писатель не может безопасно войти в среду, озабоченную «ритуалами» прошлого, кодификацией и диссекцией целей и методов литературного творчества.
Вероятно, преподаватели литературы могли бы многому научиться у биологической науки. Здесь в течение последних двух десятилетий нарастала существенная неудовлетворенность ограниченностью лабораторных наблюдений, не дающих надежных сведений о том, как на самом деле ведут себя птицы и звери в естественных условиях; теперь нам стало известно, что помещенные в клетку животные приобретают массу атипичных поведенческих черт – результат комплексного «клеточного» невроза от жизни в неволе. Подозреваю, что литературоведы и критики должны бы больше времени уделять этологии[263]263
Этология – наука, изучающая поведение животных в естественных условиях.
[Закрыть] субъектов исследования: как ныне живущие (за пределами университетского кампуса) писатели ведут себя, что они чувствуют. Слишком часто нас удостаивают квазинаучными взглядами на других писателей – писателей прошлого, а также вполне осознанным и нарочитым встраиванием тех же взглядов в анализ нашего творчества. Я намереваюсь – несколько ниже – в интересах такого этологического изучения homo scriptor[264]264
Человек пишущий (лат.).
[Закрыть] записать именно то, что помню (разумеется, без того, чтобы обращаться к текстам или справочникам) о жизни Кафки, о его творчестве. Ученым это вряд ли придется по душе.
Как это приходится делать даже самым легкомысленным писателям, я должен был все чаще и чаще задумываться над проблемами стиля – и в своем собственном творчестве, и вообще. Довольно скоро обнаруживаешь, что большая часть трудностей возникает именно в этой области; то есть я имею в виду, что по мере того, как становишься старше, все меньше затруднений возникает из-за сомнений в том, что ты хочешь сказать, или из-за неуверенности в правильном выборе главной метафоры (в самом широком смысле этого слова), несущей основную идею. Я вовсе не хочу сказать, что проблемы повествовательности, развития характеров персонажей и символичности могут быть сняты одним мановением волшебной палочки – творческого опыта; дело скорее в том, что начинаешь понимать: вероятнее всего, со временем ты сумеешь разрешить большинство проблем в этих областях, раз удавалось как-то по-своему справляться с ними прежде.
Когда-то я с удовольствием писал первые главы романов. У меня есть определенные способности к повествованию, и я тогда полагал, что нет ничего проще, как писать первые главы новой книги… все равно как, бывает, нам кажется – и очень часто, – что нет ничего проще, чем преодолеть первые склоны горы, на которую собираешься взобраться. Но теперь первые главы стали для меня самым настоящим кошмаром. Оказывается, я не способен работать, пока не отыщу подходящий ракурс, с которого следует «вести съемку», точно соответствующий замыслу тон или голос, и – самое важное и самое сложное среди всего прочего – свой внутренний настрой, точно отвечающий теме книги. Любопытно, что найти соответствующий настрой в персонажах не так трудно, но это не разрешает реальной проблемы, возникающей между горшечником и глиной, поскольку самый легкий, опасно легкий путь здесь – это позволить глине диктовать горшечнику форму. Обычная история – стоит лишь дать персонажам головы и сердца, как они с радостью ухватятся за возможность самим писать вашу книгу; если пользоваться не столь антропоморфными терминами, писатель может просто дать волю своим менее высоким талантам, что обычно приводит к серьезным нарушениям в глубинной структуре книги и в ее замысле. Такие характерные нарушения мы встречаем, например, в романах Диккенса: для него они весьма характерны.
Здесь я предполагаю поразмышлять немного об аспекте «соответствующего голоса» в писательском ремесле. К настоящему моменту вы, надеюсь, уже увидели, как это увязывается с Кафкой, поскольку ни один современный писатель не достиг большего своеобразия стиля и голоса, большей определенности аромата и вкуса в продукции литературной кухни. Мы видим это в обыденном общении (обыденном, по крайней мере пока, для людей образованных), в обычной беседе, когда реальность заставляет вспоминать об образах кафкианского мира. Позвольте привести здесь несколько примеров, подмеченных мною недавно.
«Это могло бы быть просто чем-то из Кафки!», «Сумасшедший дом какой-то. Кафка чистейшей воды!», «Знаете, кому бы там вот как понравилось? Кафке!» (Описываются личные особенности и различные события.)
«Где-то между Льюисом Кэрроллом и Кафкой». (Из доклада о процессах в Чикаго.)
«Кафка жив!» (Студенческий плакат на демонстрации в знак протеста против университетской бюрократии.)
«Разжиженный Кафка». (Из рецензии на новый фильм.) Что можно сказать обо всех этих, таких знакомых, попытках сделать Кафку полезным инструментом для описания ситуаций? Прежде всего такое употребление, вполне очевидно, восполняет недостачу в существующем инструментарии; оно заключает в одном слове (и притом фонетически напоминающем о чем-то довольно приятном: «каф-ки-ан-ский» – сильный-слабый-сильный-слабый… словно шлепанцы на ступенях пустой лестничной клетки) то, что прежде требовало по меньшей мере прилагательного с обстоятельством: «удушающе бюрократический», «необъяснимо зловещий», «разочаровывающе непостижимый» и т. п. Во-вторых, такое обыденное использование на самом деле есть всего лишь экстраполяция внешней, поверхностной видимости, а не глубинной сути творчества Кафки. Не принимается в расчет метафизический его аспект; более всего помнится ощущение бессмысленности процесса и крах, особенно в связи с личным провалом, невозможностью добиться самого элементарного обслуживания, самого простого ответа от какого-то огромного безличного учреждения – министерского департамента, отеля, большой фирмы. В-третьих, на самом деле вовсе не обязательно даже читать Кафку, чтобы вот так его использовать. По сути дела, это слово следует набирать просто без кавычек: кафкианский.
Наконец, такое экстраполирующее употребление творчества писателя (или злоупотребление им) не так уж часто встречается. Такого не случалось со многими столь же или более значительными авторами. Большинство адъективных форм, образованных от писательских имен, которые на слуху или часто попадаются на глаза, в реальности оказываются просто историческими или критическими ярлыками и не проникают в широкий обиход вне литературного контекста: шекспировский, вольтеровский, шовианский, диккенсовский и другие в том же роде. Возможно, определение «диккенсовский» и имело в свое время более широкое употребление. Полагаю, оно могло означать что-то вроде «забавно гротескный», «отдающий старыми добрыми временами», но самый факт того, что такое употребление отошло в прошлое, заставляет предположить, что оно было тесно связано с той особой гротескностью, со старыми пиквикскими временами, которые были созданы Диккенсом. Существуют также писатели, чья «адъективная ценность» строго ограничивается рамками дискуссий об их творчестве. Причины этого вовсе не в недостаточной популярности авторов, не в том, что работы их не столь превосходны, маловлиятельны или не оригинальны и пр., и пр. (взять хотя бы английский роман XIX века); мы не обнаружим употребления вне этого контекста таких имен, как Остин, Скотт, сестры Бронте (впрочем, хитклифовский попадается все чаще[265]265
…впрочем, хитклифовский попадается все чаще… – Хитклиф – главный персонаж романа Эмили Бронте (1818–1848) «Грозовой перевал» (1846)
[Закрыть]), Теккерей, Джордж Элиот. Лишь троллоповский, хардиевский и джеймсовский, кажется, обрели жизнь вне литературных стен, но ни одно из этих прилагательных не идет ни в какое сравнение с прилагательным «кафкианский».
Короче говоря, кажется, прилагательное «кафкианский» относится к редчайшей категории. Другим вполне очевидным кандидатом туда же является раблезианский[266]266
С подобной же экстраполяцией поверхностной видимости: «по-доброму непристойный». – Примеч. авт.
[Закрыть]; еще одним – по крайней мере здесь, в Британии, – чеховский. Можем ли мы усмотреть здесь некий общий фактор? Во всяком случае, ясно одно. Их творчество довольно тесно (что вовсе не означает – неглубоко) охватывает четко ограниченные области человеческого опыта или чувств, этим опытом порождаемых. У Рабле это восторг, вызываемый опытом физическим; у Чехова – чувство тщеты, пустоты жизни; у Кафки – чувство разочарования, преследования, издевательств. А ведь подобный опыт и подобные чувства повсеместны, однако они, очевидно, не находили адекватного определения или названия до тех пор, пока не явились прославившие их гении. У Кафки мы можем увидеть особую сфокусированность, особую направленность интереса, позволяющую связать непосредственные последствия промышленной революции с ужасами Дивного нового мира.
Этот тип использования имени автора скорее ближе к тому, как используются имена Галилея, Ньютона, Дарвина, Фрейда или Эйнштейна: галилеевский, ньютоновский и т. п. Я-то полагаю, что в этом направлении путь литераторам (какая ирония, что именно Кафке это оказалось так легко и просто!) был проложен учеными. Чисто литературный гений имеет к этому весьма малое отношение. Упомянутые мной писатели – все трое – анализировали и исследовали «темные» стороны всечеловеческого жизненного опыта. В этом ракурсе Рабле был первым исследователем этики общества вседозволенности; Чехов – психологии неудачника; Кафка – экзистенциальной социологии, бытия и небытия. Но самый странный из напрашивающихся выводов заключается в том, что все трое, должно быть, строили свое творчество на собственной фундаментальной реальности гораздо большей значимости, чем многие откровенно реалистические писатели. Лучше всего этот парадокс виден в творчестве четвертого писателя, вполне достойного дополнить это трио: я имею в виду Льюиса Кэрролла. Хотя он и не удостоился того, чтобы из его имени сделали прилагательное, его произведения очень часто цитируются в применении к определенным, часто встречающимся ситуациям. Мы знаем, что в книгах об Алисе присутствует – хотя и глубоко скрытый – плотный слой математической логики; а в Доджсоне мы, несомненно, узнаем ученого пионера-исследователя как в области юмора, так и в области психологии, если не в математике самой по себе, – хотя зеркальная вселенная и антивещество современных физиков, вне всякого сомнения, очень пришлись бы ему по душе. Но, по-видимому, его символический мир слишком абстрактен и расплывчат, чтобы прилагательным «кэрролловский» или «алисийский» удалось проскользнуть в наш повседневный словарь. Такая жалость! Я, например, не смог бы подобрать лучшего слова для определения той внешней политики, какую ведут Соединенные Штаты последние несколько лет.
Однако позвольте мне отпрыгнуть назад, к красной тряпке, которую я вывесил для университетского быка в первом абзаце этого эссе. Разумеется, весьма существенно, чтобы преподаватель литературы был хорошо знаком с текстами, о которых он рассуждает, и вполне понятно его возмущение, когда он слышит, что кто-то позволяет себе более или менее хвастаться тем, что не знает предмета. Однако жестокая (и, возможно, в большинстве случаев полезная) правда о ситуации с большинством практикующих писателей заключается в том, что то, что мы производим на свет, будет идти так, как у меня получается с Кафкой: будет в лучшем случае становиться смутным воспоминанием, а часто и вообще сотрется из памяти на протяжении огромного пространства жизни наших читателей. Коротко говоря, мы ведь пишем не для тщательного «лабораторного» изучения, но для обычных читателей, чей ум зачастую далеко не внимателен; не для того, чтобы наши писания стали предметом специального изучения, а для кратковременного, словно вспышка молнии, переживания в многообразной жизни неспециалиста.
Разумеется, я вовсе не хочу этим сказать, что мы и не хотим остаться в памяти читателей. В век, когда величайшим интеллектуальным преступлением стала считаться претенциозность, очень мало говорят о былом пристрастии литераторов к aere perennius[267]267
Нерушимый, вечный (букв.: крепче бронзы). Часть строки из стихотворения «Памятник» римского поэта Горация (65–8 до н. э.).
[Закрыть]. Думаю, все считают, что ни один приличный писатель (или писательница) не допустит, чтобы такая вульгарная и нагло-высокомерная мысль хотя бы на малый шаг приблизилась к его (или ее) пишущей машинке. Во всяком случае, теперь стало почти аксиомой, что книги хорошего писателя должны плохо продаваться. Я полагаю, что вопрос о влиянии на писателя того, как он сам относится к диаграмме собственного успеха, остро нуждается в отдельном этологическом рассмотрении. Ни за что не поверю, что какой-либо писатель – за исключением самых низменно-коммерческих авторов – не испытывает мощнейшего влияния мысли о своей будущей репутации, когда пишет. Финансовые соображения могут заставить писателя – на некоторое время – поверить в то, что большой аванс и высокая «продаваемость» книги – главная польза от литературных занятий, а быстрый успех, несомненно, кружит голову и вызывает стремление к повторению… как и всякий другой наркотик: ведь успех – это единственная компенсация за провал в реальной жизненной гонке. В конце концов, я могу понять, когда девушка решается пару раз продать себя – ради освобождения от необходимости продаваться, но не для того же, черт возьми, чтобы на всю жизнь остаться проституткой.
Одним из возможных способов удовлетворить это стремление к увековечению имени является творчество не ради широкого круга читателей, но для узкого круга специалистов; отсюда можно сделать поспешный вывод, что, поскольку университетский литературный истеблишмент есть главный арбитр непреходящего значения, то лучше всего адресоваться именно к нему. Тогда за спиной писателя встают фигуры высоколобого журнального критика и университетского профессора – преподавателя литературы. Если я могу удовлетворить их утонченный и взыскательный вкус, зачем мне беспокоиться о ненадежных и непамятливых людях толпы где-то там, вне увитых плющом университетских стен?
Одна из существенных причин для такого беспокойства, мне думается, та, что искомым критерием должен быть не столько какой-то (полумифический) литературный истеблишмент, сколько былые и теперешние писатели, которым случилось войти в интеллектуальную моду в каждую данную эпоху. Есть опасность оказаться в фатальной близости к этим ревнивым божествам – и их столь же ревнивым жрецам и приверженцам. Однако я такое решение отвергаю в основном потому, что оно как бы пренебрегает должным процессом и скорее напоминает стародавний обычай уклонения от справедливого суда, когда аристократы имели право требовать, чтобы их судили равные им по положению, а также и потому, что отрицает долг любого из искусств, который заключается в том, чтобы (пусть даже всего лишь развлекая) улучшать общество в целом. Я гляжу на краткий путь от Парнаса до Академических рощ с великим подозрением: возможно, академия, университет и были первыми, кому время от времени удавалось открыть истинные достоинства непризнанного автора, но это не освобождает нас, писателей, от того, чтобы предстать перед судом публики. Именно оттуда следует нам начинать, именно там – заканчивать. Таково наше предназначение: иной честной судьбы нам не дано.
Ученое университетское внимание, какое каждый писатель надеется когда-нибудь заслужить, есть на самом деле некая особая абстракция, уход от реальной аудитории: именно так и следует писателю к этому относиться. Наша истинная задача – запечатлеть что-то достаточно прочное на гораздо более твердой поверхности – в умах широкого круга читателей; я хочу использовать остающееся мне пространство эссе для того, чтобы поразмышлять об этом, и особенно о той роли, какую играет обретение соответствующего голоса в таком запечатлении.
Но сначала я напишу о том, что помню о Кафке. Надеюсь, теперь станет ясно, почему мне так удобно – хотя это и стыдно, – что я не перечитывал его произведений в последние двадцать лет. Мне хочется передать представление об общем, ординарном характере читательской памяти ординарно забывчивого человека – короче говоря, о том, что в ней остается.
Не могу вспомнить ни одного эпизода из Кафки, за исключением того, где человек, лежащий в постели, превращается в таракана. Мне кажется, это было в рассказе, который называется «Превращение». Помимо этого образа, ничего конкретного вспомнить не могу. Не знаю, что Кафка хотел сказать этой историей. Я почти уверен, что в «Замке» рассказывается о человеке, который пытается поговорить с кем-то в замке. Он живет в гостинице поблизости? Не могу поклясться, что так это и есть. Не помню, удалось ли ему вообще когда-нибудь попасть в этот замок и о чем именно он хотел спросить, не помню ни хода действия, ни заключения. «Процесс» начался с немотивированного ареста и от начала и до конца был рассказом о человеке, тщетно пытавшемся выяснить, за что его арестовали и в чем обвиняют. Опять-таки в памяти – ни одной детали. «Америку» его я так и не прочел. Читал другие его короткие произведения, но воспоминаний о них у меня вовсе не сохранилось. Почти уверен, что еще в Оксфорде прочел биографию Кафки, написанную Максом Бродом (раз уж я помню, что есть такая книга), но не помню из нее ни единого факта. Думаю, Кафка жил примерно между 1870 и 1930 годами, но могу ошибиться[268]268
Думаю, Кафка жил примерно между 1870 и 1930 годами, но могу ошибиться… – Франц Кафка родился в Праге в 1883 г. и умер в 1924 г. При жизни опубликовал всего две работы – «Приговор» (1916) и «Превращение» (1917). Романы «Процесс» (1925), «Замок» (1926) и неоконченный «Америка» (1927) были посмертно опубликованы другом писателя Максом Бродом вопреки запрету автора, выраженному в его завещании.
[Закрыть] лет на десять и в ту, и в другую сторону. Не знаю, был ли он женат или нет, как зарабатывал себе на жизнь и где… Почему-то он ассоциируется у меня с Веной, но вполне возможно, что я просто путаю его с Фрейдом или с Шубертом, а то и еще с кем-нибудь.
Вот видите – ужасающее признание в невежестве. И при этом я собираюсь не только шокировать, но и оскорбить читающих эти строки утверждением, что – по моим ощущениям – я хорошо знаю Кафку, он хорошо мне известен (сказать: незабываем – вряд ли было бы теперь уместно): настолько хорошо, что мне нет необходимости его перечитывать. Что мне действительно хорошо известно в его творчестве, так это его дух, тон его голоса, краски (или их отсутствие), тенденция и подспудный смысл его работ, его блистательная единая метафора. В моей памяти два его великих романа слились в один и, по правде говоря, представляются чуть ли не двумя вариациями одной и той же темы: вполне возможно, что это совершенно неоправданное и неуклюжее их соединение. Я не припоминаю, чтобы чтение Кафки было таким уж приятным занятием; в моем студенческом мозгу отложилось лишь впечатление чего-то совершенно особого, какого-то необычного нового оттенка и поразительной новой формулировки вопроса (или жалобы) о существовании человека. Может быть, оттого что я англичанин, выросший и получивший образование очень далеко от Центральной Европы, я не нашел особой эмоциональной привлекательности в его произведениях – ничего похожего на нежную привязанность, какую испытываю к Чехову, например. Вне всякого сомнения, что-то в Кафке противоречило, с одной стороны, присутствовавшей во мне доле английского эмпиризма, с другой – столь же свойственному мне как англичанину романтизму. Он воспринимал собственные фантазии слишком уж всерьез. Вовсе не в фантастическом или сатирическом английском духе.
Но, высказавшись обо всем этом достаточно недобро, я признаю, что Кафка оказал на меня влияние. Несколько немецких критиков сообщили мне об этом. Два других названия «Волхва» были «Лабиринт» и «Игра в Бога», а в первом наброске этой книги стиль и «атмосфера» были гораздо более кафкианскими. Не думаю, что этим вещам следует придавать такую уж большую важность, поскольку невозможно даже подумать о романе со сколько-нибудь значительными элементами наваждения, который не позаимствовал бы чего-то у Мастера, скорее можно было бы представить себе снабженную всеми необходимыми продуктами кухню без черного перца.
Итак, Кафка оставил мощный «образ» в моей не столь симпатизирующей ему и далекой от совершенства культурной памяти. Могу ли сказать, как именно это было сделано? Сам я думаю, что главное – в особом тоне его голоса, в стиле, абсолютно соответствующем содержанию, а не в чем бы то ни было в самом содержании его книг. В этом он всегда остается совершенно особенным. Никто больше так не «говорил». Такое впечатление, что Кафка расчистил вокруг себя определенное пространство в истории литературы и благодаря этому стал как бы вехой, контрольной точкой для всех писателей, явившихся после него. И, более того, вехой, слишком приближаться к которой – иными словами, подражать – весьма опасно. Она обладает странным магнетизмом, каннибальским характером. На этой территории нарушители будут непременно наказаны – за плагиат.
Все сказанное возвращает меня к дилемме современного писателя, пытающегося создать собственное vita brevis, ars longa[269]269
Жизнь коротка, искусство вечно (лат.).
[Закрыть] или, говоря более практично, стремящегося найти такой метод, что пробьет холодный гранит массового равнодушия и забывчивости. Кафка стоит и будет стоять прочно, как столп, символизирующий высший пример такого уникального метода. Он требует от писателя ограничения себя одним полем (которое может иметь универсальную значимость и актуальность) и разработки уникальной «методологии» для исследования и описания природы, «законов» и проблем этого поля. Ясно, что выбор метода здесь столь же важен, как и выбор поля. Неразрешимые тайны бытия, пустота общества, параноидальное чувство, что человек обречен стать жертвой, – понимание всего этого существовало и нашло свое выражение еще у досократовских философов, да и, по правде говоря, уже в самом первом и самом недооцененном из всех недооцененных литературных шедевров – «Сказании о Гильгамеше»[270]270
…в самом первом и самом недооцененном из всех недооцененных литературных шедевров – «Сказании о Гильгамеше», – Гильгамеш – легендарный правитель Урука, шумерского города-государства (первая половина III тыс. до н. э.), герой одного из наиболее сохранившихся произведений древней литературы (эпопеи на двенадцати табличках из библиотеки Ашшурбанипала в Ниневии).
[Закрыть]. Это было имплицитно и эксплицитно выражено во многих произведениях писателей, творивших до Кафки, – у Достоевского, Золя, даже у Диккенса, у всех великих авторов трагедий. У Кафки фундаментальное значение имеет то, как сказано, а не то, что сказано.
Неспособность увидеть это и объясняет, почему столь многие из пытавшихся преодолеть взятую Кафкой вершину потерпели неудачу. Особенно опасным подъем к ней делает один из наиболее свойственных Кафке подходов – отрицательное отношение к персонажу. Не думаю, что одна лишь плохая память повинна в том, что мне не удается припомнить конкретные эпизоды его произведений. Разумеется, в его намерения отчасти входило, чтобы в читательских умах оставалось впечатление об общем процессе в целом, не о его деталях, и – разумеется – такой подход существенно важен, просто великолепен для достижения поставленных целей. Нельзя диагностировать анемию у пациентов с нормальным составом крови или невротическую депрессию, связанную с комплексом неполноценности, у глупо-самодовольных. Во всяком случае, я полагаю, именно это заводило многих писателей если не в тупик, то в немыслимые ситуации.
Самая известная из таких «немыслимых ситуаций» – французский nouveau roman. Здесь Кафка сыграл роль гамельнского дудочника. Даже если сбросить со счетов тот труднопреодолимый барьер, что создается разницей в риторических традициях (langue écrite[271]271
Язык письменный (фр.).
[Закрыть] и langue parlée[272]272
Язык устный (фр.).
[Закрыть]) и значительно большей, чем у нас, приверженностью французов – на протяжении всей их культурной истории – к чистоте стиля, я полагаю, теперь уже все признают, даже и в самой Франции, что эксперимент nouveau roman провалился в попытке доказать предложенный тезис. Первые успехи nouveau roman на самом деле были tours de force[273]273
Букв.: проявления силы; здесь: демонстрации силы (фр.).
[Закрыть] метода письма и явились доказательством чего-то совершенно противоположного утверждениям Роб-Грийе о том, что гораздо большая «правда» может быть достигнута, если выбросить за борт все прежние методы создания персонажей и повествования. Реально удалось доказать лишь то, что и правда можно добраться из Виннипега в Монреаль, следуя в западном направлении, но выбор направления более очевидного все же сделает путешествие гораздо более приятным для ваших попутчиков – то бишь ваших читателей.
Можно утверждать как аксиому: антиперсонаж требует не только нереалистического фона (то есть времени и места действия), но и нереалистического (или мифического) замысла и такой же жизненной философии автора. Сам Кафка великолепно реализовал эту аксиому. Даже самые страстные его поклонники не станут утверждать (во всяком случае, я надеюсь, что не станут), что его заключения о положении человека и еще менее – о реакциях человека на это положение (даже если мы приняли основные посылки автора) есть реалистическое изображение того, что происходит. Приходится сказать что-то вроде: он передает то, как мы порой чувствуем и воспринимаем разные вещи, когда испытываем отчаяние или погружаемся в депрессию. Во всех широко распространенных формах экстраполированного использования, о которых я упоминал выше, присутствует ощущение абсурдного. Реальная жизнь вдруг стала «чем-то из книжки», представилась нереальной. Кафка воздвигает модель гипотетической вселенной, которая гораздо хуже действительности. А это метод гораздо более характерный для жанра трагедии, чем для романа. Никому никогда и в голову не приходило обвинять трагедии «Царь Эдип» или «Лир» в недостатке реализма, поскольку все мы приучены совершать необходимый метафорический прыжок, чтобы попридержать то, что составляет наши обыденные представления о реальности.
Но здесь мы встречаемся с парадоксом. Что-то в романе изо всех сил стремится к реализму в обыденном значении этого слова, точно так, как в поэзии или драме что-то стремится от него прочь. В том смысле, что вся литература есть попытка уйти от железной реальности, стремление выйти за ее пределы, можно было бы сказать, что прозаическая литература – последней из крупнейших литературных форм явившаяся миру – выказала менее всех доблести в этом предприятии. Реже всех остальных она выходит за пределы реальности; она остается в стенах этой камеры и пытается с ней ужиться. Каждый романист прошел через этот опыт (или, может быть, «переживание» будет здесь более подходящим словом) борьбы между желанием быть верным жизни как она есть и стремлением остаться верным собственным «искусственным» теориям относительно ее природы, назначения и всего остального. Следует признать – nouveau romanciers[274]274
Здесь: представители «нового романа» (фр.).
[Закрыть] не откажешь в значительной доле мужества именно в этом отношении; и возможно, что их закончившееся поражением наступление было не более напрасным, чем потерпевшая поражение атака кавалерийской бригады, неверно выбравшей место сражения. Хоть один раз на это надо было пойти – во что бы то ни стало, так сказать. Можно подойти ко всему этому и с другой стороны, сравнив, скажем, трагические романы Томаса Гарди с романами Кафки. Гарди совершенно четко оказывается внутри «камеры», о которой я говорил выше. Хотя вся техника и очищающий эффект таких романов, как «Тэсс из рода д’Эрбервиллей», могут показаться подобными технике и катарсису классических трагедий, атмосфера и текстура сюжета реалистичны. Еще более ясно это видно в произведениях Золя. Весьма симптоматично, что все попытки поставить произведения Гарди в театре и кино жалким образом провалились. Не знаю, подвергались ли романы Кафки столь же нелепым изменениям, но я мог бы ожидать, что его произведения переживут преображение гораздо лучше.
Кафка всегда казался мне ближе к Беккету, чем к другим писателям нашего времени, поскольку он, как ни странно, оказался так далек от архисоздателя положительного персонажа (и учителя Беккета) Джеймса Джойса. Подозреваю, что наша теперешняя система классификации литературы испытывает крайнюю нужду в собственном Линнее, и я уверен, что он увидел бы в Кафке гораздо больше от трагического драматурга, чем собственно романиста. Кафка плавал в наших водах, но от этого стал не более рыбой, чем Моби Дик[275]275
Моби Дик – имя огромного белого кита, центральной фигуры одноименного романа (1851) американского писателя Германа Мелвилла (1819–1891).
[Закрыть].
Однако на этот раз я отплыл довольно далеко в поисках ответа на вопрос о том, разумно ли подражать Мастеру и имитировать его метод. То, что перед нами, возможно, прячущийся под маской романиста трагедийный драматург, не так уж не относится к делу; и впрямую к нему относится то, что обретение Кафкой особого «голоса» зависело от весьма сложного комплекса сопутствующих необходимых условий, особенно тех, что кажутся более свойственными центральноевропейской ментальности и культурному обрамлению, чем англосаксонским. Не припомню ни одного произведения на английском языке, которое могло бы отдать должную дань Мастеру. Самый блестящий из наших собственных мифотворцев – Джордж Оруэлл – произрастает в гораздо большей степени из английской сатирической традиции. Некоторые из новых чешских и польских писателей – на ум приходят Гавел, Грабал, Мрожек – больше преуспели в этом, но, кстати говоря, двое из них – драматурги.
Сейчас, пожалуй, мне лучше выложить карты на стол и признаться, что я задаюсь вопросом не столько о разумности подражания Кафке и имитации его метода обретения запоминающегося «голоса», сколько о слишком разросшемся в наши дни погружении в проблему вообще. Она по-прежнему остается слишком весомой в среде наших ученых и критиков (и в школах писательского творчества), то есть слишком большое значение придается обретению особого стиля или – если говорить с точки зрения литературно-критической кухни – вкуса и запаха. Поскольку столь значительная доля литературной критики посвящается прослеживанию влияний и анализу текста, возник не объяснимый разумными доводами спрос на немедленное распознавание либо стиля – через анализ текста по предложениям, – либо трактовки и темы произведения. Такой подход может завести некоторых писателей в капкан собственного своеобразия. Огромное число писателей-новичков в Соединенных Штатах (то есть в стране, наиболее приверженной к прагматическим и рациональным решениям) страдают пристрастием к технике письма как способу достижения поставленных целей. Я, разумеется, не собираюсь выступать здесь в защиту новой бесстилевой анонимности. Но мне кажется, что есть опасность слишком глубоко погрузиться, подобно некоторым актерам, в сотворение собственного голоса, а это может оказаться приемом, грозящим превратить ту форму, что должна быть самой открытой из всех литературных форм, в закрытую.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































