Текст книги "Всё страньше и страньше. Как теория относительности, рок-н-ролл и научная фантастика определили XX век"
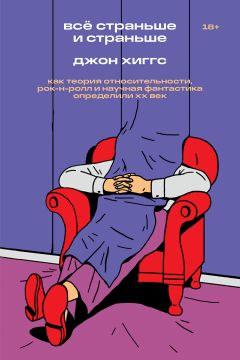
Автор книги: Джон Хиггс
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Интеллектуальным основанием политики, обернувшейся «великим расхождением», стала теория, известная как неолиберализм. Неолиберализм – это течение в экономической мысли, зародившееся в 1930-х, но ставшее догмой для политиков и корпораций после избрания Маргарет Тэтчер премьер-министром Англии (1978) и назначения экономиста Пола Волкера на пост главы Федеральной резервной системы США (1979). Главная мысль неолиберализма состояла в том, что государство – слишком тупая машина, чтобы доверять ей заботу о благополучии народа. Оно не понимает природу людей, как понимает ее рынок. Оно располагает лишь малой частью информации, необходимой для принятия здравых решений, и оно слишком неповоротливо, беспомощно и политически ангажировано, чтобы с толком применить хотя бы эту информацию.
С точки зрения неолибералов, роль государства в идеале сводится к тому, чтобы писать законы, которые защищают собственность и поощряют свободную торговлю и свободные рынки, и охранять эти законы с помощью полиции и армии. Государственные предприятия нужно приватизировать и получать с них прибыль. После этого государство должно отойти в сторону и не мешать. Об остальном позаботится частный бизнес.
Неолиберализм неизбежно создавал неравенство, но при этом заявлял, что это ради общего блага. Если немногочисленная элита станет баснословно богата, от ее благосостояния будет перепадать и тем, кто ниже. Или, как гласит девиз восьмидесятых, «жадность – это хорошо»[69]69
Эта цитата принадлежит Гордону Гекко, персонажу фильма «Уолл-стрит» (1987), сыгранному Майклом Дугласом.
[Закрыть]. Стоит ли говорить, что от состояния олигархов обществу ничего не «перепадает». Богатство потекло вверх, от среднего класса к верхушке. Сегодня редкие экономисты всерьез рассматривают теорию «стекания» богатства, но представления, стоящие за ней, по-прежнему сквозят во многих дискуссиях о мировой экономике. Мы до сих пор то и дело слышим, как сверхбогатых называют «созидателями благосостояния» вместо «стяжателей богатства».
Вера в сочетание свободного рынка и законов о собственности как панацею от всех бед приводила к тому, что порой приходилось создавать новые рынки там, где их прежде не существовало. Именно эта слепая вера двигала Всемирным банком, который в 1997 году вынудил Боливию передать права на водные ресурсы страны заграничным корпорациям. В эти ресурсы входила и дождевая вода, которую боливийцы традиционно собирают с собственных крыш. По теории неолиберализма, частная собственность подобного типа должна наилучшим образом обеспечить населению доступ к воде. Но боливийцы смотрели на вещи иначе – особенно после того, как корпорации, воспользовавшись своей монополией, на 35 % подняли цены на воду. Вспыхнувшие протесты обернулись военным положением и одной смертью, после чего боливийский народ вернул воду себе.
В сравнении с послевоенным золотым веком неолиберализм заметно ограничил роль государства. После Первой мировой, похоронившей имперскую систему, образовались новые национальные государства, взявшие на себя заботу о защите подданных, которую традиционно давали народам императоры. Эта новая форма noblesse oblige приняла вид социальных программ, регулярной армии и полицейской системы. Таким образом государственная машина стала раздуваться. Расходы правительства США составляли до 10 % ВНП перед Первой мировой войной и от 30 до 35 % во второй половине столетия. Подобная картина наблюдалась в большинстве западных стран. Неолибералы считали, что государство пора ограничить, но корпорации, становясь могущественнее правительств, не чувствовали никакого noblesse oblige. В их задачи просто не входила защита граждан от психопатов. И это к лучшему, если учесть, какой клинический диагноз поставлен им самим.
К концу XX века неолиберализм превратился во всеобщую догму. Росла власть корпораций и их влияние на политиков и массмедиа – не в малой степени потому, что последним очень кстати оказались корпоративные деньги. Возмущение всевластием корпораций можно было встретить только за пределами политического и культурного истеблишмента. Все чаще в западных демократиях важные посты в государстве занимали политики, выступавшие за ограничение власти корпораций или за расширение их ответственности. При том что среди избирателей идея, например, установить ответственность корпоративных функционеров перед законом за принимаемые ими решения всегда была популярна. Принципиальная бесчеловечность общества, нацеленного только на выгоду, его пустота и депрессивность беспокоили многих, но выразить такое мнение на избирательных участках возможности не было.
В годы после «великого расхождения» родилось и экологическое движение. Защитники природы считали постоянную гонку неолибералов за новыми прибылями бредовым и опасным поведением. Сами они после фотографий, сделанных экипажем «Аполлона», стали совершенно по-новому понимать Землю. Прежде наш мир представлялся бесконечным пространством, изобильным неосвоенным фронтиром, подлежащим разграблению, но природозащитники увидели, что это ограниченная, исчерпываемая система. Ресурс Земли не бесконечен, и, значит, безостановочный рост экономики попросту опасен.
Ситуацию хорошо иллюстрирует старая индийская легенда. Получив в подарок искусно сделанную шахматную доску, Раджа по имени Шарим так восхитился ею, что обещал мастеру любую награду, какую тот только запросит. Мастер попросил положить на первую клетку зернышко риса, на вторую два зернышка, на третью четыре и так далее, удваивая число зерен с каждой следующей клеткой. Раджа удивился, что мастер просит о такой безделице, и не задумываясь согласился. Но число зерен от клетки к клетке быстро росло. К двадцать первой на доске должно было лежать больше миллиона зерен. И в итоге радже надлежало отдать риса больше, чем его набралось бы во всем мире. Количество зерна прибывало не линейно, как ожидал раджа, а в геометрической прогрессии. Геометрический, или экспоненциальный, рост – это как сложный процент, когда маржа в конце значительно превышает начальную.
Рис на доске – это экстремальный пример, поскольку сторонники безостановочного роста не предполагают, что экономика будет удваиваться с каждым годом. Однако даже с виду незначительный темп роста, например на 2 % в год, означает, что экономика удваивается в объеме каждые 35 лет. То есть примерно за жизнь одного поколения торговый оборот и хозяйственная деятельность в реальном мире должны вырасти вдвое. Но и это не вся проблема, поскольку прирост увеличивается экспоненциально. Долго ждать не придется, прежде чем объем экономики достигнет абсурдных значений.
Возникает вопрос: когда мировая экономика, настроенная на безостановочный рост, столкнется с физической реальностью исчерпываемого ресурса Земли?
Именно эту тему обсуждал Римский клуб – всемирный аналитический центр, издавший в 1972 году резонансный доклад «Пределы роста». В этом докладе последствия экспоненциального роста изучались в ряде аспектов, от демографии до производства продовольствия и расходования природных ресурсов, и прописывались возможные сценарии будущего. В одном из этих сценариев мир в середине-конце XXI века стабилизируется и становится устойчивой системой. В двух других сценариях этого не происходит, и человечество постигает хозяйственный и социальный коллапс.
В докладе подчеркивалось, что авторы не пытаются дать точный прогноз, а только очерчивают тенденции в поведении глобальной системы. При этом целый ряд дальнейших исследований, предпринятых за минувшие тридцать лет, показывает, что новые данные в целом подтверждают модели Римского клуба. И это, увы, модели, предполагающие перепроизводство и коллапс, а не стабилизацию. Похоже, что опасность усугубляется растущим материальным неравенством. У богатых и влиятельных есть возможность изменить ситуацию, но по ним коллапс ударит в последнюю очередь, и они больше других заинтересованы сохранить статус-кво.
Реакция на доклад была красноречивой. Его с ходу отвергли не те, кто работал с данными и анализировал аргументы, а те, кто идеологически включился в неолиберальный проект. «Пределы» угрожали ограничить поведение индивида, и поэтому их не принимали. К чему углубляться в статистику обезлесения, данные об эрозии почвы, цифры перелова рыбы и засоления водоемов? Экологи не могут быть правы, потому что их точка зрения несовместима с индивидуализмом. Не прошло и ста лет с тех пор, как мы думали о себе в категориях иерархий, подчинения, хозяев и слуг, и вот полное потворство желаниям индивида твердо закрепилось в качестве нового незыблемого омфала.
Неолиберализму опасения экологов казались антигуманистическими страшилками, которые отказывают человечеству в изобретательности. Воображение – ресурс неограниченный, и люди смогут приспособиться и найти решение для всех возникающих перед ними проблем. «Пределы роста» сравнивали с «Опытом закона о народонаселении» английского священника Томаса Мальтуса. Писавший в конце XVIII века Мальтус считал, что рост населения Земли обернется великим голодом. Его прогноз не исполнился – во всяком случае, в западных странах – благодаря отчасти изобретению удобрений и пестицидов. Но если нужно угнаться за экспоненциальным ростом, успех на старте не означает успеха в дальнейшем. Ведь такая гонка – вроде видеоигры, которая становится тем труднее, чем дольше играешь. И успешное прохождение первого уровня не обещает, что ты уцелеешь на двадцать первом.
Самым важным, но никогда не задаваемым вслух вопросом по поводу экологии был следующий: «Произойдет ли коллапс системы при моей жизни?» Многим бэеби-бумерам, в тот момент пребывавшим в комфортных средних летах, экологические опасения не казались достаточно веским поводом отказываться от индивидуализма, так как они видели, что экономическая машина спокойно проработает еще три-четыре десятилетия. И то, что, рассуждая так, люди совершенно не вспоминали о собственных детях и внуках, особенно красноречиво изобличает суть индивидуализма.
Противостояние индивидуализма и экологов, пожалуй, лучше всего иллюстрирует реакция мира на климатические изменения. В конце 1980-х стало ясно, что выбросы парниковых газов в промышленных масштабах оказывают на климат влияние, которое, если не вмешаться в ситуацию, обернется катастрофой. К счастью, у человечества еще было время ее предотвратить. Вопрос вышел на международный уровень, в частности, благодаря резонансным выступлениям Маргарет Тэтчер, особенно ее речи на Генеральной Ассамблее ООН 1989 году. Тэтчер была химиком по образованию и хорошо разбиралась в теории. «Проблема климатических изменений такова, что касается без исключения всех, а что-то сделать можно только на международном уровне, – заявила она, – И нет смысла препираться, кто больше виноват и кто должен платить. На огромных территориях случатся засухи и голод, если из-за уничтожения лесов и выброса парниковых газов изменится механизм муссонов и дождей. Нужно смотреть не назад, а вперед, и с этой проблемой мы сможем справиться только при условии широкого международного сотрудничества».
Такое не пришлось по нраву нефтяным корпорациям. Продавать углеводороды – не в пример более простой способ получения быстрой прибыли, чем длительные научные исследования и создание инфраструктуры для альтернативной энергетики. Производство безуглеродной энергии, сравнимой по цене и качеству с нефтью, было нетривиальной, как это называют ученые, технической задачей.
Нефтяные корпорации и независимые аналитические центры пустили в ход все свое влияние в государственных институтах и медиа, лишь бы помешать международному сотрудничеству в области климата, которое предложила Тэтчер. Главной тактикой было затягивание времени при помощи вымышленных сомнений в том, что уже доказано наукой. Эту защиту нефтяники заимствовали у табачной индустрии, которая в свое время развернула кампанию дезинформации, чтобы поставить под сомнение связь курения и рака легких. Эту связь медики установили в 1950 году, но производители табака сумели еще сорок лет внушать обществу, что ученые ошибаются. С точки зрения корпораций стратегия табачников была в высшей степени успешной: не важно, что сотни тысяч людей умерли страшной смертью, зато индустрия колоссально обогатилась, и никто не отправился за решетку.
Точно так же кампания дезинформации, запущенная нефтяным лобби, смогла задержать международный ответ на изменения климата. В 1997 году она сделала политически невозможной для США ратификацию Киотского протокола – документа, накладывающего на все промышленно развитые страны строгие обязательства по сокращению выброса парниковых газов. После каждого тайфуна, засухи или наводнения новостные программы охотно показывали политиков, которые возмущенно отвергали предположение, что недавнее бедствие можно объяснить той самой научной теорией, предрекающей все больше таких бедствий завтра. Даже Маргарет Тэтчер пришлось скорректировать свои взгляды, когда стало ясно, насколько они неудобны для ее политических союзников. В 1980 году в ее выступлениях отражается четкое и научное понимание ситуации, но в книге «Искусство управления государством», изданной в 2003 году, Тэтчер возвращается к таким политическим тезисам, от которых ученые-климатологи в отчаянии стучат лбами об стол. Обуздание климатических изменений подняли на флаг политические силы, недружественные Тэтчер, и, значит, не нужно пытаться обуздать климатические изменения. Идеология победила науку. Индивидуализм победил экологию. Продолжилась эмиссия углерода в атмосферу и эрозия плодородных почв, а полярные льды все так же тают. Долг, которым оплачивалась потребительская гонка, виновная во всем этом, продолжал расти. В итоге момент, когда стремительные изменения климата еще можно было предотвратить, сегодня кажется уже упущенным.
Тем временем на планете полным ходом шло шестое вымирание. Какие шансы были у оранжевой жабы в таком столетии, как это?
Глава 14. Постмодернизм. У меня тут как раз случайно мистер Маклюэн
Чтобы понять постмодернизм, поиграйте несколько часов в Super Mario, видеоигру для Nintendo, выпущенную в 1985 году японским разработчиком Сигэру Миямото.
В этой игре вы управляете усатым итальянским водопроводчиком по имени Марио. Он отправляется в Грибное королевство, чтобы спасти принцессу Персик, похищенную чудовищем по имени Боузер, королем черепахоподобного народа купа. Тут стоит подчеркнуть, что во всем этом нет никакой логики.
Super Mario – это набор элементов, не связанных между собой ничем, кроме сценария игры. Волшебные королевства – это прекрасно, но обычно геройствуют там не итальянские водопроводчики. Да и вся мешанина предметов, с которыми сталкивается Марио, от гигантских пуль до плюющихся огнем цветов в горшках, не поддается строгому логическому разбору. В этих символах не стоит искать скрытый смысл – его там нет. Например, Боузер в первоначальном замысле был быком, а черепахообразным монстром стал лишь потому, что на эскизах Миямото больше походил на черепаху. Сам Марио тоже появился здесь случайно. Сначала он был героем аркадной видеоигры Donkey Kong, где его звали Попрыгун (Jumpman), потому что он умел прыгать. Переименование в Марио – шутка для посвященных. Так звали владельца здания, где размещалась компания Nintendo of America. В американской версии игры принцессу Персик без всяких объективных причин переименовали в Мухомор.
На успехе игры все это не сказалось. Дело в том, что каждый элемент сам по себе развлекал. Это, пожалуй, самое заметное свойство постмодернизма – сталкивать разнородные формы, заставляя их как-то взаимодействовать. Мысль о том, что чье-то постороннее мнение или авторитет могут определять, что какие-то элементы совместимы, а какие-то нет, отвергалась на месте.
Этот аспект постмодернизма теоретики называют jouissance – игривое настроение. Французское слово предпочитают его английскому эквиваленту ради того, что оно имеет более фривольное и игривое звучание, чего не скажешь об английском слове enjoyment[70]70
Англ. удовольствие, наслаждение. Как и французское jouissance.
[Закрыть]. Искусство постмодернизма не стыдится, а радуется, сваливая в кучу разнородные не связанные между собой элементы. Оно испытывает искреннее удовольствие от того, что сделало такое, чего от него никто не ждет. Хорошим примером jouissance могут служить британские танцевальные шлягеры конца 1980-х «Pump Up The Volume» группы MARRS и «Whitney Joins The JAMs» группы The Justified Ancients of Mu Mu. Эти записи создавали музыканты, недавно получившие доступ к сэмплерам и изучавшие, что можно с ними сделать. Они развлекались вовсю, записывая музыку и перемешивая разные ее куски.
Третья постмодернистская черта Super Mario – серийное производство. Игра представляет собой программный код, и каждый ее экземпляр – копия этого кода. Нельзя сказать, что существует «подлинник» игры, а остальное – только лишь имитации. В коде, который исполнялся на компьютере Сигэру Миямото в тот момент, кода он подписал готовую игру в производство, ничуть не больше «оригинального», чем в коде с потертого картриджа, купленного на блошином рынке в Утрехте. Статус копии, полностью тождественной оригинальному произведению, мир искусства не переставал обсуждать с момента публикации в 1936 году работы немецкого критика Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Но для постмодернистов вопрос был решен. Каждый экземпляр серийно выпускаемой игры ни в чем не уступает любому другому, и сколько ни надейся отыскать некий мистический ореол в авторском экземпляре, это ничего не изменит.
Четвертый важный признак постмодернизма в том, что игра признаёт, что она игра. Super Mario не только не скрывает условность формы, но, в отличие от таких игр, как теннис или шахматы, постоянно ее подчеркивает. Если игрок смог найти и собрать оранжево-зеленый гриб «следующего уровня», он получает дополнительную жизнь, таким образом продляя время игры. И так по всей игре разбросаны награды, бонусы и прочие «переключатели», влияющие на ход игры и имеющие смысл только в ее контексте.
Самоосознание постмодернизма часто ассоциируется с кино, телевидением и театром – как в фильме Вуди Аллена «Энни Холл» (1977). Там персонаж Аллена ставит точку в споре с самодовольным занудой из очереди в кинотеатре, приведя в кадр философа Маршала Маклюэна. В этот момент Аллен поворачивается к камере и говорит зрителям: «Эх, если б оно так могло быть!» Этой репликой он признает искусственность ситуации: то что он играет роль в кинокартине и говорит в камеру, обращаясь к будущим зрителям.
В нарративном искусстве этот постмодернистский прием встречается редко, поскольку он основан на приостановке неверия. Чаще мы видим такое в комических жанрах, например в творчестве британской комедийной труппы «Монти Пайтон». В последней сцене эпизода «Испанская инквизиция» из их второго телесезона мы видим, как три инквизитора опаздывают на запись скетча. Поняв, что не успевают, они бегут за автобусом и прыгают в него. Где и понимают, что окончательно опоздали, потому что видят, как по ним катятся титры. В итоге они появляются в скетче в момент окончания программы.
Еще одна постмодернистская черта Super Mario – каждый раз игру проходят по-разному. Здесь нет одной правильной версии игры, как нет «авторского замысла», который поможет правильно понять происходящее. Некоторые пользователи доходят до того, что сами меняют код, создавая собственные версии игры, так называемые моды. Для геймеров они абсолютно подлинны.
Постмодернисты прочно усвоили идею Дюшана, что каждый человек, читающий книгу или смотрящий фильм, воспринимает его по-разному. Произведение получает множество интерпретаций, и ни одну из них нельзя обоснованно назвать «правильной», даже авторскую. Аудитория добавляет произведению ценности, предлагая толкования, о которых автор не думал.
Наконец, игра стирает границы между интеллектуальным и примитивным, оказываясь одновременно и произведением искусства, и ширпотребом. Super Mario вышла в 1985 году, и если бы культурологи знали о ней тогда, они бы классифицировали ее как ширпотреб. В ту пору видеоигры считались какой-то шумной ерундой для детишек, и понадобились десятилетия, чтобы мир услышал их претензию на культурную значимость. Однако в 2005 году сайт Imagine Games Network назвал Super Mario лучшей игрой в истории. И классифицировать глупую детскую развлекалку, оказавшуюся вершиной в признанной области искусства, как интеллектуальную или примитивную оказалось проблематично.
«Монти Пайтон» – отличный пример того, как искусство постмодерна не стесняется быть одновременно глубоким и поверхностным. В скетче «Философский футбол» идет футбольный матч между немецкими и древнегреческими философами. Как и большинство их скетчей, этот одновременно и дурацкий и остроумный. Комментатор пересказывает события в матче: «Гегель настаивает, что реальность – априори лишь отражение неприродной этики, Кант через категорический императив уверяет, что онтологически она существует лишь в воображении, а Маркс утверждает, что было положение вне игры».
Никто не будет спорить, что Сигэру Миямото – один из виднейших в истории разработчиков видеоигр. Его вклад в развитие игр можно сравнить с вкладом Шекспира в становление театра или Диккенса – в развитие романа. Как у Диккенса и Шекспира, его произведение сочетало привлекательность для широкого потребителя с высочайшим уровнем оригинальности, что и делало его на голову выше всех современных ему художников. Мы не говорим, что игры столь же глубоки, как пьесы и романы. Игра не претендует на всестороннее понимание человеческой природы, которого в лучших своих образцах достигают эти жанры. Игра – всего лишь попытка погрузить человека в «состояние потока». Играющий реагирует на события на экране, и его реакции меняют ход игры. Так создается непрерывный цикл обратной связи между игроком и ситуацией. Как и во многих других явлениях XX века, связь между наблюдаемым и наблюдателем оказывается критически важна.
Разумеется, ни Миямото, ни потребители его продукции об этом не задумывались. Разделение на высокое и низкое – лишь бессмысленные оправдания стремления получить одобрение извне. Постмодернизм не признает никаких внешних авторитетов. На высокое и низкое или искусство и не-искусство результаты творчества критики и галеристы делят для собственной выгоды. Самому результату творчества эти качества по природе никак не присущи. Единственное, что важно для таких игр, как Super Mario, – хороша ли игра сама по себе.
То, что Super Mario оказалась вполне понятной детям, показывает, насколько легко усвоила постмодернизм широкая публика, никак не принимавшая модернизм.
Постмодернизм прекрасно уживался и с капитализмом. Хороший пример – реакция художественного рынка на постмодернистское неразличение интеллектуального и примитивного. Такое смешение мы видим у тепло принятого американского художника Роя Лихтенштейна. Он брал кадры из дешевых комиксов и воспроизводил их на холстах. Галеристы нисколько не переживали, что Лихтенштейн нарушает авторские права. Они явно считали, что его картины – настоящее искусство, а беззастенчиво скопированные картинки из комиксов – чепуха. Многие работы Лихтенштейна, например «Спящая девушка» (1964) или «Я вижу всю комнату… В ней никого!» (1961), продавались за баснословные суммы – больше 40 миллионов долларов. С коммерческой точки зрения это отличное искусство. А вот оригинальные комиксы, с которых списаны творения Лихтенштейна, галеристы считали либо просто мусором, либо курьезом, который интересен только своей связью с Лихтенштейном. Авторы комиксов до сих пор возмущены этим фактом.
Но почему же, если постмодернизм так удобен и обывателю, и бизнесу, его в итоге столь откровенно возненавидели? В начале XXI века найти человека, который готов лестно отозваться о постмодернизме, – задача не из легких. Само это слово стало ругательным, отвергающим необходимость какой-либо критики. Назвать предмет «постмодернизмом» – значит поставить на нем крест.
Как следует из самого названия, постмодернизм – это то, что следует за модернизмом. Modern происходит от латинского modo – «только что». Post значит «после», таким образом, «постмодернизм» буквально – «после сейчас». Модернизм не очень удачный термин для авангарда начала XX века, но по сравнению со своим наследником он вполне содержателен.
К тому же слово «постмодернизм» употребляется в слишком широком значении. Мебель 1980-х, будто бы сконструированная нанюхавшимся кокаинистом, – постмодерн. Комиксы, герои которых выясняют, что они вымышленные, – постмодерн. Нарочито нелепая архитектура 1970-х – постмодерн. Постмодернизм собрал под своим зонтиком всё, от романа Умберто Эко «Имя розы» до клипов группы New Order, от скульптур Джеффа Кунса до детского мультсериала «Опасный мышонок». И это наводит на подозрение, что термин просто не имеет смысла. Как и многочисленные попытки дать ему определение.
Причина нынешнего непризнания постмодернизма – в его отношении с наукой. Не будет преувеличением сказать, что роман ученых с постмодернизмом закончился печально.
Начало отношений было вполне многообещающим. Послевоенная наука немедленно признала постмодернизм и много о нем писала. Многие крупные мыслители соотносили его с такими движениями, как структурализм, постструктурализм и деконструкция. Постмодернизм оказывал существенное влияние на интеллектуальную дискуссию, особенно в американской науке. Большой авторитет приобрели французские философы Мишель Фуко и Жак Деррида. Но чем дальше, тем больше возникало сомнений. Было неясно, например, с какой целью вообще ведется этот постмодернистский диалог. Он не приносил никакого существенного итога. Его участников не покидали подозрения, что разговор бессмыслен. Сначала эти подозрения высказывались лишь немногими, поскольку остальные страшились показаться невеждами, но со временем стало очевидно всем, что ученый дискурс о постмодернизме по большей части – пустая болтовня.
Кризис наступил в 1996 году, когда Алан Сокал, физик из Университета Нью-Йорка, напечатал в постмодернистском научном журнале Social Text статью под названием «Преступая границы: к вопросу о трансформативной герменевтике квантовой гравитации». В статье утверждалось, что реальность – это «общественный и языковой конструкт» и развитие постмодернистской науки обеспечит «мощную интеллектуальную поддержку прогрессивной политической стратегии». Сокал пародировал идею деконструктивистов, что наука – сконструированный обществом «текст», открытый для различных интерпретаций, и заявлял, что даже законы физики могут быть такими, какими мы захотим. Он, конечно, дурачился, и его статья была нарочито абсурдной и бессмысленной. Но в редакции Social Text этого не заметили, решив, что это прекрасный материал для публикации, – и напечатали.
В иных обстоятельствах мистификацию Сокала восприняли бы как насмешку над академической прессой вообще. По иронии судьбы неразборчивость редакции была идеальным примером того, о чем неустанно твердили деконструктивисты, определявшие науку как социальный текст. Но возникшее в научных кругах напряжение по поводу постмодернизма достигло такой степени, что мистификация Сокала стала смертельным ударом не по научным журналам, а по самому постмодернизму.
В результате мистификации Сокала философы быстро отвернулись от постмодернизма, что видно по череде нелицеприятных некрологов Жаку Деррида, основателю деконструктивизма, умершему в 2004 году. Заголовок New York Times гласил: «В возрасте 74 лет умер Жак Деррида, невразумительный теоретик». Казалось бы, такая влиятельная фигура могла рассчитывать на более уважительное отношение сразу после смерти, но к тому времени философский мир глубоко стыдился послевоенного увлечения постмодернизмом, и старался как можно дальше отодвинуться от него.
Дело в том, что внутри постмодернизма не сложилось механизма для отделения осмысленного от бессмысленного. Поэтому люди делали ученую карьеру, говоря умные слова, но не будучи умными. В статье 1998 года для журнала Nature английский биолог Ричард Докинз приводит такой пример очевидно бессмысленного постмодернистского рассуждения: «Здесь хорошо видно, что нет никакого двояко-однозначного соответствия между линейными определяющими связями, или архиписьмом, зависимым от автора, и этим многоиндексной, многомерной каталитической машинерией. Симметрия масштабов, трансверсальность, недискурсивный болезненный характер их экспансии – все эти измерения заставляют нас выйти из логики исключенного среднего и подталкивают отказаться от онтологического бинаризма, который мы уже рассматривали». После нескольких десятилетий подобного словоплетения философы решили, что с них хватит. Вполне понятно, что любой, кому по работе пришлось всю жизнь читать подобное, не преминет пнуть постмодернизм, нокаутированный Сокалом.
Для ученых постмодернизм был подобен зыбучим пескам. Провалившись туда, выбраться практически невозможно. И чем сильнее бьешься, тем глубже затягивает. Кроме того, он казался неизменно заносчивым и самодовольным. В качестве примера рассмотрим, как эта глава объясняет постмодернизм через старинную видеоигру. Это и есть постмодернизм чистейшей воды. Пример того, как мы ждем появления нового смысла, соединив два очевидно не связанных друг с другом предмета. Эта глава сумела не вписаться в категории низкого и высокого. А теперь она принялась обсуждать себя, откуда ясно, что она себя сознает. Такое проявление самосознания, по сути дела, демонстрирует тот самый пункт, который этот абзац должен объяснять, что и делает его оправданием самого себя, что, в свою очередь, делает его еще более постмодернистским, чем он добавляет себе ценности. Видите, почему постмодернизм вызывает насмешки?
Возможно, наука и постмодернизм несовместимы в принципе. Постмодернизм отрицает существование внешних систем, способных оценить его деятельность, а ведь наука и есть именно такая система категоризации и интерпретации знаний согласно жесткой внешней структуре. Отказ постмодернизма от внешних оценок предполагает, что сами основы науки порочны. Это озадачивало ученых так же, как озадачивала теорема Геделя о неполноте логично мыслящих математиков. В этих обстоятельствах становится понятно, почему догма столь скоро превратилась в издевку.
Однако за пределами науки постмодернизм распространялся по-прежнему, без всякой оглядки на порождаемые им распри. Одна из областей, где его влияние оказалось обширным, – это религия и духовная жизнь. Как мы уже отмечали, модель духовности, предписывающую служение высшему господину, который защищает и грозит карами, подорвал индивидуализм. Люди искали новых моделей, и в сложившейся атмосфере эти модели неизбежно оказывались в высшей степени постмодернистскими.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































