Текст книги "Всё страньше и страньше. Как теория относительности, рок-н-ролл и научная фантастика определили XX век"
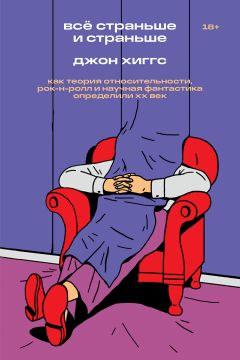
Автор книги: Джон Хиггс
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Не факт, что Дюшан осознанно присвоил произведение другого автора, как сделал в 1950-х американский художник Уолтер Кин с картинами своей жены Маргарет Кин, писавшей беспризорных детей с большими глазами. Сегодня психологи лучше понимают, как точность воспоминаний падает с течением времени, и этот процесс отражает так называемая кривая Эббингауза, или кривая забывания. Например, возбуждение, сопровождавшее удачную идею, появившуюся в разговоре с другими людьми, зачастую приводит к тому, что одновременно несколько людей помнят, как идея пришла в голову именно им. Спустя сорок лет после выставки, на которую Дюшан отправил «Фонтан», он вполне мог поверить, что идея произведения принадлежала ему.
А если самая знаменитая работа Дюшана придумана не им, как это скажется на месте этого художника в истории искусства?
Ключ к творчеству Дюшана можно найти в статье, посвященной его памяти и написанной его другом, художником Джаспером Джонсом. Джонс говорит о «настойчивых попытках сломать систему координат». Система, которую он имеет в виду, – это традиционный рынок и художественная критика, где под произведением искусства понимались картина или скульптура, созданные талантом художника и выставленные перед благодарной аудиторией. Представлять массово выпускаемые предметы в качестве произведений искусства Дюшана заставляло желание оспорить и поколебать это традиционное понимание.
Дюшан экспериментировал со случаем, бросая на холст куски веревки и закрепляя клеем в том положении, как они упали. Эстетический результат здесь создавался не способностью творца, а чистой удачей. Дюшан делал так, стремясь расшатать общепринятое мнение, что искусство творит художник. Дюшан не отличался плодовитостью, но, после того как бросил писать, он двигался в одном выбранном направлении – настойчиво разрабатывал идею о том, что искусство не следует понимать как произведение художника. «В акте творчества участвует не только художник, – писал он в 1957 году. – Зритель вводит произведение во внешнюю реальность, расшифровывая и толкуя его внутренние особенности, то есть вносит вклад в акт творчества». Цель упорных стараний Дюшана «сломать систему координат» была в том, чтобы высветить роль зрителя в существовании искусства и продемонстрировать, что наблюдаемое отчасти создается наблюдателем.
Мы оказываемся в странном положении. Если Дюшан не придумывал и не создавал «Фонтан» – пусть даже сам думал иначе – и притом старался ниспровергнуть примитивное понимание искусства как продукта его создателей, дает ли ему «Фонтан» дополнительные очки как художнику?
«Настойчивые попытки сломать систему координат» – привычная картина в искусстве начала XX века.
После 1907 года художники Пабло Пикассо и Жорж Брак придумали кубизм. Живопись начала уходить от точного изображения натуры, но немногие оказались готовы к таким непонятным и ошеломляющим картинам. Странные угловатые схематизированные образы в блеклых безрадостных тонах. Кубистские полотна часто описывают как «изломанные», поскольку обычно они выглядят как отражения в осколках разбитого зеркала.
Главным посылом кубистов было понимание, что не существует верной перспективы или точки зрения, позволяющей объективно рассмотреть и понять предмет, на который мы смотрим. Это прозрение удивительно схоже с концепцией Эйнштейна. Как следствие, художник не выбирает какую-то одну произвольную перспективу для отражения на холсте. Он рассматривает натуру во всех возможных ракурсах, а затем дистиллирует из увиденного один образ. И определение «изломанный» удобно, но может отвлечь от сути. Кубисты «изламывают» не сам предмет изображения, как многим казалось, но перспективу наблюдателя. Эти «искореженные» образы не стоило воспринимать как точное представление каких-то причудливых предметов. Это были попытки художников конденсировать на двумерной площади холста видение обычных предметов в разных перспективах.
В выборе объектов кубисты не были революционерами. Как и предшественников, их вполне удовлетворяли обнаженные натурщицы и постановки для натюрмортов с фруктами и вином. Новаторство кубизма – не в объектах изображения, а в попытке предложить новый и более достоверный взгляд на привычные вещи. Как сказал однажды Пикассо: «Я изображаю предметы не такими, какими я их вижу, а такими, какими мыслю».
Это противоположность современной кубизму школе экспрессионистов. Самый знаменитый пример экспрессионизма – это, наверное, «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка: картина, изображающая мужчину на мосту, испускающего вопль непостижимого страдания. Не в пример кубистам, экспрессионист брал одну перспективу. Но оправдать свой выбор он мог только пониманием того, насколько этот выбор субъективен. Экспрессионизм высвечивает эмоциональную реакцию художника на предмет и делает ее неотъемлемой частью произведения. Экспрессионизм понимает, что ви́дение художника индивидуально и далеко от объективности, но не пытается преодолеть это ограничение, а принимает его.
Стремление видеть по-новому мы наблюдаем во многих видах искусства начала XX века. Еще один пример – применение монтажа в кинематографе: техники, одним из разработчиков которой стал русский режиссер Сергей Эйзенштейн в 1920-е годы[12]12
Монтаж как художественный прием начал использовать еще его учитель, Лев Кулешов, а Сергей Эйзенштейн придумал метод «интеллектуального монтажа» – метафор и ассоциаций.
[Закрыть]. Монтаж режет естественные пространственные и временные связи, которые обычно связывают кадры в последовательной съемке, и взамен составляет набор из отдельных образов, который передает послание режиссера. В картине «Октябрь» («Десять дней, которые потрясли мир») (1928), рассказывающей о событиях Октябрьской революции, Эйзенштейн перемежает съемки русских церквей сначала планами изваяний Христа, затем религиозными образами из все более отдаленных и древних культур: Буддами, племенными тотемами, индуистскими и ацтекскими божествами. В таком монтаже религия России предстала современным отражением универсальной сущности религии. Тут же Эйзенштейн принимается монтировать кадры с генералом Лавром Корниловым[13]13
Русский военачальник, генерал от инфантерии. Герой Русско-японской и Первой мировой войн, верховный главнокомандующий Русской армией (июль – август 1917-го).
[Закрыть] и статуей Наполеона, заставляя тем самым зрителя увидеть в генерале часть старого исторического нарратива.
В отличие от Брака и Пикассо Эйзенштейн разворачивал монтаж во времени и потому мог составлять разные точки зрения в последовательность, не пытаясь слить их в единый образ. Этим столкновением взглядов Эйзенштейн добивался в своем кино разных эффектов, от ритмических до символических.
Атональная музыка, которую после 1908 года сочиняли в Вене Арнольд Шёнберг, Альбан Берг и Антон Веберн[14]14
Все трое – австрийские композиторы, представители музыкального экспрессионизма и основатели Новой венской композиторской школы.
[Закрыть], была не менее странной и озадачивающей, чем кубизм. Шёнберг отверг правило о том, что музыкальное сочинение должно строиться на главной тональности и ладе.
В традиционной композиции ноты в последовательности дополняют друг друга тем образом, что кажется верным нашему слуху, потому что высота каждой ноты соотносится с главной тональностью и ладом и диктуется ими. Без главной тональности, на которую равняются все ноты в сочинении, мы теряем направление и тонем в стихии, которую профессор Эрик Леви назвал «пучиной без тонального центра». Ситуация похожа на устранение Эйнштейном из концепции пространства декартовой координатной сетки по той причине, что ее оси x, y и z – произвольная модель, наложенная на реальность, а вовсе не объективное свойство этой реальности. Утратив тональный центр, атональная музыка Новой венской школы породила сочинения, довольно непростые для восприятия.
В музыке появились и другие новации, отразившие физическую относительность. Например, Игорь Стравинский в своем шедевре 1913 года «Весна священная» широко применял полиритмию. Это принцип, когда два разных и не связанных друг с другом ритма, сцепившись, исполняются одновременно. Эффект может оказаться обескураживающим, как столкновение разных ракурсов предмета на кубистском полотне.
Пожалуй, в начале XX века только литература прославилась своей нарочитой непонятностью больше музыки и живописи. Но что же в текстах вроде «Улисса» Джеймса Джойса, «Песен» Эзры Паунда или «Бесплодной земли» Т. С. Элиота делает их такими неприступными?
В прозе ориентиром для читателя служит развертывание сюжета, или повествование. Не важно, рассказывается ли история от лица одного из героев или дается «в третьем лице» глазами богоподобного всеведущего автора. Может быть и несколько рассказчиков, как, например, в «Дракуле» Брэма Стокера, где сюжет развивается за счет включения разных голосов множества персонажей. Меняющиеся точки зрения в «Дракуле» не смущают читателя уже потому, что они четко разделены, чего нет, например, у Элиота, но главное – все эти голоса рассказывают одну историю. В прозе единое повествование помогает нам понимать все происходящее, как главная тональность в традиционной музыке или оси координат в декартовой системе.
Такие авторы, как Джойс, Элиот и Паунд, отбросили общую повествовательную канву. Они постоянно меняли рассказчика, но совсем не так, как это делал Брэм Стокер. Во второй части поэмы «Бесплодная земля» речь автора внезапно меняется на диалог между женщинами в британском пабе, обсуждающими возвращение демобилизованных из армии мужей. Этих персонажей нам не представляют, и они с виду никак не связаны с содержанием. Возникает эффект необъяснимого разрыва – потому что нет магистрального повествования, в русле которого этот сдвиг как-то объяснялся бы.
Первоначально поэма называлась «Полицейские отчеты в лицах»: отсылка к строчке из «Нашего общего друга» Чарльза Диккенса, где Бетти Хигден, рассказывая о сыне-приемыше, замечает: «Вы, может, не поверите, Хлюп хорошо читает вслух газеты. А полицейские отчеты умеет изображать в лицах»[15]15
Перевод Н. Дарузес. – Прим. пер.
[Закрыть]. Это переключение голосов, очевидно, было у Элиота важной частью замысла. Но название «Бесплодная земля» подошло куда лучше, потому что смена рассказчика – это не то, о чем написана поэма.
«Бесплодная земля» – поэма о смерти или, точнее, о сознании собственной смертности. Отсылка к легенде о короле-рыбаке и его бесплодном королевстве указывает на иссушение духа, состояние, которое еще не вполне смерть, но уже совсем не жизнь. Отвергнув традиционную основу в виде связного повествования, Элиот оставил себе свободу взглянуть на предмет с самых разных ракурсов. Он мог проноситься сквозь ряд сцен, взятых из самых разных эпох и культур, останавливаясь на тематически близких моментах.
«Улисс» Джеймса Джойса содержит в себе поток сознания главного героя Леопольда Блума, отражающий один день его жизни в Дублине. «Улисс» считается одним из великих романов XX века, но даже самые ярые поклонники не скажут, что это захватывающий рассказ. Целью Джойса, когда он садился писать, не был хороший роман. Как он объяснил своему другу Фрэнку Баджену: «Я хочу дать столь подробную картину Дублина, что, если вдруг этот город внезапно исчезнет с лица земли, его можно будет воссоздать по моей книге». С помощью романа Джойс хотел показать Дублин со всех сторон. Располагая лишь пишущей машинкой и стопками писчей бумаги, Джойс пытался сделать с Дублином начала XX века то, что разработчики видеоигры Grand Theft Auto V из шотландской компании RockStar North сделали с Лос-Анджелесом начала века XXI. В этой игре каждая деталь города, включая фильмы, культуру, социальные сети и технологии, расовые отношения, рынок ценных бумаг, законы и деловую культуру, воссоздана и высмеяна. Надо признать, «Улисса» не часто сравнивают с Grand Theft Auto V, но подозреваю, что люди, знакомые с обоими произведениями, не станут спорить с этой аналогией.
Сегодня «модернизм» употребляется как собирательный термин, охватывающий весь поток инноваций, разлившийся на заре XX века почти во всех областях человеческого самовыражения. Прежде всего в литературе, музыке, изобразительном искусстве, кино и архитектуре. Такие течения, как кубизм, сюрреализм, атональная музыка или футуризм, считаются составляющими модернизма.
По совести сказать, термин не из тех, что красиво стареют. Называть произведение, которому сто лет, «модерном» – это всегда звучит глуповато. Термин подразумевает, что фокус этого течения состоял в новизне, в том, что было новым тогда. Это до известной степени верно. Частью культуры стали автомобили, самолеты, кино, телефоны, фотоаппараты, радио и масса других чудес, и художники пытались осмыслить весь размах перемен, принесенных этими вещами в обыденную жизнь.
Определенные формы модернизма, такие как, например, футуризм, несомненно, были прославлением нового. Футуристы пытались визуально отразить и воспеть скорость, технический прогресс и энергию. У этого движения отчетливо итальянский колорит. Италия, страна, где люди вроде Энцо Феррари становятся национальными героями, воспитала художников-футуристов, упивавшихся смесью изящества и скорости.
Другим течением, полюбившим новизну, стала модернистская архитектура. Для нее новизна означала новые материалы, такие как стеклянные панели и армированный бетон. Архитектор Ле Корбюзье говорил, что дом – это «машина для жизни», где «форма следует функции». В этом подходе нет места ни декору, ни украшениям. Корбюзье писал, как, гуляя по Парижу осенним вечером 1924 года, не мог перейти Елисейские Поля из-за постоянного потока машин. Тогда это было в новинку. «Я вспомнил свою студенческую молодость, – рассказывал Корбюзье. – Тогда дорога принадлежала только нам, мы шли и пели». Но перемены, которые увидел Корбюзье, не огорчили его. «Движение, машины, машины, скорость! Тебя захватывают энтузиазм, радость… радость могущества, – писал он. – Простое и наивное удовольствие видеть вокруг себя мощь, силу». Для архитекторов, подобных Корбюзье, новый безумный мир стал источником вдохновения. Великий француз не написал, утомила ли его когда-нибудь новизна запруженных машинами улиц.
Сколько бы ни очаровывались художники-футуристы и архитекторы-модернисты новой ошеломляющей культурой, в гуще которой оказались, модернизм не был просто отражением дивного нового мира. Модернисты не просто писали автомобили так же, как прежде писали лошадей. Модернистское искусство не только воспевало новую жизнь, но и критиковало ее. В нем – например, у Пикассо, использующего африканские маски и образы, – обнаруживается компонент примитивизма, фетишизация пасторальной, доиндустриальной жизни. Было и другое искусство начала века, например «Рапсодия в стиле блюз» Гершвина[16]16
Одно из самых известных произведений Джорджа Гершвина. Пьеса была заказана Полом Уайтменом, джазовым бэнд-лидером, начинающему тогда композитору как эксперимент по созданию нового музыкального стиля, сочетающего джаз и классическую музыку.
[Закрыть] или фильмы Лорела и Харди[17]17
Британо-американский комедийный кинодуэт.
[Закрыть], которое тоже стало продуктом своего времени, но мы не можем считать его модернистским. Модернисты пытались сделать нечто большее, чем просто принять современность.
Джойс намеренно сделал свой роман сложным. Мы понимаем это по его реакции на судебное разбирательство из-за непристойных слов, которым обернулась попытка издать «Улисса» в Америке времен сухого закона. Сначала роман выходил по частям в нью-йоркском журнале The Little Review, рядом со стихами Эльзы фон Фрейтаг-Лорингофен. Стихи баронессы и сегодня кажутся вызывающе чувственными, но за непристойные слова к ответу призвали именно Джойса.
Последовавший в 1933 году процесс – США против книги под названием «Улисс» – ознаменовался выводом, что книга имеет серьезную цель и не относится к порнографии (поскольку, как заметил судья Джон Вулзи, «что касается периодического возникновения темы секса в сознании персонажей, следует помнить, что место действия – кельтский остров, а время действия – весна»). Однако, чтобы суд подтвердил серьезную природу романа, Джойс должен был объяснить его: в частности, как структура романа отвечает античному мифу, в честь которого он назван. Джойса эта перспектива сильно огорчала. Он сказал: «Если я все выдам [объясню] прямо сейчас, я лишу себя бессмертия. Я включил туда столько ребусов и загадок, что профессора будут не один век спорить о том, что я имел в виду, и это единственный способ добиться бессмертия».
Джойс хотел, чтобы его изучали. В интервью журналу Harper’s он отмечал: «Чего я требую от моего читателя: чтобы он посвятил чтению моих сочинений всю жизнь». В этом свете определенный трагизм слышен в его предсмертных словах: «Неужели никто не понимает?»
Проза Джойса вязкая в лучшем смысле этого слова. В его слове есть ритм и задорное пренебрежение правильной грамматикой и словарем. Его язык каким-то образом высвечивает тот зазор, что лежит между словами на бумаге и тем, что эти слова описывают. Даже когда его намеки ускользают от вашего понимания и в сюжете, на ваш взгляд, ничего не происходит, сам ритм текста заставляет читать дальше. Но для такого чтения требуется сосредоточенность, причем длительная. Тексты Джойса написаны не для нашего века с его дефицитом внимания. Впрочем, может быть, в этом и смысл.
Необходимость глубокого сосредоточения напоминает о практиках мистика Георгия Гурджиева. Гурджиев, фактурный мужчина с пышными усами, русский философ, работавший в первой половине XX века, считал, что большинство людей живет «во сне наяву», пребывая как бы под гипнозом. Гурджиев учил, что от этого сна можно пробудиться и прийти в состояние духа, знакомое тем, кто практикует медитацию, и атлетам на пике спортивной формы. Тому, кто его не переживал, описывать его вряд ли стоит. В таком состоянии заметно обостряется внимание, оживляется сознание, раскрываются возможности, приходят раскрепощение и радость бытия. Иногда говорят, что это состояние сознания так же отличается от обычного, как бодрствование от сна. В последнее время о некоем подобном состоянии много говорят психологи, называя его «потоком».
Увы, такое состояние редко и достигается с трудом. Гурджиев считал, что главный инструмент здесь – длительное сосредоточение. От учеников он требовал усердия и самоотдачи, задавая им утомительные упражнения: например, постричь траву на лужайке обычными ножницами. Нудная работа побуждала эго учеников возмущаться, и они должны были усилием воли заставлять себя стричь дальше. Так Гурджиев предполагал вывести их на уровень сосредоточения, при котором человек может перейти в то самое состояние потока. Или, по его терминологии, «полностью разбудить свой духовный потенциал». Возможно, если бы они отложили ножницы и несколько часов почитали «Улисса», эффект был бы не хуже.
Английский писатель Колин Уилсон, чья первая книга «Посторонний» относит его в ряды возникшего в 1950-е литературного движения «рассерженных молодых людей»[18]18
Группа британских писателей критического направления, основной темой их произведений был протест главного героя против окружающей действительности – Великобритании 1950-х годов.
[Закрыть], подобное состояние переживал. Оно было вызвано, как и обещал Гурджиев, продолжительным и напряженным сосредоточением. Накануне нового 1980 года в девонширской глуши он после лекции вел машину, полную студентов. Валил густой снег, и ехать было крайне опасно. «Трудно было разглядеть, где кончается дорога и начинается кювет, – вспоминал он. – Так что ослабить внимание нельзя было ни на миг». Приблизительно через двадцать минут такого напряженного всматривания в снегопад Колин почувствовал какое-то непонятное тепло в голове. Так началось состояние, которое он назвал «пиком осознанности», не прекратившееся и после того, как Уилсон добрался в пункт назначения. «Двухчасовое напряжение внимания каким-то образом „закрепило“ мой разум в пике осознанности, – рассказывал Уилсон. – А еще накатила волна неукротимого оптимизма, я твердо понял, что все человеческие проблемы – от небрежности, лени и невнимательности и легко преодолимы осознанным усилием». После длительного сосредоточения и напряжения сил Уилсон совершенно по-новому увидел мир.
Сложность модернистской литературы тоже заставляет читателя входить в состояние напряженной концентрации. Со слов самих литераторов-модернистов мы заключаем, что напряженная работа читателя есть неотъемлемая часть произведения. Именно этот труд создает в итоге читательскую награду, а награда оправдывает все усилия.
Романтики, спорившие в конце XVIII века с эпохой Просвещения, тоже считали, что неизбежная субъективность одной точки зрения связывает человека. «Храни нас Бог / От ви́денья простого и Ньютонова сна!» – писал в 1802 году Уильям Блейк. Однако методы, которыми романтики это доносили до читателя, были слишком шаткими и неопределенными – по крайней мере, с точки зрения модернизма. Модернисты верили не только в то, что им доступна более широкая перспектива, – они рассчитывали открыть ее и читателю.
Только это будет нелегко.
Как вы наверняка уже заметили, у нас очерчивается тема.
Мы вновь и вновь обнаруживаем ее в обширном ландшафте модернистской культуры – это идея о том, что одной точки зрения недостаточно, чтобы вполне выразить или описать предмет. Она нам уже знакома. Концепция в основе эйнштейновской революции гласила, что нет единой системы координат, которую можно признать истинной или настоящей, и что знание о предметах зависит у нас от ракурса, который мы выбираем.
Стал ли модернизм результатом влияния Эйнштейна на людей искусства? Определенно есть примеры, где эта схема кажется возможной. Например, в истории живописи не было растекшихся часовых циферблатов до картины «Постоянство памяти», написанной художником-сюрреалистом Сальвадором Дали в 1931 году. Эта картина появилась не раньше, чем в общественном сознании укоренилась идея о том, что время может растягиваться. Дали отрицал, что его вдохновили идеи Эйнштейна, и пояснял, что во всем виноват расплавленный камамбер. И все же трудно не усмотреть участия Эйнштейна в том скачке, который подсознание художника совершило от созерцания плавящегося сыра к порождению образа плавящихся часов.
Влияние Эйнштейна на Дали вероятно, на это намекают и даты. К 1931 году Эйнштейн стал мировой знаменитостью, и его научные идеи, пусть в сколь угодно шаржированном представлении, были общим знанием. Совсем не так обстояло дело в 1905-м, когда он опубликовал специальную теорию относительности. В те годы сообщество физиков заметно уступало в числе другим научным сообществам, например химическому. Но и научный мир в целом был ничтожно мал по сравнению с тем, каких масштабов он достигнет в конце столетия. Даже среди тех, кто читал статью Эйнштейна, не все сразу поняли ее значение. Не учитывающая, например, гравитацию теория казалась скорее любопытной гипотезой, чем настоящей революцией.
Величина Эйнштейна в науке определилась в 1915 году, после выхода общей теории относительности, но признание широкой публики пришло только после Первой мировой. Поворот случился в 1919 году, когда астрофизик сэр Артур Эддингтон впервые подтвердил расчеты Эйнштейна экспериментально. С того момента имя Эйнштейна узнал весь мир.
Великие произведения модернизма тоже создавались в межвоенный период, и на первый взгляд гипотеза о влиянии Эйнштейна кажется убедительной. Однако множество модернистов, включая Пикассо, Джойса, Элиота, Брака, Шёнберга, Стравинского и Кандинского, и до войны создавали произведения, в которых отчетливо прослеживалось развитие модернистских идей. Не стоит забывать и про искусство премодернистов, появившееся до Эйнштейна. На некоторых ранних натюрмортах Гогена мы видим в углу холста лицо человека, рассматривающего натуру, например на «Натюрморте с профилем Лаваля» (1886) и «Натюрморте с фруктами» (1888). Натюрморт – это набор предметов, выставленных на обозрение, и, если художник хочет изобразить их такими, каковы они на самом деле, надо показать, что эти предметы кто-то наблюдает.
Похоже, что модернисты и Эйнштейн независимо друг от друга одновременно совершили один и тот же прорыв. Они не только поняли, что мы связаны относительными системами координат, но и предложили более общую перспективу – пространство-время и кубизм, – которая позволяет преодолеть субъективность одного ракурса. В 1878 году Ницше писал, что «не существует вечных фактов, как не существует абсолютных истин»[19]19
Перевод С. Франка. – Прим. пер.
[Закрыть]. А Эйнштейн и Пикассо предложили свои ответы на эту философскую максиму.
Человечество осознало важность наблюдателя. Само по себе примечательно, что столь необычная идея одновременно родилась в искусстве и физике. Если над одной проблемой работали такие разные люди, как Эйнштейн и баронесса Фрейтаг-Лорингофен, значит, разворачивались какие-то глубинные процессы. Творились великие перемены, и их влияние на человеческую культуру было повсеместным.
Что еще примечательнее, та же идея замаячила и в клокочущем хаосе международной политики.









































