Текст книги "Гостеприимный кардинал"
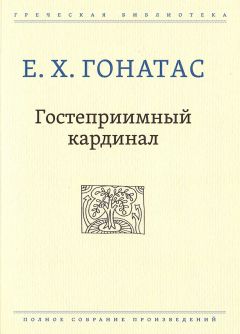
Автор книги: Е. Х. Гонатас
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
О цвете чернил в письмах Никоса Кахтитсиса
В большинстве писем чернила выцвели со временем до такой степени, что сейчас невозможно определить их изначальный цвет, так что они – вещь сама по себе странная и поразительная, – постепенно развив в себе способности, характерные только для хамелеона, стараются слиться с цветом бумаги (также неопределенным и никогда не повторяющимся в каждом из писем), на которую эти чернила положены. Неизменный цвет сохраняют только фиолетовые чернила, которые поэт использовал два раза (в предпоследнем и последнем своем письме), а также еще одни чернила сине-зеленого фосфорного оттенка (использованные один-единственный раз), они и сегодня, по прошествии стольких лет, сохраняют большую часть своего блеска и свежести. Эти чернила произвели на меня большое впечатление. Вероятнее всего, речь идет об оригинальном изобретении или об остатках старинных чернил, разбавленных чем-то для этого случая, либо это был продукт смеси разных остатков и осадков, цвет его получился совершенно случайно таким милым и ярким, что, если бы любая компания, производящая чернила, я уверен в этом, увидела их, она непременно постаралась бы их повторить и включить в свой ассортимент. Их различные цветовые переливы исчерпывают всю палитру синего цвета, начиная с темно-синего и заканчивая нежным сапфировым или цветом морской волны, и постоянно варьируются – в неизменной гармонии друг с другом, а также с желтоватым фоном бумаги – от строчки к строчке, или от слова к слову на одной строчке, или от буквы к букве в одном слове, или иногда от точки к точке в печатном знаке, придавая большую разреженность, или густоту, или насыщенность бутылочного дна и передавая порыв, с которым перо автора письма каждый раз окуналось в чернильницу, чтобы вновь напитаться и продолжить письмо.
Трость
Заходя в выставочный зал, я оставляю при входе в специальной вазе свою трость. А когда собираюсь выходить, обнаруживаю, что моя трость испарилась. Но я не расстраиваюсь, потому что у меня есть много тростей. Когда я теряю одну из них, я сразу же беру другую и хожу с ней.
В углу у книжного шкафа стоят рядком мои трости. У всех них ручка в виде крюка, ни одна не заканчивается набалдашником. Самую лучшую я получил в наследство от тети Фросо. Ее ручка была костяной, из оленьего рога, с серебряным кольцом и резьбой у основания. А сама эта трость выполнена из эбенового дерева, тонкая, крепкая и изящная. Но мне она мала, потому что моя хромая тетя была низкого роста.
Наш друг пес
Я всех животных люблю: осликов, козочек, кошек, мух, уточек, курочек, бабочек, гусей, ежиков, – все они были моей лучшей компанией и отдушиной во время каникул, которые я проводил в деревне на острове. Я знаком с их особенностями и мог бы при малейшем желании, если бы не был лентяем, написать целую книгу об их поведении и образе жизни. Но странное дело – я ничего не знаю о собаках. В детстве я забрался под перевернутую лодку, лежавшую на берегу неподалеку от островного причала, под которой какая-то собака выкармливала новорожденных щенков. Она схватила меня за пятку, и ее зубы хорошенько разодрали мне ногу. Я с большим трудом спасся, тяжело раненный и чуть не лишившись ноги. C тех пор у меня остался страх и неприязнь к этим животным, а в школе нам рассказывали, что это самый верный друг и товарищ человека и что его преданность стала легендарной. И это подтверждается множеством реальных историй.
Представьте теперь мое удивление, когда я, открыв вчера утром дверь, чтобы пойти на работу, обнаружил сидящего на расстоянии полуметра от порога крупного пушистого пса бежевого окраса, который смотрел на меня безо всякого выражения. Я не мог понять, что ему от меня нужно. Еды, воды, ласки? Я бросил ему толстое печенье, которое он безо всякого аппетита взял губами – было абсолютно ясно, что он не голоден, – и исчез. Я силился разглядеть, виляет ли он хвостом в знак радости, но убедился, что у него нет хвоста – он был отрезан под корень, а косточки на его месте, под кожей, были совершенно неподвижны. Этот пес был неблагодарным и невоспитанным. Но с чего бы ему быть благодарным? Может, я пожертвовал чем-то ради него? Только из-за того, что я дал ему засохшее печенье? Я подумал еще раз и простил его.
Мысли о собаке не давали мне покоя весь день в конторе, и только поздно вечером, когда я вернулся домой ужасно уставший и лег спать, я смог выкинуть их из головы.
На следующее утро я снова проснулся с мыслями о таинственной собаке. Я, как был неумытый, побежал к двери и открыл ее. Меня снедало любопытство, окажется ли пес там. Но нет. Никого. Только пара-тройка воробьев во дворе скакали по сухим листьям, упавшим на землю из-за сильного ветра.
Но на следующий день, как только я открыл дверь, собираясь уходить, и когда я уже совсем было о нем забыл, пес снова был там, на таком же расстоянии от порога, и снова смотрел на меня своими печальными глазами. Да, глаза его были печальными, к тому же они были обрамлены двумя коричневыми пятнами, что подчеркивало меланхолию. «Эй, дружок, так не пойдет. Ты можешь мне наконец сказать, что тебе от меня нужно? Ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Я не твой хозяин. Я не люблю собак. Тебя вот прямо сейчас могу искать те, от кого ты сбежал. Возвращайся к себе домой».
Пес не пошевелился, он был похож на статую. Он смотрел на меня своим неподвижными глазами, но сейчас мне казалось, что в их глубине я мог разглядеть сложные темные чувства. Несмотря на это, я снова дал ему большое печенье, он снова схватил его своими черными морщинистыми губами, повернулся и исчез за поворотом.
Раз в два дня я страдал от пытки появления и исчезновения собаки. Он каждый раз молча приходил, чтобы возмутить мое спокойствие, а затем бесшумно уходил. И прежде чем исчезнуть, всегда брал, не будучи при этом по всей видимости голодным, печенье. Откуда же он приходил и куда уходил? Я решил проверить. Итак, дружок, на этот раз я все про тебя разузнаю. Впереди собака, за ней иду я на некотором расстоянии. Как видно, его нисколько не смущало мое присутствие. Он вел меня по пустырям, где дети гоняли мяч. По пустынным площадям, где взмыленные лошади ждали у колодцев своей очереди, чтобы напиться. По полям, усаженным картофелем с беленькими цветочками и кустиками табака с длинными яйцевидными листьями. В конце концов он остановился перед дверью лачуги, сколоченной из жестяных листов. Тут он обернулся, посмотрел на меня и словно подал мне знак, чтобы я вошел. Сначала он, следом я, мы зашли внутрь. Одна стена лачуги, как я увидел, была выдолблена в твердой скале, и слышно было, как где-то высоко капает вода. Сырость невыносимая. Пахнет мокрой землей. Пес стоит высоко у проема и смотрит на меня. Я смотрю на него и подхожу ближе. Но почва, на которую я ступаю, скользкая. Я чувствую, как потихоньку уходит из-под ног солома вперемешку с грязью, ускользает, и я поскальзываюсь, качусь и падаю в бездну.
Пес наверху насмешливо шевелит ушами. Его глаза мечут молнии ненависти и ликования. Он радуется, видя, как я страдаю, радуется, что привел меня к погибели.
Ткани
«Выбирай, – говорит моя мать столяру, ремонтирующему шкаф, – из этих тканей. Я предлагаю тебе зеленую в клеточку. Могу сшить тебе хорошую пижаму».
Я слушаю, смотрю и завидую. Действительно, предложенная мамой ткань была самой лучшей. Порывшись в оставшихся, я наконец-то нашел отрез желтоватой ткани и для себя.
Дед
В комнате на первом этаже, у широкого пролета внешней деревянной лестницы, там, куда его поместили после болезни, чтобы удобно было ухаживать, сражался со смертью дед.
Его кровать была маленькой (ее перенесли из кладовки специально для этого случая), вероятно, это была детская кроватка его внука. Так что, несмотря на то, что дедушка был низеньким, кроватка была ему мала и ноги его свисали в пустоту. Его пепельная борода поднималась и опускалась в такт с неровным дыханием, вырывавшимся из его вдавленной груди. Карликовый золото-зеленый петушок – загадка, как он там очутился! – клевал остатки бисквита с глубокой фарфоровой тарелки.
Я подошел к деду, поцеловал ему руку и погладил лоб, горячий от жара.
– Скажи им, что мне жаль. Я не смогу к ним зайти. Но и эти добрые люди, зачем только они так торопятся?..
Дед видит то, чего никто другой не мог видеть. И разговаривает с теми, кого видел только он.
Однажды – как я понял из его спутанных слов – он видел свою подругу Клару, которая провожала на набережной скульптора Костаса Кулентияаноса в путь, ведущий к признанию и славе.
Я успокоил деда, обещав все им передать.
– Давай-ка я тебе сейчас дам глоточек молока, дедуля? Я вижу, что ты не притронулся к стакану, к сожалению. Я уберу пенку, которая тебе не нравится.
– Нет, – закричал он рассерженно и выпучил один глаз. – Ты им скажи, что дал мне и я все выпил. Послушай меня. У нас нет времени. Завтра утром, как только начнет светать, мы отправимся в путь. Тимофею, моему внуку, я не доверяю. Он, стоит мне повернуть голову в другую сторону, копается в моих ящиках и ворует у меня бумаги и карты, – прошептал он мне тихо на ухо. – Скажи Марку, извозчику, – продолжает он, – чтобы был тут в пять утра ровно. И не забудь принести мои нож и кирку. Завтра, прежде чем покажется солнце, мы выйдем на охоту. Раскопаем землю и найдем, наконец, зарытые мраморные статуи. Я слышу, как они кричат из-под земли. Они умоляют меня достать их из тьмы, снова вынести на свет…
Дед прекратил говорить – это слишком его утомило, и позволил своей голове утонуть в подушке. Из его глаза, по-прежнему открытого, вытекла жирная капля гноя, и я осторожно ее убрал. Он все еще не закрывал глаз, хотя было очевидно, что теперь он смотрел на меня и не видел.
Я вышел из комнаты и поднялся по лестнице. В ту самую минуту, когда я заходил в комнатку, где была импровизированная столовая, туда же заходила и Деспина, старая кухарка этой семьи. Мы чуть было не стукнулись лбами, но я успел увернуться и подхватил почти уже на лету супницу, которую она несла, благоухавшую яично-лимонным соусом, свеженарезанным укропом и ванилью.
За столом сидели две дочери деда (обе в черном, вдовы, они сидели на соломенных стульях с высокими спинками, у младшей ноги свешивались в пяди от пола, словно сморщенные стручки перца). Рядом с ними Тимофей, сын старшей сестры, пытался завязать вокруг горла салфетку, он ее только что достал из костяного кольца.
– Садись, – сказали мне в один голос обе женщины, – не стой зря. Конечно, мы не ожидали тебя увидеть («Ты пришел без приглашения, – хотели они сказать, – да еще и во время обеда»), так что у нас сегодня на столе нет ничего особенного. Но ты тоже садись, поешь с нами, мы поделимся всем, что есть, и всем, что найдем.
Пока они все это говорили, Деспина появилась во второй раз. Она зашла, напыщенно-горделиво неся в этот раз продолговатый посеребренный поднос с крышкой, оставшейся, очевидно, от другого блюда, меньшей ширины и глубины, крышка не закрывала поднос полностью, и можно было с легкостью разглядеть его содержимое. И под крышкой явно угадывались ножки поджаристой аппетитной индейки.
У меня потекли слюнки. «Эта поджаристая корочка будет таять во рту, словно масло, она может даже мертвого поднять», – подумал я. Но не успел я хорошенько подумать об этом, как Деспина вместо того, чтобы сделать шаг вперед и поставить, как я ожидал, блюдо на стол, развернулась на месте с проворством, которому мог бы позавидовать самый ловкий акробат, и, сделав небольшой шаг назад, с индейкой в обнимку скрылась за кухонной дверью.
Что же произошло? Может, я неверно все понял? Я потер глаза. Но мне было неловко спрашивать о случившемся, и потом, какого рода объяснений я мог потребовать? Моя память, мой верный союзник в самые трудные моменты, не отказала мне и в этот раз. Во мгновение ока все прояснилось. Просто-напросто Деспина, подчиняясь тайному языку, принятому у хозяев, послушалась запретного жеста сестер, поданного хоть незаметно и осторожно, но все же не ускользнувшего от моего внимания. Но поскольку они начали подозревать, что я что-то понял, сочли необходимым оправдать свое поведение.
– Это остатки вчерашнего ужина. Мы не можем позволить себе подавать объедки родственникам и друзьям, – сказала старшая. И добавила: – Сегодня мы будем есть свежую пищу: травы, вареный картофель и яичный омлет.
Эта добавка про омлет и картошку была произнесена громко, в виде приказа, и была обращена к Деспине, та снова показалась, в полной растерянности на этот раз, и затем удалилась, чтобы еще раз приготовить обед в соответствии с новыми указаниями.
На следующий день деду стало хуже. Он отвернулся к стене и упрямо отказывался принимать пищу. И совершенно ничего не помнил из вчерашнего разговора. Он даже не упомянул об охоте на мраморные статуи.
В какой-то момент, когда я вытирал ему со лба пот, он сказал:
– Отведи меня, пожалуйста, к окну. Я хочу видеть скалу.
Напротив кровати было большое распахнутое окно со старыми шторами из пожелтевшего тюля, призванного смягчать жесткий дневной свет, а также служить в качестве сетки, захватывавшей в плен мух, комаров, ночных мотыльков и прочих мелких и микроскопических жучков и насекомых.
Я отвел его к окну и усадил в удобное кресло, раздвинув шторы. Агрессивное, враждебное солнце набросилось на нас и окутало своими красными лучами. Дед смотрел на громадную скалу, настоящую гору, с редкой зеленью на склонах, с редкими деревцами, несколькими оливами и парой-тройкой домиков.
– Там надо было жить, – говорит он мне. – Там спокойствие постепенно бальзамирует человеческую душу. Если бы я мог прожить еще одну жизнь, пусть бы и недолго после смерти, уже близкой, я бы хотел провести остаток дней там, на вершине. Просыпаться с пением жаворонка и засыпать под уханье филина. Посмотри, какая красота, какое райское спокойствие! Посмотри, как грациозно ветер качает верхушки деревьев. Эх, если бы можно было там жить вечно! А мы растратили наши жизни в городах, не знающих гостеприимства, жестоких и безжалостных.
Он не успел договорить эту фразу, как вдруг череда взрывов сотрясла скалистый холм. Красно-черные камни взлетали высоко в воздух, словно окровавленные головы, и столбы серо-черного густого дыма вырывались из дыр, которые разверзлись во внутренностях скалы.
Было ли это делом рук природы? Землетрясение ли разрушило холм, или он стал жертвой нападения неведомого врага? Нечто подобное, каким бы это ни показалось на первый взгляд смешным и странным, то есть то, что кому-то понадобилось разрушить в прах эту мирную красоту, нечто подобное и произошло на самом деле. Военный автомобиль с солдатами, они целились из угрожающе поднятого оружия в вершину холма, пронесся перед нами. За ним второй и третий. Эти люди расстреляли, уничтожили мечту деда.
Дед, красный как рак, вертелся, ругался, сыпал проклятьями. Вскоре, совершенно обессилев от кризиса, который потряс его до основания и выжал из него последние соки, он уронил голову на грудь и погрузился в глубокий сон.
Умер он следующим утром.
На побережье
Мне с трудом удается оторваться от преследователей и выбежать из города.
Я добегаю до берега. Вода зеленая, изумрудного оттенка, местами мелко, местами видно, как дно резко уходит вниз. Из расселины в скале высунул голову гигантский краб с вытаращенными красными глазами, вращающимися вокруг его цилиндрических антенн. Он кирпичного цвета. Но только я хочу подойти, чтобы его погладить, как он снова прячется в расселину, неверно истолковав мои благие намерения. Повсюду я вижу следы и знаки, указывающие на недавних посетителей. Но никого не видно. Пройдя далеко вперед, я вижу возле ручейка на возвышенности компанию мужчин и женщин, которые прямо в одежде заходят в море.
Один слепой держит за руки двух маленьких детей и вместе с ними, тоже в одежде, входит в воду.
Сандалии
Когда он утром шел на работу, той же дорогой, что всегда, проходя – по прямой – около километра, он с большой радостью разглядывал все, что видел вокруг, потому что вскоре ему предстояло засесть в тюрьму душной конторы с искусственным освещением и видом исключительно на световое оконце на заплесневелой стене, где сороконожки устроили свое царство, и обнаружить перед собой стопку бумаг и писем, которые нужно было разобрать и рассортировать.
Невероятные вещи устраивают свой ежедневный парад в любом районе города на глазах у прохожих, и непростительно мало внимания уделяет вечно спешащий или невыспавшийся и сонный прохожий всем этим достойным удивления вещам.
Никифор был хорошим наблюдателем и каждый раз шел по другой стороне тротуара, последовательно изучая таким образом обе стороны дороги. С первых шагов на левой стороне можно было встретить овощной магазин с вывеской «Сад Султаны». На его выкрашенном голубой краской прилавке в больших низких плошках, выстроенных в аккуратный ряд пирамидами, красовались разнообразные свежие фрукты и овощи. По всей видимости, эта «Султана» существовала только в фантазиях автора вывески, а им был не кто иной, как хозяин магазина, имя которого было выведено красивым почерком – все буквы разного цвета – в специальной золотой рамочке, вывеска свешивалась на толстой цепи над дверью: «Манолис». Время от времени кир-Манолис опрыскивал водой свою зелень, используя для этих целей маленький детский опрыскиватель. На вопрос, заданный однажды Никифором: «Не сочтите за великую дерзость и бестактность с моей стороны, но позвольте спросить, что вдохновило вас на создание такой вывески для вашего магазина?», он получил ответ: «Святой Дух». И ответ был искренним, лишенным какого-либо шуточного оттенка. Никифор подумал, что у зеленщика, возможно, была бульшая склонность к живописи, чем к торговле овощами, раз уж даже внутренние стены лавочки он сверху донизу украсил фресками с изображением фруктов и цветов. Яркие, теплые краски его вдохновенной живописи странным образом сочетались с естественными цветами его свежайших садовых продуктов.
И раз уж речь зашла о живописи, нужно сказать, что чуть дальше был дом неизвестного художника, где постоянно проводилась и выставка его работ. На балконе этого деревянного дома табличка с выцветшей надписью гласила: «Постоянная выставка живописи, открыта с восьми утра до конца ваших сил. Художник Харилай, всегда к вашим услугам».
Однажды, не столько из потребности познать прекрасное, сколько повинуясь скорее простому любопытству, он зашел в гостеприимно распахнутую дверь дома Харилая. Поднялся по деревянной винтовой лестнице, скрипевшей при каждом шаге, и очутился на пороге перед закрытой дверью. Он позвонил в колокольчик, и дверь тотчас открылась, словно художник следил за тем, как Никифор вошел, и теперь ждал его. Художник – крупный мужчина неопределенного возраста с выдающейся вперед грудью и плохо выбритыми щеками, изодранными и раскрасневшимися, – начал с шумом вдыхать и выдыхать воздух, как кит, и радостно его поприветствовал: «Добро пожаловать в мою мастерскую! Вы уже пятый посетитель моей выставки за это полугодие. Как вы понимаете, мне несложно считать посетителей. Я как художник, видите ли, не плыву по течению. К тому же я страдаю нервными расстройствами, и мне тяжело работать. Как вы и сами вскоре убедитесь, я художник-реалист и всегда пишу только то, что вижу вокруг. Проходите, милый человек!» Никифор зашел в большую залу в три окна, куда проникал утренний свет. Все стены до потолка были увешаны произведениями мастера всевозможных размеров – от малюсеньких, размером с ладошку, до очень больших: женщины с крыльями вместо рук, овцы в обнимку с лисами, девы с распущенными волосами и с гитарами в руках, мифические чудовища и доисторические животные, высовывающие свои головы из моря. Все это было лишено какого-либо чувства художественной симметрии, порядка и последовательности, находилось в потрясающем бардаке, было свалено в кучи на мольбертах, с красками непроработанными и тусклыми, и все свидетельствовало о внутреннем смятении их создателя, который тем временем тактично удалился, чтобы оставить посетителя в одиночестве наслаждаться картинами.
Никифор долго любовался выставкой, а потом позвал Харилая, чтобы поблагодарить его за вежливый прием.
– Ваши работы меня впечатлили. – Он заставил себя сказать это как можно более естественно. – Уверен, что мне еще представится возможность нанести вам повторный визит. Ваш мир, возможно, кажется пугающим, но обладает тем не менее большим очарованием. Я благодарю вас и поздравляю!
– Вот вы говорите, что он пугающий, не знаю, что и сказать. Знаю только, что рисую я исключительно то, что вижу вокруг. Моя живопись не основывается на фантазии. Она всегда верно отображает реальность. Это – то, что я вижу. Это – то, что видят все.
Харилай, тяжело дыша, пожал мне руку и проводил до входной двери.
– В следующий раз, – сказал он мне при прощании, – если вам понравились мои работы, я покажу вам кое-что еще, чего я пока никогда не выставлял. Это серия набросков для будущих картин. На них изображены исключительно головы женщин на серебряных блюдах. Их я не видел своими глазами, я вообразил их себе в прошлом году, зимой, когда был тяжело болен. Но поскольку они являются исключением для моей цельной коллекции, которая опирается, как вы видели, только лишь на существующий, видимый мир, я не спешу их закончить. Конечно, шансы привлечь внимание публики этими новыми работами высоки. Но я постоянно откладываю работу над ними, поскольку боюсь, что осуществление замысла иссушит свежесть моего первоначального вдохновения. А вы как думаете?
Никифор ответил ему, что его прямая обязанность – рисовать, поскольку долг художника заключается в отображении своих видений, и что он лично тоже будет счастлив, если в будущем сможет наслаждаться его новыми работами.
Напротив дома художника есть магазин, где продаются фильтры для воды. Вода в нашем городе солоноватая, со множеством примесей, и фильтры призваны улучшать качество воды и очищать ее, чтобы сберечь наше здоровье. Какие-то фильтры простые – маленькая коробочка вешается прямо на кран, другие более сложные, и для них требуется специальная установка. Вода на витрине магазина бурлит в стеклянных колбах, а мальчик у входа раздает прохожим рекламные листовки и приглашает всех попробовать воды из трех разных стаканов. В одном вода прямо из водопровода, а в двух других – вода, пропущенная через два фильтра: через простой или через более сложный. Тот, кто сможет отгадать, где будет самая чистая и вкусная вода, и это, конечно, та самая, что была пропущена через конкретный фильтр, получает в подарок механическую бритву.
Дальше, на углу улицы, стоит дом четы Кораксиас. Господин Леон, нервный человечек с высоко подтянутыми на животе штанами, доходящими почти до груди, и Евлампия, изящная, маленькая его жена, гораздо младше мужа. У них нет детей, нет даже канарейки. Но у них полно важных забот, поскольку три наследства, свалившихся на них подряд за полгода, чуть не довели их до безумия. Чистая прибыль от них равна почти нулю, но процесс оформления наследства и прочие формальности – крайне длительные и выматывающие.
Господин Кораксиас выжидает у окна, когда мимо пойдет Никифор, и как только замечает его издалека, быстро спускается ко входу, здоровается с ним и просит зайти хотя бы ненадолго.
– Вы нужны мне, мой спаситель, как нужна вода, чтобы потушить пожар. Вы – единственный, кто может разобраться в бумажном хаосе. Не уходите, я умоляю, присядьте, я объясню, как обстоят дела, – упрашивает он. – Я вам слепо доверяю, – продолжает он, – а бумаг на нас навалилось столько, что я скоро сойду с ума. Единственное, чего я хочу, это отправиться на свой любимый остров и каждое утро закидывать сети в море, и пусть мне не попадется ни одной сардинки. Хотя в прошлый раз я выловил пять окуней, желто-зеленых с черными полосками, очень красивых.
Никифор недолго беседует с ним и обещает зайти как-нибудь вечерком посмотреть бумаги.
– Есть очень много вариантов решений, не волнуйтесь, я найду для вас выход, – успокаивает он соседа.
Чуть поодаль, на этой же стороне улицы, есть магазинчик, хозяин которого занимается в основном ремонтом и починкой обуви, покраской в новый цвет, сменой подошв и так далее. Но на этот раз в его обычно пустой и жалкой витрине за мутным стеклом, много месяцев не мытым, Никифора ждал большой сюрприз. Пара новеньких кожаных сандалий, круглых спереди и с симметричными дырочками по бокам, милого вишневого цвета. Никифор не был щеголем, он одевался кое-как – его брюки редко когда сочетались с пиджаком, но к обуви он испытывал большую слабость и не мог устоять перед прекрасной парой ручной выделки. Увидев вишневые сандалии, он не сдержался – зашел в магазин и спросил, сколько они стоят. Он хорошенько рассмотрел их и примерил – они пришлись тютелька в тютельку. Сандалии были прекрасной выделки, ручной работы, заказ какого-то соседа, который исчез незадолго до того, как должен был их забрать, и они остались в магазине на продажу. Он еще раз примерил, они показались мягкими в ходьбе, они словно отрывали его от земли с каждым шагом. Сапожник завернул их в цветную бумагу, затем положил в бумажный пакет, и Никифор забрал их, весело насвистывая. Тридцать драхм, которые он за них отдал, были его многомесячными сбережениями, но он готов был найти и заплатить даже сорок, если бы у него попросили.
Вечером, вернувшись с работы, Никифор положил сандалии в обувной шкаф – высокую тумбу со множеством ящичков – вместе с другой неношеной обувью (у него всегда было много неношеных пар: одна белая, две коричневые, одна черно-белая и две черных замшевых), не переставая любоваться и восхищаться ими. В воскресенье настал день великого испытания. Он надел сандалии и отправился гулять по горным тропинкам. Сначала он шел легко, но заканчивая долгую прогулку, почувствовал сильную боль и жжение в районе пяток, а когда вернулся домой и снял сандалии, обнаружил две большие водянистые мозоли, появившиеся на том месте, где кожа соприкасалась с обувью. О том, чтобы их вернуть, не могло быть и речи. Он уже носил сандалии, и продавец бы их не принял. Единственным решением было отрезать маленький овальный кусочек кожи от сандалий, так чтобы пятки свободно свисали. Но кто мог это сделать? Он не решался обратиться к мастеру, их продавшему. Операцию мог провернуть еще один местный сапожник, Йоргос-заика. Никифор застал его в магазинчике за изготовлением пары мужских ботинок. Тот сидел верхом на высоком табурете, и его грязный фартук полностью скрывал ноги. Черная кожа, с которой он работал, была обернута вокруг крепкой железной колодки, и при помощи железного же молоточка он вбивал вокруг кожи деревянные гвоздики, вынимая их из уголка губ. Невозможно было представить, как только покупатели находили его в этой далекой тесной келье. И тем не менее факты были выше логики. У Йоргоса-заики всегда была работа. Столько работы, что он мог содержать эту дыру – свою бедненькую лавочку – и самого себя.
– Мастер Йоргос, – сказал я ему, – у меня проблема, прошу тебя помочь. Несколько дней назад я купил пару сандалий, но они натерли мне пятки, было очень больно, и теперь у меня там волдыри. Хотел бы попросить тебя вырезать по маленькой дырочке на каждом из них, маленькую дверцу, чтобы она всегда была открыта, и пятка не терлась об обувь, а мне не было бы так больно. – Йоргос ненадолго отложил свои инструменты на столик и взял в руки сандалии. Он внимательно их осмотрел, а затем снова завернул в бумагу и отдал мне.
– Это работа мастера, специалиста. Художественная работа, – сказал он мне. – Я не имею права ее исковеркать. Прости, но я не буду их портить!
Я потерял дар речи. Его чуткость меня тронула, но мне нужно было найти выход.
– И что же мне теперь делать? – спросил я его.
– Иди в дорогие сапожно-обувные мастерские на улице Афины, может, там смогут их переделать, – сказал он и снова уселся на свой табурет. Взял молоточек и начал забивать деревянные гвоздики в черную кожу, натянутую на железную колодку.
Деревянная дверь с чугунным молотком вся заколыхалась, когда Никифор два-три раза громко постучал. За проволоку, натянутую на дверную ручку, потянули изнутри, дверь отворилась, и открылся вход во внутренний двор, ведущий к задней двери дома.
– Тетя, все у меня сегодня идет наперекосяк, – сказал Никифор старушке, которая открыла ему дверь и теперь стояла на крыльце. – Дай зайду, выпью у тебя стакан воды, умираю от жажды. Я только на кухне у тебя посижу, не хочу тебя беспокоить.
Тетя Марианфа поцеловала его и усадила на высокий стул. Она испытывала к нему смешанные чувства. С одной стороны, она его любила, потому что он был ее кровным родственником, но с другой стороны, она не могла ему простить, что он продолжает жить и заходить к ней в дом, в то время как другой мальчик, ее единственный сын, вот уже много лет как отправился в путешествие, из которого не возвращаются.
– Поскольку ты был лучшим другом моего безвременно ушедшего сына и твоего двоюродного брата, сегодня я тебя озолочу. Я покопалась в ящиках и кое-что для тебя нашла. Пойдем посмотрим.
Она отвела его в свою спальню, где вытащила из ящика тумбочки квадратную картонную коробочку.
– Открой ее, – сказала она. – Это твое, смотри.
В коробочке было около десятка серебряных и позолоченных монет. Они все были тонюсенькие, и на них были изображены древнегреческие боги и философы. Он взял их в руки и поглаживал, как зачарованный, позабыв о мозолях на пятках.
Выйдя из дома, он заметил, что солнце поднялось еще на три фута и теперь молотило лучами колосья на лугу. Он пошел по улице, ведущей к центру города. Высокая стена окружала площадь и скрывала ее собой.
Никифор всматривался в щель деревянной двери с амбарным замком, которая была единственным входом внутрь, но не мог ничего разглядеть.
«Пароль», – подумал он, нужен был пароль, чтобы войти внутрь. Но он забыл, какой именно. Затем вспомнил, что нужно позолотить дверь, чтобы она раскрыла свои секреты. Он открыл коробочку, взял серебряную монету и бросил ее в древесную щель.
«Ешь, ешь, сатана», – сказал он. Дверь проглотила монету, но не среагировала. Однако после того, как он в третий раз ее покормил, добавив еще две серебряные монеты, в середине двери открылось оконце и Никифор смог заглянуть внутрь.
Что же он увидел? Он ничего не мог вспомнить уже через несколько часов, но в тот момент точно видел, как лошади там носились галопом, обнимались, поднимая свои изящные шеи к небу. А еще там была стайка белоснежных – как ангелочки – поросят с закрученными хвостиками и, наконец, орел, который нес в своих когтях барашка.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































