Текст книги "Гостеприимный кардинал"
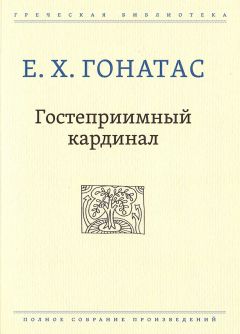
Автор книги: Е. Х. Гонатас
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
– Нет – зови ее сейчас же, – повысил я голос, – и скажи, пусть принесет ножницы.
Снова подбежав к чемодану, я вытащил красный шарфик.
– Это было для нее. Но я передумал. Зови ее немедленно. Я требую, чтобы она присутствовала на церемонии. Я хочу, – продолжил я, размахивая и развевая над ним тонким, как паутина, шарфиком с зелеными блестками, сверкавшими в свете фонаря, – чтобы она видела, как я режу его на кусочки, а затем бросаю на вот эту газету, где у меня для нее припрятан ворс, который я выгреб своими руками из-под кровати, и все вместе прямо в печку, в огонь! – погреем наши косточки, а то сдохнуть можно от холода.
Он слушал меня с открытым ртом. Но, несмотря на все свое смятение, он, кажется, понял, по крайней мере, хотя бы часть моих намеков, потому что, по-бараньи взглянув в сторону печки, сказал, словно про себя:
– Боже мой, не горит? Как же так? Значит, я не в ту комнату вас поселил. Все пошло наперекосяк, все пошло к чертям сегодня ночью.
Затем он вспомнил о моем приказе:
– Но как же мне ее позвать? Ее здесь нет, бедняжки. Она ушла в Хору. И птицу с собой забрала!
– Ты сказал «птицу»? Послушай, Феофан, мне не нравится, когда надо мной издеваются. Значит, это она не давала мне всю ночь сомкнуть глаз своим чириканьем. Вы птицу купили? Поздравляю! Значит, не показалось мне, что я увидел клетку на подставке для цветов, когда входил. Но я подумал, что ошибся, у меня глаза от усталости закрывались, и предположил, что это – как всегда – плетеное кашпо для большого горшка с папоротником. Птица – украшение постоялого двора. Я как-то указывал тебе на это. Но сознательные владельцы заботятся о том, чтобы крепко закрывать вечером дверцу клетки, чтобы птица не сновала свободно по комнатам их постояльцев. Или хотя бы не забывают закутать клетку какой-нибудь тряпкой, как стемнеет, чтобы птица не оглушала людей своим визгом.
– Это не мы купили птицу! Ее прислал мой племянник из Англии. Он написал, что заплатил за нее тридцать гиней. Это редкий и очень дорогой вид. Настоящий кардинал. Ах, если бы вы его видели! Ну, все равно скоро увидите. Головка красная, пепельно-голубые крылышки, беленький животик, а поет как соловей! Но как вы его услышали? Пойдемте со мной, я прошу вас, – сказал он и поднялся, – вы сами, собственными глазами увидите, что это правда. Произошло недоразумение. А тут ко всему прочему еще эта проклятая комната – я и сам не понимаю, как вы оказались в этом хлеву. Я приношу тысячу извинений. Что же вы не крикнули мне сразу, как только переступили порог? Ну да, вы были таким уставшим, разве поймешь? И я тоже виноват, надо были идти следом, но я сам был не в лучшем состоянии. Я опять приношу тысячу извинений. Положитесь на меня. Мы все исправим, завтра все будет отлично! Эх, все пошло наперекосяк, все перепуталось сегодня ночью!
Заканчивая, он открыл дверь, и мы вышли в переднюю. Маленькая газовая лампа свисала с потолка и бросала сине-зеленый свет из своей металлической плетенки. На этажерке стоял большой квадратный аквариум с двумя белыми сазанами. Я заметил, что воды было мало и рыбы плавали, косо изгибаясь, половина их брюха и спины торчали наружу, они с трудом удерживали свои толстые головы в воде, чтобы дышать. Мы прошли по коридору, наступая на вздувшийся холмиками линолеум, и, спотыкаясь о них, дошли до двери центрального входа – рядом с ней стояла подставка для цветов, а на ней – большая плетеная клетка с открытой дверцей.
– Довольно, Феофан, – проревел я, видя, что клетка пуста, – ты притащил меня сюда только для того, чтобы доказать, что птица вылетела? Я это вижу. Однако, да будет тебе это известно, сегодня весь вечер она была в моей комнате. И хотя я не смог ее найти, несмотря на все мои попытки, я уверен, что она все еще прячется где-то там – ее щебетание звучит у меня в ушах.
– Нет, господин Агафий. Если вы слышали какую-то птицу в вашей комнате, чего я не исключаю… я хотел сказать, я в этом уверен, – поправился он, – простите, как я мог сомневаться в том, что вы говорите; я вас уверяю, что это не та птица, которая сидела в этой клетке. Это какая-нибудь другая птица щебетала, а не наш кардинал. Бедняга у нас издох, и Эвника взяла его с собой, как я пытался вам объяснить, в Хору. Она понесла его к бальзамировщику и вернется точно не с пустыми руками. Возможно, птица, которую вы слышали, была та же, которую видел ваш друг, живущий здесь, в номере одиннадцать.
– Ты имеешь в виду того, с кем я приехал? Кто тебе сказал, что он мой друг? Мы просто вместе доехали сюда со станции.
Я рухнул на скамейку, стоявшую возле стены, и сделал Феофану знак, чтобы тот тоже садился.
– А раньше он здесь останавливался?
– Нет, это первый и, надеюсь, последний раз. Он объявил мне, что охотник и пробудет около двух недель – будет охотиться на горлиц. Он всю ночь мне спать не давал. «Господин Феофан, – приходит, будит меня и говорит: – У меня в комнате птица. Иди забери ее». – «Дорогой мой господин Стифас, – так его зовут, – нет у нас на постоялом дворе птиц», – отвечаю. «Пойди посмотри, – настаивает он, – она все время крыльями бьет, беспокойная, на столе сидит, на кровати, на оконной ручке, но – безголосая! Она постоянно открывает клюв, но из горла не раздается ни звука».
– Скажи, а ты ходил проверить? Видел ее? Какая она была?
– Ходил. Три, четыре, пять раз, но ничего не видел. «Господин Стифас, где именно вы видите птицу?» – осмелился я спросить его. «Ну вот же, ты что, окосел, милый человек, не видишь ее? Такая огромная откормленная желтая иволга! Только не поет, бесстыжая. Издевается она над нами, что ли, или язык ей отрезали? – говорит он мне в первый раз. – Вот она, сейчас спрыгивает с кресла и прогуливается по полу. Наклонись, посмотри на ее помет».
– Которого, конечно же, не было, – прервал я его.
– Увы! Я не хочу скрывать от вас мой страх, я почувствовал, что у меня крыша едет, когда, наклонившись, с ужасом обнаружил, что на полу поблескивает пятнышко помета! Я даже разглядел его форму и цвет. Оно было продолговатым и пепельного цвета, только на самом верху его кончик выдавался, как маленькая белая шапочка! Однако птицы я по-прежнему нигде не видел. «Вон там, наверху, смотри, сейчас она порхает под потолком, вокруг люстры, – продолжал меня мучить господин Стифас, – вот она, сейчас села к тебе на плечо», – он каждый раз показывал мне разные места, где, как ему представлялось, находилась птица. Вы понимаете, в какое трудное положение он меня поставил, как же мне было перечить ему? К тому же существовало это пятнышко. Кроме того, клиент ведь всегда прав, а бедный хозяин должен терпеть его странности, вы же сами меня этому научили, – ну, я и притворился, что тоже вижу ее, вытащил полотенце из передника, – я впервые заметил, что поверх рубахи у него был надет коричневый передник, – и тряс им в ту сторону, куда он показывал, чтобы якобы прогнать ее, пока в один прекрасный момент он не взял свой карабин, не вставил патрон и не начал целиться в воздух, готовый выстрелить, положив палец на курок. Тут я: «Нет, умоляю вас, господин Стифас, – говорю ему, – ради бога, не надо выстрелов на постоялом дворе, это неподходящее место для охоты, вы меня уничтожите, здесь же есть и другие постояльцы», – мне пришлось соврать, так как кроме вашего превосходительства никого нет. «Хорошо, – говорит он мне, – тогда я попробую, может, получится поймать ее сачком», – он приехал, как я говорил вам, на охоту и притащил с собой все свои орудия: кожаные мешки, ремни с патронташем, бурдюки для воды, силки, сети. И так до последнего раза, когда я пошел к нему: «Я только что открыл окно и, наконец-то, смог ее прогнать, – сказал он мне, – ты мне пока больше не понадобишься». Но на самом деле он выглядел не очень убедительно. Он сказал это с очень задумчивым видом. Его блестевшие глаза были пригвождены к одному из углов стола, и я уверен, что он по-прежнему видел что-то, чего я увидеть не мог…
Я умоляю вас, господин Агафий, помогите мне, я потерял терпение. Я скоро с ума сойду. Я не могу осмелиться вернуться к себе, лечь в своем уголке, от страха, что он опять начнет все сначала. И вот еще что меня мучает – как я мог это упустить, Боже мой, я никогда себе этого не прощу, – почему мне не хватило смелости, почему я поколебался в последнюю минуту и не схватил помет пальцами, чтобы быть полностью уверенным? Временами я боюсь, что это был лишь плод моего воображения или что меня заколдовал этот подлец… Но, если предположить, что он и правда обладает такой дьявольской силой, почему тогда у него не получилось заставить меня увидеть и птицу? Нет, наверное, помет был на самом деле, – а вы что скажете? – тогда я чувствую огромную вину, что не потрудился помыть пол, что было моей обязанностью.
– Приди в себя, Феофан, – сказал я ему сочувственно, – эти противоречивые мысли, теснящиеся в твоей голове, не что иное, как результат изнурения и возбуждения, следствие твоих переживаний по поводу смерти птицы, разлуки с Эвникой и чрезмерной чувствительности. Ладно, я задним числом оправдываю тебя и прощаю за неуместный вопрос о содержимом моей корзины. У тебя голова шла кругом, и ты искал какое-нибудь логическое объяснение этим событиям. Ты бы успокоился, если бы убедился, что я везу птиц, потому что тогда, это совсем не маловероятно, какая-нибудь птица могла убежать и гулять по комнате гостя, найдя там прибежище. На тебя все скопом навалилось. Неудивительно, что ты сломался… Чтобы тебя утешить, я расскажу историю, случившуюся как-то со мной, и ты увидишь, что я был в гораздо более скверном положении, чем ты.
Однажды в полдень, пять-шесть лет назад, в городе, где я живу, было внеочередное заседание городского совета, в нем вместе с прочими почтенными гражданами принимал участие и я. Итак, мы собрались за круглым столом, чтобы обсудить важный вопрос, решение его требовало осмотрительности и тонкого, галантного руководства. Было обнаружено какое-то мошенничество при реализации и распределении угля на фабрике, принадлежавшей городу, по производству светильного газа. Дилемма была в том, надо ли раскрыть или скрыть растрату и без лишнего шума выгнать виновного, не впутывая органы правопорядка. Принять решение было нелегко. Я, смертельно устав от многочасового и шумного спора, неосознанно, от нечего делать, засунул себе в рот металлическую скрепку, которую давно нервно теребил в руках, и стал ее жевать – в какой-то момент я чувствую, как она выскользнула у меня между зубов, упала на землю, и я потерял ее. Скоро вопрос должен был быть поставлен на голосование, и мое внимание должно было быть сосредоточено. Но, скажи-ка, как мне было сосредоточиться, когда мне вдруг пришла идея, что скрепка не упала на ковер, как можно было логично предположить, но что я запросто мог ее проглотить, принимая во внимание то, что ее исчезновению предшествовало, я забыл тебе об этом сказать, мое сильное, шумное чихание. Меня охватила паника, но обстоятельства не позволяли мне ее выразить. И тогда началось мое великое мучение! С одной стороны, я пытался следить за тем, что говорили другие советники, так как я был обязан каждый раз отвечать на их вопросы, а с другой стороны, у меня из головы не шла траурная мысль, что вот и все, все кончено, я обречен, я представлял, как острые края скрепки, ведь они развернулись, пока я теребил и жевал ее, вонзаются в мой желудок, – и даже если они, думал я, выскользнут оттуда, то уж точно вопьются ниже в мои кишки, так что хорошей тебе поминальной кутьи, Агафий! Надо также добавить, что я стал ощущать несильные, но острые боли в желудке, превратившие мои страхи в почти уверенность. «Пюре, Агафий, – ты должен немедленно съесть глубокую тарелку пюре или просто вареной картошки, если хочешь спастись, – говорил я про себя, – это твоя единственная надежда!» Я вспомнил, как где-то читал, что в подобных моему несчастных случаях пюре – единственное противоядие. Но скажи мне, как я мог осмелиться попросить о такой вещи, принимая во внимание обстоятельства, которые я тебе описал? Итак, от безнадежности я уронил карандаш на пол и сразу же наклонился его поднять, притворяясь, что якобы исправляю свою неловкость, а на самом деле я гляжу в оба, с отчаянием разыскивая потерянную скрепку! Но проклятая скрепка не показывалась нигде в поле моего зрения (этому, конечно, способствовал и сам лохматый ковер, вроде пятнистого шерстяного одеяла), и в довершение моего отчаяния я с силой наседаю на не столь уж крепкий стул, тот, как я правильно предположил, не выдержал неожиданного давления моего тела – с треском оторвалась одна его ножка, стул подкосился, и я рухнул на пол. Воспользовавшись общей суматохой и замешательством от моего падения, я принялся ползать на четвереньках под столом. Излишне говорить, что скрепка нигде не нашлась, что потом я пережил два кошмарных дня, в сомнениях, проглотил я ее или нет, и что мое безволие – как и твое в случае с пометом – из-за боязни принять правду победило страх, не позволив мне в итоге – как следовало бы – сделать рентген.
– Спасибо вам, господин Агафий, – сказал Феофан, когда я закончил свой рассказ, – я очень тронут вашими словами. Вы даже не знаете, какое они мне принесли облегчение. Сделайте мне теперь огромное одолжение, мой благодетель, раз уж так получилось, что и вы потеряли сон, давайте сходим вместе к господину Стифасу. Я не знаю, говорил ли я вам об этом раньше, но он хотел вас видеть.
Он принял мое молчание за согласие:
– Одну секундочку, подождите, пожалуйста, я сначала принесу фонарь.
Он ненадолго меня оставил, пошел в мою комнату и вернулся с ночным фонарем.
– Осторожно следуйте за мной, – сказал он. – Теперь будет темно хоть глаз выколи – у второй лампы горелка сломалась, а на этом треклятом линолеуме две большие дыры. Я новый купил, но еще не успел постелить.
Мы повернули направо, где коридор продолжался, образуя прямой угол. Фонарь последовательно осветил ряд находящихся одна напротив другой дверей, свежеокрашенных серой масляной краской, которая издавала тяжелый запах рыбьего клея. Мы остановились перед предпоследней. Она была приоткрыта, и за ней виднелась ярко освещенная комната.
– Входите, – послышался в ту минуту, когда мы уже собирались постучать, хриплый голос: человек, видимо, слышал наши шаги и ждал нас. – Добро пожаловать, – нас поприветствовал низкорослый крепкий мужчина с густой рыжеватой бородой, он вскочил со стула и поспешил мне представиться:
– Стифас.
– Бертумис, – ответил я на приветствие, – очень рад нашему официальному знакомству. Я прошу у вас прощения, что по причине сильной усталости не позаботился о том, чтобы познакомиться раньше, во время нашего краткого пути в экипаже, – сказал я и пожал протянутую мне волосатую руку.
– Ну что вы, это было мое упущение, большая бестактность с моей стороны, это вы меня извините. Но и я чувствовал себя неважно – очень был утомлен путешествием, – ответил он, переведя взгляд на хозяина, стоящего столбом посреди комнаты, украдкой исследуя пол (безрезультатно, как я понял). А затем продолжил наш обмен любезностями: – Я надеюсь, господин Феофан исполнил свои обязанности сполна и более, – заявил он, – он чрезвычайно устал, и мне жаль, что мое сегодняшнее поведение было причиной того, что он валится с ног. Я думаю, было бы неправильно затягивать до скончания века его мучения, о которых он вам, я предполагаю, уже сообщил. Возможно, было бы предпочтительней разрешить ему удалиться.
Несмотря на вежливость речи, у его голоса был холодный и строго приказной тон.
Феофан, не будучи, конечно, таким дураком, каким казался в эту минуту, правильно истолковал относившиеся к нему слова как приказ, не терпящий возражений, и, понимая, что не сможет добиться решения загадки исчезновения помета – о чем я счел нужным держать рот на замке, – поспешил сказать:
– Как вам будет угодно, господин, хотя не стоило говорить о моей усталости, ведь моя работа – делать все от меня зависящее для наилучшего обслуживания клиентов, и я с удовольствием вас оставлю, чтобы вы могли спокойно поговорить.
При мысли, что он оставит меня наедине с незнакомцем и к тому же – как он описывал – жертвой своих иллюзий, чтобы не сказать совершенно сумасшедшим, я забеспокоился – однако при таком повороте дел не мог сопротивляться. Я, в конце концов, очутился здесь по собственной воле и поэтому, быстро взвесив ситуацию, решил, что будет разумнее не возражать и не задерживать Феофана, который с глубоким поклоном, с явным беспокойством, но вместе с тем и с облегчением пожелав: «Приятно вам встретить рассвет, господа», сделал шаг назад, а затем, постояв минутку и снова поклонившись, повернулся к нам спиной и закрыл за собой дверь.
– Уф! Мы от него избавились, хотя я был бы несправедлив, если бы не признал, что это человек во всем почтенный, честный и образцовый профессионал. Тем не менее его дальнейшее присутствие было бы – вы ведь тоже так считаете, не так ли? – препятствием для нашего задушевного разговора, – сказал мне господин Стифас, как только мы остались одни. – Если, конечно, вы считаете, что время для этого неподходящее, я не буду вам мешать вернуться и продолжить ваш сон, а поговорим как-нибудь в другой раз, поскольку, как мне сообщили, вы пробудете здесь довольно долгое время, – добавил он.
– Нет, я с большим удовольствием останусь. Некое странное происшествие – возможно, мы поговорим об этом позже – сегодня меня взбудоражило и стало причиной того, что я потерял сон. Теперь я совершенно проснулся, и вернись я сейчас в номер, чувствую, что все равно не смог бы глаз сомкнуть.
– Ну, хорошо, очень хорошо. Я тоже, как видите, нахожусь в подобном состоянии. Но почему вы пребываете столько времени в вертикальном положении? Садитесь, пожалуйста, я прошу вас, – сказал он и подвинул в мою сторону большое широкое кресло, обитое вишневым новеньким штофом, по сравнению с которым мое кресло, куда я недавно усадил Феофана, было настоящей развалюхой.
Я заметил, что номер был хорошо протоплен. В зажженном камине толстые поленья горели, треща и разбрасывая искры, и их жадно поглощал почерневший дымоход. С потолка свисала старая люстра, раскидывая в стороны четыре бронзовых – искусно украшенных – лапы, из их острых кончиков выпрыгивали живые языки газового пламени. Напротив меня, над столом, висела копия картины на очень известную тему. Я мог бы поклясться, что опишу ее даже с закрытыми глазами. На ней был изображен элегантно одетый молодой человек в соломенной шляпе: облокотившись о ствол дерева, он любовался с берега маленькой речушки молодой крестьянкой, которая стояла в воде и, приподняв подол длинной красной юбки, кокетливо ему улыбалась. Вдалеке возвышалась туманная горная гряда.
Здесь все – исключая некоторый беспорядок, созданный костюмами и многочисленными орудиями охотника (только часть из них перечислил мне Феофан), так как они были разбросаны повсюду, – источало чистоту, аккуратность и особенную заботу. Хорошо протертая мебель, белейшие подушки с вышитыми наволочками сверкали на двуспальной дубовой кровати, на которую было наброшено цветастое покрывало. На комоде стоял стеклянный графин с посеребренным носиком, наполненный чистейшей водой. Вдруг я понял, в чем дело. Вот объяснение, почему Феофан бормотал в бреду, когда я сделал ему замечание о том, как ужасно в моем номере, что «все смешалось, все перепуталось сегодня. Наверное, произошла какая-то ошибка, я поселил вас не в ваш номер». Это был мой номер!
Я не успел все это осознать, как господин Стифас, заметив мое замешательство и нервозность, так как следил за моим взглядом, остановившимся в этот момент на его охотничьем ружье, стоявшем в одном из углов, спросил меня:
– Ну как вам? Нравится?
– Красивое, – сказал я, хотя ни черта не понимал в оружии, только для того, чтобы не показаться невежливым.
Он встал и, сперва нежно погладив его, принес ружье мне, чтобы показать поближе.
– Я не знаю, назвал ли бы я его красивым, – сказал он. – Без курков, которые были на ружьях наших дедов, оно похоже на кошку с отрубленными ушами. Однако это исключительное ружье. Настоящий карабин Браунинг. Бельгийской сборки. Я его специально под себя заказывал. Посмотрите на приклад. Вы видите вот в этом месте маленький выступ? «Щечка» он называется на нашем языке. Ее сделали, чтобы мне было удобно класть ружье на плечо, где у меня имеется некий врожденный недостаток. А вы любите охоту?
– Как вы сказали? Охоту? Нет, мне кажется, я не мог бы представить себя охотником.
– Ну ладно, только не говорите мне, что никогда не держали в руках ружья. Вы что, правда никогда не ходили на охоту? Но ведь любовь к охоте присуща людям с древнейших времен.
– Отвечая на ваш вопрос, я вам честно говорю: нет. Во мне, видимо, – и я сожалею, если разочарую вас, – никогда не проявлялась подобная склонность. От вида одного только убитого зайца со вспоротым брюхом и набитым в него тимьяном или мастикой меня в дрожь бросает. Я с отвращением прохожу мимо, если на базаре ко мне подходит какой-нибудь крестьянин и докучливо предлагает купить пару диких уток, подвешенных за почерневшие клювы на рогозе. Я люблю и охраняю животных.
Господин Стифас, внимательно меня выслушав, заметил:
– А кто вам сказал, что охотник их не любит? Но давайте пока оставим эту тему. Я, если позволите, задам вам, со всем уважением, которое я к вам питаю, другой вопрос. Вы когда-нибудь в жизни воровали?
Его дерзость меня поразила, и мне захотелось ответить: «За кого ты меня принимаешь, невежа? Как ты смеешь, осел, задавать мне такие вопросы?» Однако я сдержался и сказал как можно спокойнее:
– Не думаю.
– Вы так нерешительно это говорите! – сказал он. – Так же неизменно отвечают сначала все – отрицают, с беспокойством или в панике, как бы доброжелательно ни задавал им кто-либо этот невинный вопрос. Как будто в случае утвердительного ответа я отправил бы их к прокурору! Я имел в виду, конечно, не то, что вы совершили какую-нибудь серьезную кражу, украли кошелек или часы у вашего соседа. Я не слепой и вижу, что на вашем лице, как солнце, сияет добропорядочность. Однако я вас уверяю, что не существует человека, который на протяжении своей жизни не нарушил хотя бы один раз – хотя я думаю, много больше, – седьмую из десяти заповедей. Если вы немного пороетесь в памяти, не может быть, я готов спорить на что угодно, чтобы вы не вспомнили, как что-нибудь украли. Ну, допустим, когда вы были ребенком, ластик у одноклассника, или попозже, почему бы нет? – извините, я использую избитое и довольно смешное выражение, но я это делаю только для того, чтобы помочь вам ощутить дух – сердце женщины?
– Давайте лучше оставим амуры в стороне. Я разве похож на Дон Жуана? – сказал я.
– Я бы не хотел дать неверный ответ, так как не располагаю необходимыми данными. Это было бы легкомысленно, – ответил он улыбаясь, – но верно одно, – добавил он, – и я это говорю не для того, чтобы польстить вам, что вы все еще, несмотря на некоторый возраст, очень привлекательны. Годы прошли, поверьте мне, не оставив на вас следа. Как капли воды на крыльях утки.
– Если бы у меня не было случая удостовериться в вашей серьезности, я бы мог подумать, что вы надо мной смеетесь. Теперь что касается вашего вопроса, я отвечу в том же ключе, в котором вы его задали. Когда я был маленьким, я, помнится, понес точить кухонный нож и точильщик на сдачу с талера[13]13
Греческая монета в пять драхм.
[Закрыть] дал мне не одну драхму, а достал из передника почерневший червонец (безусловно, его чернота ни в чем не уменьшала его серебряного достоинства, к тому же, потерев его тряпкой, смоченной в уксусе, можно было вернуть ему первоначальный блеск), но я, хоть и заметил это, ничего не сказал, только быстренько засунул его к себе в карман. Однако на полпути мне стало стыдно, и я, раскаявшись, вернулся, чтобы его отдать. Но по несчастливой случайности точильщика не оказалось на месте, он уже ушел. «Ну что же делать, – сказал я, – верну завтра».
– Но что-то случилось, – прервал он, – и помешало вам пойти – вы отложили это на послезавтра, и в конце концов, отсрочка к отсрочке, вы оставили его у себя и так никогда и не вернули… Вы не должны винить себя. Он тоже наверняка воровал у вас в цене и был наказан – согласно закону Моисея – четверицей!
– Да нет же, вы не дали мне закончить. Вернувшись домой, я заперся в своей комнате и вывернул все карманы в поисках червонца среди прочей мелочи, но обнаружил, что червонца нет! После того как вновь перетряс карманы и во второй раз внимательно изучил их содержимое, я увидел, что червонец, который, как я думал, я оставил себе, был не чем иным, как драхмой. Разве не было бы естественным почувствовать облегчение, ведь я избавлялся от необходимости снова бежать к точильщику? Разве мне не следовало совершенно успокоиться? Наоборот, я почувствовал печаль и разочарование – как будто кто-то обманул меня. А как же еще можно истолковать мое огорчение, кроме доказательства того, что я намеревался присвоить червонец?
– Это было большой неожиданностью! – пробормотал разочарованный моей исповедью господин Стифас, он не ожидал услышать, что точильщик, которого он в любом случае считал вором, избежал достойного наказания, – но раз уж вы раскрыли, – продолжил он через некоторое время, – свое сердце и почтили меня своим доверием, позвольте заметить, что эпилог вашего рассказа был разоблачителен. Он полностью подтверждает мою точку зрения. Что доказывает, таким образом, господин Бертумис, что не так просто осудить с легким сердцем кражу, так как даже вы – вы должны это признать – были, пусть только мысленно, вором.
– Довольно! Я попросил бы вас сменить тему разговора.
– С удовольствием. Я понимаю. Итак, давайте вернемся к главной теме нашего разговора, к охоте. Вы ответили мне, я хорошо это помню, что в вас никогда не проявлялась врожденная склонность к охоте. Однако я боюсь, вам будет сложно мне это доказать. Если бы вы сказали, что с детства имели эту склонность, но позже у вас не было возможности развить ее, это было бы более точно. Все дети охотятся на бабочек, сверчков, кузнечиков, лягушек, цикад, майских жуков. Не говорите мне, что вы были исключением.
– Вы правы, я признаю, что не подумал об этом, – ответил я, задумавшись, – но что касается охотничьего ружья, я могу поклясться, что никогда не брал его в руки.
– Дорогой мой Агафий, посмотри мне в глаза. Я никогда не смог бы себе простить, если бы позволил тебе дать ложную клятву. Я узнал тебя в первую же секунду, как только увидел. Ты не изменился, хотя мы не виделись почти сорок лет. Но я сдержался, так как ты не подал виду, что узнал меня, – это может быть из-за бороды, покрывающей мое лицо, – и я решил не открыться тебе сразу. «Дай-ка я его сначала немного помучаю», – подумал я. Ты помнишь, как сыграл со мной ужасную шутку, когда мы были детьми? Поэтому мы и не виделись с тех пор.
– Только не говори мне, что ты Меме! – вскрикнул я.
– Собственной персоной.
Я встал и обнял его, растрогавшись.
– Подумать только, даже твоя фамилия, которую я столько раз сегодня слышал, ничего мне не напомнила. Но, даю слово, сейчас я вспомнил, когда я увидел тебя в карете, я почувствовал, как что-то заскреблось у меня внутри. Какое-то глубокое воспоминание зашевелилось в моей душе. «Я его откуда-то знаю», – подумал я. Но снова быстро погрузился в спячку, я ведь очень устал от путешествия.
Меме, дружески хлопнув меня по спине, пошел к шкафу и вернулся оттуда с бутылкой красного вина и двумя бокалами.
– Наше здоровье! – воскликнул он, чокаясь. – Этот нектар – как раз то, что нам нужно. Эта ночь у меня прошла ужасно, и я так хотел тебя увидеть, поговорить с тобой.
– Знаю, знаю. Мне в общих чертах рассказал Феофан. Я, как и ты, должен тебе сказать, тоже настрадался из-за птички. Бесстыжая пробралась в мой номер и верещала всю ночь. И несмотря на то, что я все вверх дном перевернул, все перерыл, я так и не смог ее найти.
– Эта птичка снова свела нас вместе, а другая – развела на годы, – сказал он.
Он отпил глоток из бокала и спросил:
– Ты помнишь тот день?
– Теперь я все помню так ясно, как будто это было вчера. Был летний вечер. Мы вышли из твоего загородного дома, полные радости и оптимизма первооткрывателей. То и дело мы доставали из карманов свои рогатки – твоя была железная, моя – из дерева черешни; и пробовали их резинки, они были упругие и крепкие, новехонькие. Но время шло, мы видели, как уменьшаются запасы наших шариков, а мы не попадали ни в одну птицу и стали впадать в отчаяние.
– Тогда я предложил тебе пойти подальше, – сказал Меме.
– Да, и мы потащились к оврагу. Уже начало смеркаться. Птицы стаями пролетали над нашими головами. Но они летели высоко – даже если бы мы попробовали в них стрельнуть, все было бы напрасно. Мы держали рогатки в руках и ждали. И вдруг мы оба стреляем. Одна птица свалилась с ветки смоковницы и исчезла в кустах ежевики. Мы кубарем покатились по тесной тропинке, стали раздвигать кусты и искать, как сумасшедшие. И тебе не повезло, ее нашел я. Она была в нескольких шагах, на большом камне. Я нагнулся и поднял ее. «Это моя птица, я ее первый увидел, вор», – поднял ты крик, подошел и попытался выхватить ее у меня из рук. «Почему твоя? Я первый услышал, как она поет на ветке. Докажи мне, что это твой шарик в нее попал!» – ответил я и прижал ее к себе – вдруг я резко передумал, повернулся и протянул ее тебе. – Ладно, возьми ее, ты прав. Это ты в нее попал. Мой шарик в последний момент выпал, и я выстрелил вхолостую». Без лишних слов ты схватил птицу и засунул ее в свой мешок.
– И так я попался в твою ловушку, – засмеялся Меме, – я так жаждал заполучить трофей, что не смог заподозрить тебя в кознях. Когда мы вошли ко мне домой, где нас ждали: ты – скромный, я – гордый, как надутый индюк, – в столовую, где вокруг стола с зажженными свечами и расставленными приборами сидели мои отец, мать, сестра и ее подруга Анфи, красивая темноволосая девочка, в которую я был тайно влюблен. «Вы опоздали, обед уже закончен, – сказал мой отец, вытирая салфеткой усы. – Давайте-ка посмотрим, что за добычу принесли нам наши великие охотники?» Ты встал в стороне, принял несчастненький вид и сказал: «Сегодня удача мне не улыбнулась, господин». – «А Меме, – сказал мой отец, – кажется более довольным, чем ты». Я подошел, победоносно достал из своего мешка птицу и положил ее на стол со словами: «Последним шариком ее сбил, когда мы уже уходили». И сразу же понял свою ошибку, но было уже поздно ее исправлять. От птицы исходила ужасная вонь, а пучок желтых перьев отвалился с шеи и остался на моих пальцах. «Убери ее немедленно отсюда, – проревел мой отец, зажав нос, – как ты смеешь, грязный лгун, показывать нам эту дохлятину, тем более в святое обеденное время? Вон, обманщик!» Так трагикомично закончилась наша первая охота. А ты тем временем поспешил улизнуть через балконную дверь, я слышал, как ты перепрыгнул через забор и щебень захрустел под твоими башмаками, когда ты убегал. С тех пор я тебя не видел. Но, знаешь, я быстро тебя простил. Из-за того унижения я не бросил охоту. Напротив, мое рвение к ней не улетучилось, а стало страстью, болезнью. Таким образом, дорогой мой Агафий, не было бы преувеличением сказать, что именно ты помог мне с годами стать важным охотником, чем я сегодня очень горжусь. Давай выпьем по последнему бокалу!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































