Текст книги "Гостеприимный кардинал"
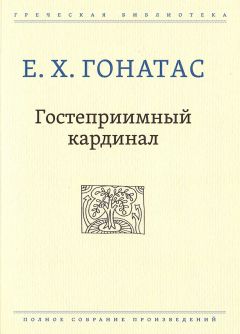
Автор книги: Е. Х. Гонатас
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
В
О, какими, какими метлами Это солнце с небес стряхнуть?
Сергей ЕсенинПоездка
Посвящается Илии
Площадь была пустынна, и камни ее мостовой дымились от зноя.
– Найти бы лодку, чтоб забрала бы нас с этого острова! – сказал мой товарищ.
Он снова начал бредить. Если бы я напомнил ему, что мы не переплывали моря, это все равно бы не помогло.
– И куда бы мы поехали? – только и спросил я, насколько мог спокойно, показывая ему на глубокую, непреодолимую тьму вокруг нас, окружающую площадь, как высоченный забор.
– То есть ты хочешь сказать, что нам не выбраться за пределы площади?
– Я уже отвечал на этот вопрос сотни раз – почему ты не хочешь этого понять?
– Дело не в том, что я не понял – я не хочу в это верить! – сказал он, безнадежно склонив голову.
– Поверь в это! – закричал я, рассердившись и теряя терпение. – Солнце, неизвестно почему, остановилось уже несколько недель назад точно над нами и, концентрируя свой свет, как прожектор, направляет его исключительно на эту площадь. Оно отрезало нас от всего остального мира!
– Пленники солнца! – пробормотал он.
– Наконец-то! – воскликнул я с облегчением. – Ты сказал это! Или я, может, не расслышал? Скажи еще раз погромче. Не трепещи перед правдой. Дай я тебя поцелую.
Он отказался, отвернув резким, обидным движением лицо.
– Но почему оно выбрало именно нас? Что особенного мы из себя представляем? Ах! Зачем я тебя послушал? – захныкал он. – Это была твоя идея изменить планы и прийти сюда почитать газету. Разве плохо было, я тебя спрашиваю, столько лет, когда мы читали ее у меня на террасе? Ты хотел какой-нибудь перемены. Согласен. Я не говорил нет. Я не отказывался. Я в свою очередь предложил тебе прийти на твою террасу.
– Он неизлечимый тупица, – подумал я, – и какой неблагодарный!
И, избегая опасности снова попасться в ловушку бесплодного диалога, куда до этого я попадался столько раз, я не ответил, что в моем доме нет террасы, о чем было совершенно излишне упоминать, потому что он и сам прекрасно это знал.
– Если бы я не согласился сопровождать тебя в этой прогулке, – он продолжал меня провоцировать, – ты сам никогда бы не решился прийти сюда.
Это надо было признать, но проблема была не в этом.
– И в чем бы изменилась ситуация? Может, было бы и хуже. И не может, а точно, если бы…
– Как, в чем бы изменилась? – перебил он меня. – Если бы я проявил характер, если бы поспорил, если бы устоял перед твоим упрямством, мы бы сегодня не сидели запертыми на дне этого отвратительного колодца.
Он ненадолго остановился, кашлянул, бросил взгляд на часы, приложил их к уху и, убедившись, что они идут, сказал мне удовлетворенно:
– Ты знаешь, который час?
Я посмотрел на него с пониманием.
– Шесть часов вечера ровно, – объявил он. – В это время мы бы обглодали уже последнюю страницу нашей газеты, закончили чтение объявлений и предоставили отдых глазам, обводя взглядом соседние террасы, трубы над ними, дальше – купол церкви, вид которого всегда наполнял нас ликованием от тайной мысли, что в его воздвижение мы тоже внесли свою лепту (из скромности мы выражали эту мысль, обмениваясь только взглядами), – затем мы бы разглядывали воробьев, которые собираются на черепице в ожидании, когда мы покормим их крошками и кунжутом из наших карманов, и на кошек, которые подкрадываются к ним бесшумно, но им никогда – к нашей великой радости – не удавалось сцапать ни одного из них, – мы бы смотрели на развешенное на проволоке белье, источающее прохладу и тот аромат зеленого куска мыла, который так притягивал нас обоих – может, потому что навевал воспоминания о детстве, пролетевшем, о Господи! безвозвратно, – когда нас сажали в корыто и мыли им. Ты помнишь, как мы в прошлый раз удивились, когда увидели те впервые появившиеся бюстгальтеры, они висели, развеваясь, на прищепках? Ты их не заметил – я тебе их показал, сказав: «Взгляни на этих воздушных танцовщиц», – ты сразу же вырвал у меня из рук бинокль, и, намечтавшись вдоволь, внимательно изучая прекрасные разноцветные вышивки на них, наклонился, и, улыбнувшись, хитро прошептал мне на ухо, низвергая мою романтическую метафору: «Между нами, дружище, разве ты не предпочел бы, чтобы они были наполнены?»
Эти счастливые картины, всплывающие в памяти, смягчили его гнев, но разворошили боль, и я заметил, что, пока он говорил, крупные слезы бороздили его щеки.
Мне было его жаль, но я презирал его. Логика мне подсказывала, что надо отделить боль, как следствие самого большого, самого жалкого заблуждения.
Он никоим образом не хотел признать, что стрелки его часов, как бы он ни заботился о том, чтобы они всегда были хорошо заведены, не показывали настоящего времени.
Если бы он попытался, хотя бы чуть-чуть, воспользоваться мозгами, ему было бы нетрудно понять, что в эту секунду в любом другом месте, кроме этого уголка земли, все погружено в самую густую, самую черную, самую абсолютную тьму. Ни малейшего намека, ни одного лучика солнца не вырывается отсюда, не отклоняется с нашей площади. Здесь бескрайнее отшельничество света. На другом берегу – бескрайнее царство тьмы.
– Боже мой! – сказал я тихо, перефразируя всем известные строки Данте[10]10
«Всем известные строки из Данте»: …Nessun maggior dolore, / che ricordarsi del tempo felice / nella miseria… («Нет большей муки, чем помнить радостные времена в несчастьи…»)
[Закрыть], неожиданно пришедшие мне на ум. – Нет большего страдания, чем иметь товарищем по несчастью идиота.
Однако тотчас же почувствовал, что был невежлив:
– Прости мне, о Божественный Учитель, мою непочтительность, – вскричал я, – у меня не было умысла оскорблять твою священную тень!
– Ничего, дитя мое, ничего. Ты совершенно меня не оскорбляешь, – успокоил меня сладкий голос, идущий, как мне показалось, с неба. – Кроме того, по случайности эта терцина, плодотворно вдохновившая тебя, из, если ты не помнишь, пятой песни моей Комедии, она не моя. Я тоже ее перефразировал со слов моего Учителя, Боэция[11]11
Боэций (470–524) в своем труде «Consolatio philosophiae» («Утешение философией») пишет: «In omni adversitate fortunae infelicissimum genus infortunii est fuisse felicem» («Быть несчастным, когда некогда был счастлив, есть худший вид несчастья»).
[Закрыть], разумеется без его разрешения, и к тому же опубликовал ее. Ты, конечно, свою терцину не опубликуешь никогда!
Коровы

Коровы
Никосу Гавриилу Пендзикису
Мы сидим в открытом кафе: пять-шесть стульев, выстроенных в ряд на берегу маленькой речки, и дальше, под платаном, лачуга, утопающая во вьюнке, с табличкой «Образованная Арахна». Мы пьем узо, глядя на то, как форели то и дело по двое выпрыгивают из воды, пенящейся, словно белый венок, вокруг их сверкающих голов. Мы безмолвно радуемся спокойной красоте пейзажа.
Но проходит немного времени, и три громовых взрыва подряд сотрясают стаканы на столах и оглушают меня. Я пробуждаюсь от грез, подпрыгнув на стуле. Слышно, как какое-то стекло разбилось далеко на ферме; голоса и проклятия, искаженные расстоянием, ненадолго возмущают спокойствие. Затем снова тишина. Остальные вокруг, местные, невозмутимо, будто ничего не слышали, продолжают цедить узо, вытирая руками капли, капающие у них с усов. В их волосах летают большие вечерние комары. Я не могу удержаться и оборачиваюсь к тому, кто сидит рядом со мной. На нем шелковая ряса.
– Отче, – спрашиваю я, – что происходит? Ты слышал выстрелы?
Поп воевал с курицей, пытаясь запихнуть ее толстыми пальцами в широкий рукав, та все время высовывала голову. Не глядя на меня, он ответил:
– Господь, дитя мое, наказывает сребролюбивых пастухов.
Затем, видя, что птица успокоилась и перестала вылезать из его рукава, он поднимается и делает мне знак следовать за ним. Остальные даже не смотрят на нас. Мы обходим сзади кофейную лачугу, проходим через забор с плетями кабачков, нагруженных оранжевыми цветами, большими, как медные трубы, и выходим на бесконечное поле, где вырыто множество водоемов. Слышно, как животные сопят, выдыхая. Мы ходим от ямы к яме. Они все глубокие, без воды, а по дну бродят коровы с бурыми шкурами. Они то и дело наклоняют свои толстые шеи к яслям и медленно жуют. Их огромные животы выдаются наружу, круглые-прекруглые и вздутые.
– Вот там, посмотри на них хорошенько сейчас, когда они поднимают хвосты, чтобы отогнать мух, – говорит мне мой спутник.
Я смотрю и вижу, что глубоко в зад им засунули по большой белой пробке. Ремни, пропущенные под ногами и животом и затянутые на спине, крепко удерживают на месте затвор, так что животное никак не может вытолкнуть его наружу.
– С помощью этой системы, – объясняет мне поп, – не позволяющей коровам изгонять из организма нежелательные излишки корма, им, как считают пастухи, удастся быстрее набрать вес. Они не позволяют ни одному ячменному зернышку выйти из них непереваренным. «Оно тоже взвешено на весах продавца, и мы за него платили, – говорят они. – Нам оно не бесплатно досталось!»
– И животные никогда не облегчаются? – спрашиваю я, с сочувствием глядя на коров, хватающих своими губищами длинную траву, тут и там выросшую на стенах водоема.
– Ну как же! Каждые двадцать, двадцать пять дней, как только им расстегивают надетые на них ремни. Я видел многих, что выдерживают и дольше. Но есть и другие, те уже с пятого дня тяжело заболевают: их брюхо становится как барабан, начинает надуваться, надуваться, как шарик, за несколько минут, и если не успеют – бам! они резко лопаются и разлетаются на кусочки по воздуху с ужасным грохотом, как мина.
В эту секунду послышались шаги. Два человека, небритые, в грязных передниках над коленями, приближаются к резервуару. Это пастухи.
– Они не должны нас видеть, – говорит мне тихо поп. – Ты чужак, и им может прийти в голову, что я специально тебя сюда привел, чтобы ты украл их систему.
Мы быстро прячемся за каменный выступ. Животноводы спускаются по ступенькам и заходят в резервуар. Один, держа сантиметровую ленту, ходит от коровы к корове и измеряет по периметру брюхо. Другой при тусклом свете фонаря отмечает в счетной книге.
– У них началась паника, – снова шепчет мне поп, – вместе с тремя сегодняшними смертельные случаи достигли числа одиннадцать в этом месяце. Есть Бог наверху, и он все видит. Они очень обеспокоились и теперь осторожны. Теперь они для большей безопасности чаще проверяют свое стадо, на случай если брюхо животных неожиданно превысит возможный предел.
Закончив измерения, пастухи поднялись и потащились к другому резервуару. Тогда мы выходим из убежища и возвращаемся той же дорогой, задумчивые и безмолвные.
На самом краю поля блестит большая хижина без окон, сооруженная из жестяных листов. Вместо двери у нее круглый проем. Снаружи другие два пастуха с такими же небритыми рожами, но в передниках, свешивающихся до пят, склоняются над длинной деревянной скамьей, где разложены куски окровавленных шкур. Большими ножами они их чистят.
– Тише, – говорит мне поп. – Вот те, кто потерял сегодня вечером трех животных. Они подсчитывают убытки и кипятятся от злости. Скоро, как только покажется луна, они вытащат останки животных из хижины и похоронят их. Они не хотят, чтобы их кто-либо видел. Когда сердятся, они шуток не любят.
Мы тихо проходим на цыпочках и уходим легко, как привидения. Перейдя границу поля, я снова вижу реку. Большие листья медленно путешествуют по ней. В тишине вокруг нас слышны только крылышки комаров и наши шаги, и под ними, пока мы идем, ломаются ветки и стебли.
Водоем
Я сижу на выступе у водоема, держа палку в руке, и жду. То и дело встаю, склоняюсь над ним и смотрю. Он глубокий, темный, и на дне едва виднеется немного зеленой воды. По его заплесневелым стенкам карабкаются большие, обросшие травой лягушки. Я считаю, сколько времени им понадобится, чтобы подняться. Я много раз заставлял их проделать этот путь, и они умирают от усталости. Как только они, запыхавшись, высовывают нос наружу, я сталкиваю их палкой и снова сбрасываю вниз. Они гроздьями падают, катятся и теряются, скуля, на дне.
Нет в мире более упрямых животных. Они знают, что я не ухожу, что я всегда снаружи и стерегу их, но не теряют надежды. Половина из них отдыхает на дне, пока не придет их очередь, – вторая половина потихоньку поднимается, выбиваясь из сил.
Пока они не доползли еще даже до середины. У меня много времени. Я снова сажусь и жду.
По тропинке идет толстая блондинка с круглым-прекруглым лицом. Она похожа на большой выцветший кокон. Я пытаю мозги, стараясь вспомнить, где я ее раньше видел. На каждой ее руке, дрожащей от жира, висит корзина, с горкой наполненная яйцами. Я вспомнил: это повариха постоялого двора «Неприкаянная юность», возлюбленная лесничего. Сколько яиц я своровал из ее огорода, через проволоку забора, с помощью суповой ложки, согнутой вдвое и привязанной к длинной палке!
– В водоеме есть рыба? – спрашивает она с сильным славянским акцентом и останавливается передо мной. Она внимательно на меня смотрит и не узнает.
– Есть только одна, с седыми волосами, и я ее ищу, – говорю я ей в шутку.
– А! Одна больная? Пффф! Я знаю ее, – отвечает она мне, надув брезгливо губы, как будто видит, как трепещет перед ней вся в ранах рыба, и тотчас уходит.
– Боже мой, – думаю я, глядя на ее удаляющиеся бедра, которые своим объемом закрывают мне вид на дальние холмы, – я никогда в жизни не видел такой лгуньи.
Время идет, и повсюду начинают ложиться первые вечерние тени. Слышится кваканье, оно все усиливается. Тысячи глаз показываются на краю водоема. Все блестит. Лягушки поднялись и готовы выйти. Итак, вперед, за работу! Я встаю, крепко сжимаю свою дубину и начинаю бить.
Снова у водоема тишина и темнота. Вскоре с края дубины, которую я держу на коленях, что-то скатывается и падает на землю. Зеленая капля краски. Нет. Лягушонок, маленький, ровно пуговица. Он прилип к палке, я не заметил его и вытащил наружу. Пока я наклоняюсь, чтобы схватить его, он делает прыжок и – опа! – ныряет в зелень. Поди поищи теперь его там, куда он улизнул, в этом море травы.
Лебеди
Улитки паслись в бескрайнем саду. Слышно было, как они ненасытно разыскивают мягкие листья. Из темноты клетки показалась, как каждый вечер в это время, пара белоснежных, вызывающих лебединых шей. Маленькие лягушата бесчисленными стадами прыгали один за другим, и их светящиеся глаза проливали влажный блеск на фиалки.
Среди сада виднелось высокое дерево хурмы – на его вершине развевался парус, а у корней крепко спала девочка. Она пошла туда только на минуточку, так она думала, но после того, как спокойно и с наслаждением оросила густую траву, девочка забылась, околдованная красотой вечера, и заснула.
Старуха, полуслужанка-полуняня, с льняным вырезом на шее, с бутылкой молока в одной руке и фонарем в другой, раздвигала папоротники и розмарин.
– Мерсина, хватит шутить. Ты где спряталась? – кричала она в гневе.
Девочка не ответила – это было вполне естественно, ведь она сладко спала.
Вдруг старуха спотыкается о меня – я был у клетки и собирался схватить за шею и второго лебедя. Она отставляет в сторону бутыль и фонарь, хватает меня за уши, сует большой платок мне в ноздри и говорит:
– Нюхай, грязная собака. Распечатай ноздри. Вперед!
От тяжелого запаха я чуть не задохнулся.
– Не выдувай сопли, а то испачкаешь! – выкрикивает она. Затем, пригнув мой нос к земле, приказывает: – Ты хорошо понюхал? А теперь в лепешку расшибись, но найди ее.
Я хотел убежать, но не мог пошевелиться. Она держала меня за уши, как зайца.
– Ну-ка, иди сюда. Кто разрешил тебе начинать? Сначала поклянись, что не обманешь. Или я тебя на кусочки разорву.
– Госпожа, – говорю я, дрожа, – клянусь костями своей бабушки, я выполню все, что ты приказываешь. Но разве тебе и самой не кажется, что этот платок пахнет чесноком?
Зачем только я это сказал? От здоровенной оплеухи моя голова крутанулась, и мне пришлось, хотя я не горел желанием, взглянуть на небо.
– Чесноком, говоришь? Проклятая собака, ты меня запутал. Я, должно быть, тебе свой платок дала. Достала, наверное, не из того кармана, – бормотала она, роясь одной рукой в бесчисленных карманищах своего передника (я на скорую руку насчитал около десятка), а другой тянула меня за правое ухо с такой силой, что чуть не вырвала его с корнем. Долго ли, коротко ли, она достала другой платок, кружевной, и, сначала понюхав его, сунула мне в нос.
– Вот этот. Наконец-то я его нашла. И не отворачивайся. Повернись-ка сюда, я тебе поводок привяжу. Я, как ты думаешь, еще не настолько оглупела, чтобы верить клятвам. Посмотришь, как мы с тобой хорошо погуляем. Впереди ты, сзади я.
Я понял, что пропал. В эту самую секунду часы на храме святой Марины начали бить, и голуби, спавшие на колокольне, встрепенулись.
Раз, два, три, четыре, пять…
«Святая Марина, ты хочешь помочь мне, – сказал я про себя, и мне на глаза чуть было не навернулись слезы. – Я слышу в бое часов твой сладкий голос, говорящий со мной. Если бы ты только знала! Муки совести, словно дикие звери, разрывают мне сердце. Нет, я не могу больше держать тебя во тьме твоего наивного неведения. Это как будто обмануть тебя во второй раз. Это я вырвал большой рубин, украшавший твою руку, им многие годы гордились старосты церкви, когда он сиял, словно красная звезда, и надувались от гордости, будто он украшал их собственную руку. Никто не заметил, как я взял его у тебя. Все были заняты покойником, которого отпевали, наполовину ослепленные слезами и дымом ладана. Да и где тебе было меня заметить, ведь я лицемерно склонился, чтобы поклониться твоей иконе, и закрыл твой лик букетом роз. Где тебе было почувствовать мою руку, легкую, как перышко, когда я отрывал драгоценный камень. Он у меня спрятан под аквариумом с золотой рыбкой, в оплетенном паутиной курятнике. Туда не ступает ничья нога. Рано утром я верну его тебе, чтобы покрыть ужасную рану, это я, проклятый святотатец, дерзнул нанести ее твой святой руке».
Часы продолжали отбивать время. Старуха с разинутым ртом считала удары, которые раздавались медленно, беспрерывно, словно огромные капли воды, и с каждым ударом тихо, радостно похрюкивала.
Шесть, семь, восемь, девять… двенадцать!
Моя исповедь закончилась. Я выходил из экстаза с очищенной душой и светлым разумом. Я снова осмелел.
– Ты слышала часы? – кричу. – Полночь! Ты чего ждешь, чего рот не закрываешь? Больше бить не будут.
– Нет, я хочу, чтобы они дальше били, чтобы не останавливались. Я еще хочу их слушать. Мне так понравилось! – говорит старуха, готовая расплакаться.
– Ну зачем ты так? Я не могу смотреть, как ты плачешь. Я страдаю. Ты напоминаешь мне мою бабушку, у нее в последнее время перед смертью вошло в привычку звать меня каждый вечер к своей кровати. Она со слезами просила меня рассказать ей сказку.
– И ты рассказывал? – спросила с любопытством старуха.
– Сначала я пугал ее, что, если она еще раз написает в постель, я больше не приду. Потом начинал сказку. Иначе она не могла заснуть.
Старуха смотрела на меня, словно во сне. «Наверняка представляет то, что я рассказал, – подумал я. – О часах уже забыла».
Если бы не уверенность, что не раскрывал рта, можно было бы сказать, что это я ей напомнил о часах.
– А я не хочу сказок. Я хочу, чтобы часы били. Хочу еще раз их послушать, – опять визгливо сказала она.
– Ты хочешь, ни больше ни меньше, вернуть ушедшее время! Может быть, и есть способ сделать это. Я попробую с твоего разрешения, но только для тебя, потому что ты так похожа на мою бабушку. Итак, слушай. Мне нужно будет побежать к церкви, вскарабкаться на колокольню и попытаться повернуть стрелки часов, чтобы заставить их пробить еще раз. Но с условием, что это будет в первый и последний раз. Тебе не следует увлекаться игрой и втягивать в нее меня. Не забывай, что за дело ждет нас с тобой, как только я вернусь. А ты пока приляг и жди меня здесь смирно.
– Превосходная мысль! – закричала старуха с воодушевлением и поцеловала меня, притянув за уши, которые ни на минуту не оставляла в покое все это время. – Значит, ты правда хочешь подвергнуть себя опасности ради меня, поднявшись по круговой лестнице колокольни, где все ступеньки в плесени, все замшелые, скользкие, будто выложены водорослями?
– Я всегда свободно говорю то, что думаю, – ответил я серьезно, – так меня научили. «Ты, – учила меня мама с детства, – даже если захочешь, не сможешь ничего скрыть, как другие мои дети, потому что мысль написана у тебя в глазах и, прежде чем ты заговоришь, все ее читают».
Ее лицо вдруг потемнело.
– Ты думаешь, будет правильно, если я соглашусь? Мне надо еще немного подумать.
– Мой план прост, – объяснил я ей, – задача в том, чтобы у меня получилось повернуть стрелки. Если не получится повернуть их назад, я подтолкну их вперед. Если мне будет очень тяжело, я поищу в механизме – что-нибудь найду, наверное, какой-нибудь рычаг приводит их в движение.
– Ты меня не понял. Я о другом тебе говорю. Ты думаешь, будет правильно, если я пошлю тебя рисковать жизнью там, на высоте, и буду тут ждать, сложа руки?
Я потерянно смотрел на нее. Пока она со мной говорила, я чувствовал, как она еще сильнее сжимает мне уши, которые теперь горели и причиняли мне сильную боль.
– Поставь себя на минутку на мое место, – продолжила она, – и поймешь. Я бы с ума сошла от мысли, что с минуты на минуту я могу увидеть, как ты оступаешься на скользкой лестнице без перил, а я буду далеко, не смогу поймать тебя, ничего не смогу сделать, чтобы тебя спасти. Нет, не проси у меня этого, я этого не вынесу. Дай сюда свою шею, прошу тебя, я крепко привяжу тебе этот ошейник. Ты увидишь, насколько увереннее, насколько свободнее ты будешь себя чувствовать, когда будешь знать, что сзади стою я, готовая заключить тебя в свои объятья, готовая предупредить каждый твой неверный шаг.
– А! Значит, так. Тогда не будем расставаться, если это для моего же блага, – говорю я ей в отчаянии.
Но прежде чем я передал ей в плен свою шею, мое сознание, словно молния, озарила одна мысль.
– Боже мой, что я там вижу? – шепчу я в страхе, глядя вперед. – Нас здесь заперли. Что же с нами теперь будет? Мы под арестом.
– Кто нас запер? – спрашивает беспокойно старуха. – Я ничего не вижу.
– Ты грамотная? Читай! – говорю я ей и показываю на табличку, висящую на дереве.
В тот самый миг, когда она поднимала с земли фонарь, чтобы посветить на табличку, где было написано:
ВХОД ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ РАЗРЕШАЕТСЯ ДО ЗАХОДА СОЛНЦА я уже от нее убежал.
Я бегу с лаем и прыгаю в водоем. Надо мной склонились мальвы и жасмин.
– Но ведь я жена сторожа. И дом мой здесь, – слышу я, как вопит вдалеке старуха.
Я долго плыл, плыл (мне было тяжело, потому что в одной руке я держал над водой, чтобы не замочить, голову лебедя, которого я задушил, еще теплую – его ресницы время от времени трепетали в моей ладони), пока не доплыл до скалы. Там я нахожу источник, открываю кран, и вода неудержимо льется, рыча, как лев, когда его выпускают на свободу. Водоем переполнился, цветники затопило, вода уносила с собой все, что встречалось ей на пути. Девочка, крепко спящая, очутилась вне сада, под кипарисами. Волна опустила рядом с ней и полузадохшуюся старуху. Я смотрю со скалы, как она бьется, словно рыба. На ее лбу полно шишек.
– Святая Марина, – взмолился я изо всех сил, – дай мне посмотреть, как она испустит дух, и я побегу прямиком, мокрый, как есть, в курятник и принесу тебе в тот же миг твой рубин.
Я не знаю, о чем думал недавно, когда давал такой же обет, но в этот раз я был уверен, что сдержу свое слово. Тем временем старуха постепенно приходила в себя, и я негодовал от этой… несправедливости. Вскоре, окончательно придя в себя, старуха взяла девочку за руку, и они ушли вместе, шатаясь.
Вдруг малышка кричит: «Я забыла их на листьях – я без трусиков», – и, оставив ошеломленную старуху, перепрыгивает через забор и исчезает в саду.
Вода отступила. В грязи теперь сияет другое небо – разбросанные тут и там глаза лягушек.
Малышка бежит к своему дереву, и я вижу, пока плыву к краю водоема, чтобы выбраться, как она много раз обегает вокруг дерева. Затем она поднимает голову и смотрит на верхушку хурмы, где тряпка все еще развевается туда-сюда. Она разъярилась, как лисенок, от которого добыча забралась высоко на ветки. Я подхожу к ней, не говоря ни слова, с меня капает вода, я карабкаюсь с помощью одной руки на дерево – добираюсь до верхушки, снимаю с него трусики, затем обнимаю ногами ствол и съезжаю на землю. Малышка смущенно, с восхищением смотрит на меня.
Как только ступил на землю, я слегка ей поклонился, спрятав руки за спину.
– Прежде чем отдать, хочу спросить, как тебе удалось забросить их так высоко?
Глаза малышки затрепетали очень близко, и я испугался.
– Я положила их рядом, на листья кустика. Ты ошибаешься, если думаешь, что я их повесила туда, где ты их нашел. Недавно здесь, – сказала она, показав на высокое дерево, – была маленькая хурма, она едва достигала моей шеи. Я читала, что иногда эти деревья вырастают в полный рост за одну ночь. Ты доволен?
Я был доволен – но ее глаза трепетали так близко, что у меня кружилась голова. Я, встревоженный, протянул ей руку.
– Возьми, – говорю ей, – чтобы не замерзнуть.
Сдавленный стон вырвался из ее груди, и она рухнула к моим ногам.
Роковая ошибка была совершена. Я подал ей голову лебедя.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































