Текст книги "Римский король"
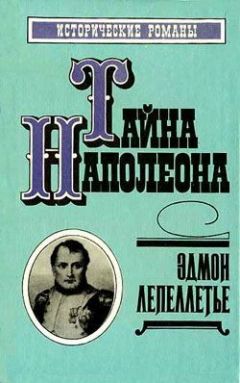
Автор книги: Эдмон Лепеллетье
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Анрио поднял голову, которую все время держал опущенной, и произнес:
– Ну да, вы правы, генерал! Я боюсь нанести удар родине, поражая Наполеона! Я боюсь ранить Францию вместе с ее императором. Я боюсь довершить в Париже поражение моих братьев, пронизываемых на чужбине копьями казаков. Но эти опасения не могут мне помешать сдержать по отношению к вам те обещания, которые я дал, и, оказывая вам услугу, я уверен, что не помогаю этим врагам, не усугубляю поражения, которое терпят войска на русских равнинах в тот самый момент, быть может, когда мы разговариваем с вами!
– Да откуда у вас сегодня такие опасения? – спросил Мале, впиваясь взором в молодого полковника. – Неужели вас так встревожила просьба, содержавшаяся в переданном вам вчера письме? А ведь передавший это письмо человек более чем надежен; это моя жена!
– Да, генерал, эта просьба именно и волнует, смущает меня и заставляет остановиться на краю той пропасти, которой я еще не вижу, но уже угадываю! Вы просили меня сообщить вам сегодня пароль, который будет дан начальникам патрулей и постов.
– Да я мог узнать этот пароль от друзей, служащих в парижском гарнизоне. Я обратился к вам только потому, что вам в силу вашего положения при генерале д'Юллене это легче всего. Вы боитесь скомпрометировать себя, сообщив мне этот пароль; ну что же, я обращусь к другим!
– Генерал, я принес вам его и готов сообщить.
– Как вам будет угодно, – ответил Мале с выражением глубокого безразличия. – Я нисколько не настаиваю, товарищ!
– Сообщая вам пароль, я жду от вас только одного: вы должны дать мне слово, что не воспользуетесь знанием пароля для такого предприятия, которое послужит на пользу врагам. Я даже не хочу знать, какую цель именно преследуете вы, стараясь узнать это слово.
– Черт возьми! – воскликнул Мале с хорошо разыгранным добродушием. – Уж не воображаете ли вы, что я собираюсь сообщить это слово казачьим аванпостам? Россия слишком далеко, и прежде чем в Москве узнают парижский пароль на двадцать третье октября, тридцать новых паролей будет дано и отменено. Ну, так вот, полковник, я раскрою вам свои карты. Мне нечего скрывать от вас. Так знайте же, что я собираюсь этой ночью бежать из-под ареста. Правда, жизнь в лечебнице, в сущности, довольно сносна, а за столом милейшего доктора Дюбюиссона встречаешь прелестное общество, но мне надоело, что каждый вечер меня сажают на запор. И вот этой ночью я собираюсь отправиться подышать чистым воздухом.
– А куда именно вы отправляетесь, генерал?
– В Америку. Это страна свободы. В Соединенных Штатах у меня имеются добрые друзья.
– От души желаю вам успеха!
– Я надеюсь, что завтра в это время мне удастся быть уже в Булони и сесть на английское судно. Из Англии я уже сумею перебраться в Нью-Йорк или Филадельфию. Но для того, чтобы добраться до Булони, надо сначала выбраться за парижские заставы, у которых стоят патрули национальной гвардии. Милейшие гвардейцы могут полюбопытствовать, что написано в моем паспорте, а паспорта-то у меня и нет! Мне придется путешествовать налегке и в полной форме, вот посмотрите – все уже приготовлено! – И Мале приподнял крышку дивана, показывая на сундук, где был спрятан генеральский мундир. – Раз я появлюсь в таком виде перед гвардейцами и сообщу им пароль, то мне удастся избежать всяких недоразумений и нежелательных осложнений. Они пропустят меня, отдавая мне честь! Вот почему, дорогой Анрио, я попросил вас сообщить мне пароль сегодняшней ночи!
Мале все это сказал с такой искренностью, что Анрио не мог усомниться в действительном желании генерала убежать из-под ареста. Все беспокойство и смущение полковника проистекали из боязни способствовать удаче такого проекта, который имел бы целью нанести вред особе императора, сражавшегося в данный момент в далекой России; но помочь бежать на свободу политическому преступнику – в этом не было ничего предосудительного. Поэтому Анрио не стал колебаться.
– Раз дело идет только о вашей свободе, генерал, – сказал он, – то я не вижу ничего бесчестного помочь вам снова обрести ее. Паролем на сегодняшнюю ночь будет: «Компьень-заговор».
– Спасибо! – горячо сказал Мале, пожимая руку Анрио.
Его глаза загорелись торжеством – знание пароля давало ему, заговорщику, возможность пробраться через посты и сменить их. Теперь у него в руках был ключ от крепости – Париж будет в его власти!
Повторяя два сообщенных ему слова, он пробормотал про себя:
– Компьень! Это как раз то место, откуда должен прийти драгунский полк, который за нас. Что за отличное предзнаменование! Заговор… ей-Богу, слово выбрано очень хорошо и доказывает, что и в самых высших сферах у нашего дела имеются друзья! – Овладев собой, Мале снова протянул руку Анрио, еще раз поблагодарил его и прибавил, услыхав звонок: – Теперь позвольте расстаться с вами, дорогой полковник; звонок извещает меня, что моя жена только что пришла. Я не могу заставить ее ждать. Да и надо позаботиться о приготовлениях. Извините меня и позвольте мне поцеловать вас!
Анрио, который ни на минуту не засомневался в правдивости сообщенного ему плана бегства, обнял генерала и еще раз пожелал ему успеха.
В тот самый момент, когда они целовались, в комнату вошла госпожа Мале.
Благодаря открывшейся двери на мгновение образовался сквозняк, которым подхватило и снесло на пол обрывок бумаги. Это был кусок письма, вынутого Каманьо из кармана рясы. Клочки этого письма, розданные сообщникам, должны были дать им возможность узнать друг друга у ворот дома на улице Сен-Жиль.
Увидав, что у мужа находится какой-то посетитель, госпожа Мале хотела уйти; она повернула назад, а при этом ее юбка смела обрывок письма и вымела его в коридор.
Однако Анри, извинившись, ушел, в последний раз пожав руку генералу. Поэтому госпожа Мале тотчас же вошла в комнату мужа, и дверь была тщательно заперта вслед за ней.
Анрио толкнул ногой в коридоре бумажный клочок и совершенно машинально нагнулся, чтобы поднять его. Он хотел было снова бросить его, но ему пришло в голову, что на этом клочке могли оказаться какие-нибудь указания по поводу предполагаемого бегства генерала. Поэтому он повернулся, чтобы постучать у дверей Мале и вернуть ему клочок письма, быть может, важного для него и способного выдать его в случае, если попадает во враждебные руки.
Но в этот момент лакей, приставленный к генералу, вышел в коридор, чтобы посветить посетителю и проводить его.
Не желая возбуждать подозрение, которое неминуемо возникло в случае, если бы он стал настаивать на возвращении к генералу, чтобы отдать тому какой-то ничтожный клочок бумаги, Анрио спокойно сунул найденный обрывочек в карман и последовал за лакеем.
XIII
В то время как Мале собирался пробраться сквозь стены своей больничной темницы и броситься из своей комнаты в предместье Сент-Антуан на городскую ратушу, неотступную цель его мыслей, и в здание военного управления Парижа, объект его смелого проекта, вот что происходило с Наполеоном и Великой армией в равнинах России.
Переправив войска при Ковно с 13 (25) на 14 (26) июня, Наполеон выступил на Жижморы. Первым делом он поспешил овладеть Вильной как одним из самых значительных городов в русских губерниях Царства Польского и как центром расположения русской армии, которую император рассчитывал разрезать быстрым движением. Для достижения этой цели армия Наполеона была двинута из Ковно следующим образом: впереди, по шоссе из Ковно в Вильну, шли под начальством Мюрата кавалерийские корпуса Нансути и Мобрена, за ними следовал корпус Даву и сам Наполеон с гвардией; Удино шел правым берегом Вилии на Яново и Девельтово, Ней – левым берегом на Кормелов и Скорули, имея приказание свернуть оттуда на Вильну и в случае надобности поддержать Удино.
В общей сложности Великая армия насчитывала около семисот тысяч человек и состояла из десяти корпусов, резервной кавалерии и императорской гвардии.
Резервная кавалерия шла впереди под начальством самого Мюрата. Старую гвардию вел Лефевр, молодую – маршал Мортье, конную гвардию – Бесьер, герцог Истрийский. Среди бригадных, корпусных и полковых командиров можно было встретить весь цвет наполеоновских героев, львов Египта, Италии, Фридлау, Иены и Аустерлица.
Но, кроме французов, в Великой армии было очень много иностранцев, и это обстоятельство значительно Ухудшало положение дел в походе. Так, кроме 30 000 австрийцев, выставленных на основании союзного договора императором Францем и находившихся под начальством того самого князя Шварценберга, который впоследствии командовал союзной армией против Французов; кроме 20 000 пруссаков, снаряженных прусским королем, было еще 50 000 поляков, 20 000 итальянцев, 10 000 швейцарцев и около 130 000 баварцев, саксонцев, вюртембержцев, вестфальцев, кроатов, голландцев, испанцев и португальцев.
За исключением поляков, которые видели в успехе Наполеона надежду на восстановление былого Царства Польского и потому сражались очень храбро, и швейцарцев, верность которых раз данному слову считалась непоколебимой, остальные иностранные полки были очень ненадежны. Они не только постоянно готовы были пуститься наутек, стреляя в тыл французам, как это впоследствии сделали саксонцы, но и вносили в лагеря дух мятежа, беспорядки, дезорганизации и нарушения дисциплины. В особенности же много вреда наделали их постоянные попытки мародерствовать, что страшно восстанавливало мирных жителей против французов.
Еще в то время, когда армия двигалась от Одера к Висле, вюртембержцы корпуса Нея отчаянно грабили Пруссию, по владениям которой шли войска. Они жгли, убивали, разрушали все на своем пути, наводя страх и отчаяние на мирное население страны, с которой армия вовсе не воевала. Ответственность за их возмутительное поведение всецело падала на французов, которым и неслись вдогонку проклятия, и это обстоятельство в значительной степени содействовало пробуждению в 1813 году немецкого патриотизма, ставшего мощным пособником действиям коалиционной армии.
Впоследствии, когда Наполеон въезжал в Ковно, то к нему с воплями кинулись местные жители, бросаясь в ноги и моля защитить от неистовства солдат. Да и вся окрестность своим видом свидетельствовала о пронесшихся над нею ужасах: поля были вытоптаны, деревни разгромлены целиком, повсюду валялись трупы непощаженных детей, женщин и стариков. К тому же солдаты-чужеземцы категорически отказывались повиноваться приказаниям французских офицеров и слушались только своих генералов. А те в свою очередь постоянно вступали в пререкания с командовавшими французскими корпусными командирами, так что очень часто из-за этого срывались тонко задуманные Наполеоном обходные движения и марши.
Если принять во внимание, что в Великой армий на 370 тысяч французов приходилось почти 250 тысяч иностранных войск, то значение описываемых неудобств станет ясным само собой.
Помимо обычных трудностей по диспозиции войск в малознакомой местности, Наполеону еще приходилось считаться с особенностями различных корпусов, составлявших армию. Одних иностранцев нельзя было пускать, так как они были ненадежны. Пускать их в атаку впереди французских войск было невозможно, так как иностранные солдаты, сражаясь за чужое им дело, не отличались храбростью. Пускать позади было рискованно, так как от них ежеминутно можно было ждать предательства.
По мере движения в глубь страны к дезорганизации и деморализации армии прибавились еще существенные затруднения от громоздкости обоза. За армией следовало бесконечное количество всяких телег и тележек, предназначенных для подвоза съестных припасов, так как заранее знали, что при такой грандиозной армии, раскинувшейся по сравнительно небольшому пространству в бедной стране, нечего рассчитывать получать все необходимое тут же, на месте. Тут же брели целые стада скота, предназначенного на убой для нужд армии. Понтонеры со своим громоздким обозом загромождали дороги. Кареты чинов главного штаба, желавших путешествовать со всеми удобствами, еще усиливали смятение и неурядицы в движении. Кроме штабов императора, неаполитанского короля Мюрата, вестфальского короля Иеронима, принца Евгения Богарнэ, маршалы Даву, Ней и Удино тащили за собой фургоны и телеги, нагруженные столовой посудой, одеждой, даже мебелью. Не только тщеславный Мюрат, но и почти все корпусные командиры, за исключением разве одного только умеренного и скромного Лефевра, имели при себе каждый по свите адъютантов, офицеров, секретарей, лакеев, личный багаж которых еще удлинял бесконечную нить обоза, извивавшегося по узким дорогам среди топей болотистой страны. О, какими далекими, какими вышедшими из моды казались теперь нравы итальянских и зарейнских походов! Все офицеры империи, от генералов до простого капитана, страдали непреодолимым влечением к чрезмерной роскоши. На каждой остановке первым делом устраивались роскошные обеденные столы, уставленные серебром и вазами. Ковры, элегантные кровати, диваны, сундуки с гардеробом и бельем следовали за чинами главного штаба. Это была уже не армия, бросающаяся в бой на Россию, а скорее караван гигантских размеров, составленный из представителей всех наций, различные наречия которого сливались в нестройный гул, где мелькали всевозможные мундиры, где можно было встретить все продукты промышленности и искусства двадцати наций. Лагерь принимал вид какой-то мировой ярмарки. Когда звучал сигнал, приказывающий двигаться с места, то вся эта толпа людей поднималась медленно, тяжело, неохотно, причем со стороны это должно было казаться каким-то странным переселением народов, эмиграцией целого племени, покидающего родную страну, без надежды когда-либо вернуться обратно, потому увозящего с собой оружие, сокровища и богов. Да и для большинства из солдат это движение вперед было и на самом деле переселением, но только – увы! – переселением в иной мир!
А позади обоза главного штаба двигалась целая орда, состоявшая из маркитантов, торговцев старьем, женщин, детей и скота. И вся эта волнующая толпа, которую вскоре должна была поглотить во время обратного бегства Березина, двигалась частью на полуразвалившихся тележках, запряженных быками, а иногда и влекомых впряженными людьми, напоминая собой дикие толпы вандалов и гуннов.
Наполеон всеми силами старался избавить армию от этого мертвого груза. Он издал строжайший указ, ограничивающий число экипажей, которые могли следовать за каждым офицером сообразно с его рангом и чином; он определил количество багажа, которое было дозволено брать с собой офицерам; он отправил назад иностранных дипломатов и секретарей, примазавшихся к штабам под видом желания лично присутствовать при торжестве французского оружия, а на самом деле – просто шпионивших в интересах своих правительств. Он разделил свой личный главный штаб на две части: штаб главной квартиры должен был следовать за ним на расстоянии и догонять его только в тех городах, где император останавливался на более или менее продолжительное время; а личный штаб, следовавший за ним, состоял только из самых необходимых ему адъютантов. Сам Наполеон оставался наиболее скромным и воздержанным из числа всех военных; он спал на узкой и жесткой походной кровати и вез за собой в качестве личного багажа только четыре громадных сундука, где находились его карты и топографический материал. Впрочем, позади, за штабом главной квартиры, слуги императора из излишнего усердия везли несколько ящиков со столовым серебром. Впоследствии, во время отступления, эти ящики были утоплены в Днепре, лишь бы они не достались в руки преследовавших армию казачьих разъездов.
С самого вступления в пределы России Наполеону пришлось натолкнуться на пассивное сопротивление, составлявшее главную основу того плана, который был разработан императором Александром и Барклаем де Толли по совету Нейпперга, переданному через графа Армфельда. По мере того как французы наступали, русские осторожно подавались назад. Каждый раз французам казалось, что вот-вот должно разразиться сражение, но после небольших стычек русские хладнокровно и спокойно отступали в глубь страны. Иногда французам удавалось почти настигнуть русских, но в таком случае на сцену выступали казаки, бесшабашная отвага которых заставляла французов на минуту дрогнуть и остановиться. А тем временем прикрытые ими главные силы спокойно отступали, да и сами казаки, врезавшись во вражеские войска, быстрым аллюром уносились обратно, бесследно скрываясь в лесах.
Составляя план русской кампании, Наполеон совершенно упустил из вида возможность этого. Ему и в голову не приходило, чтобы русские допустили его забраться в самую глубь страны. Правда, он говорил и писал своим приближенным и корреспондентам, что «идет на Москву», но это было скорее поэтическим оборотом, чем реальной надеждой. Наполеон думал, что в первом же сражении, которое неминуемо должно произойти где-нибудь около русской границы, войска императора Александра будут разбиты и русский царь будет униженно просить его о мире.
Поэтому он был очень удивлен, когда русские войска очистили Вильну.
Но вскоре ему сообщили шпионы, что русские нашли позицию у границы неудобной для того, чтобы развернуть все свои силы, и решили дать сражение у Дриссы, где немцу Пфулю было поручено окопаться и выстроить укрепленный лагерь. Правда, такой план существовал, и Пфулю действительно было поручено начать работы, но вскоре они были прекращены, так как удалось воочию убедиться, насколько плохо было выбрано место. Но последнего Наполеон не знал. Он был очень рад, что русские решились дать сражение именно у Дриссы, так как из карт и планов знал, что этот укрепленный лагерь в силу извилистого течения реки и близлежащих болот будет для русских войск самой настоящей мышеловкой. Поэтому он быстро создал новый план.
Он знал, что главные силы русских разбиты на две армии: первая, северная, под командой Барклая, держалась около Двины между Витебском и Динабургом; вторая, под командой князя Багратиона, южная – около Днепра. Он знал также, что дунайская армия, освободившаяся вследствие подписания хотя и не ратифицированного до сих пор турецкого мира, идет под командой адмирала Чичагова и что третья, самая небольшая армия, под командой Тормасова, поджидает дунайскую. Поэтому надо было, во-первых, разбить русских, не давая дунайской армии возможности поспеть на подмогу, а во-вторых – не допустить Багратиона соединиться с Барклаем. Значит, он должен был быстрым маршем перейти Двину слева от Барклая и развернуть все свои силы у Дрисского лагеря. А раз он овладеет этим лагерем и разобьет первую армию, то дороги на Петербург и Москву будут в его распоряжении; он займет их, пока маршал Даву и король Жером разобьют Багратиона на Днепре.
Все это было задумано очень тонко и остроумно, но для выполнения плана необходимо было, чтобы русские приняли бой. А русские все продолжали отступать, не принимая ни одного из предложенных им сражений!
В то же время во французской армии разыгрался конфликт, имевший самое скверное влияние на успех задуманного плана. Король Жером слишком медлил выполнять предписанные ему движения и достаточно поздно соединился с корпусом Даву. Рассерженный Наполеон лишил за это брата самостоятельного командования и подчинил его маршалу Даву. Но вестфальский король не пожелал подчиниться постигшей его немилости и отказался от командования вообще. Этот конфликт между Жеромом и Даву затянулся настолько долго, что позволил князю Багратиону выиграть целую неделю на марше в спуске к Днепру. Таким образом первой половине плана, то есть разгрому южной армии и недопущению соединения обеих армий, уже не суждено было сбыться. Но оставалась еще вторая половина его – разгром русских в западне Дрисского лагеря.
Однако и этой второй половине плана не суждено было исполниться: инженерный полковник русской службы Мишо добился возможности переговорить с русским императором и доказать ему, насколько слаб и ненадежен Дрисский лагерь. Мишо был известен как выдающийся знаток своего дела; кроме того, император Александр лично осмотрел укрепления и вполне согласился с мнением Мишо. Таким образом план Барклая де Толли еще раз восторжествовал над желанием Аракчеева грудью встретить французов.
Волей-неволей, но Наполеону приходилось двигаться вслед за отступающим врагом в глубь страны. Между тем наступил июль месяц и стояла тягостная жара. Французские войска изнемогали, страдали от палящих лучей солнца и от жажды, утомлялись длинными маршами по пыльным дорогам. И ночью русские тоже не давали им отдохнуть как следует: русские войска отдыхали днем, а двигались ночью и то и дело тревожили французов внезапными атаками. Когда французские войска подошли к Березине, то они благословляли эту реку, которая дала им возможность выкупаться и освежиться. Увы! Они не знали тогда, что менее чем через шесть месяцев эта река станет холодной могилой для большинства этих бравых молодцов! Теперь последние шли вперед с пением песен и с надеждой отдохнуть после славной победы и славного мира.
Каждый день гренадеры и стрелки с нетерпением спрашивали себя, когда же настанет день генерального сражения, после которого можно будет отдохнуть. Они вспоминали свои прежние походы, вспоминали Италию, Голландию, Австрию, Пруссию и не сомневались, что день, подобный Маренго, Аустерлицу или Фридланду, отдаст всю Россию во власть их императору.
Но день шел за днем, а желанного сражения все еще не было. Правда, у Фатовской мельницы, у Могилева, у Островно были стычки, но они не могли идти в счет, так как это были просто авангардные схватки, не дававшие особенных результатов.
Наконец в половине июля можно было подумать, что русская армия решила принять сражение; это было под Витебском.
Подвигаясь усиленным маршем, французская армия увидела наконец сиявшие золотом кресты и купола витебских церквей, монастырей и костелов. В прозрачности летнего воздуха ясно было видно, как вдали сплошной массой развернулось русское войско. Наконец-то дело дойдет до сражения! Более ста тысяч человек двигалось в долину Витебска – значит, было с чем вступить в дело! А там подоспеют и другие корпуса! И армия разразилась громовыми криками радости. Казалось, что победа уже почти одержана ею!
Наполеон сел на лошадь и лично руководил делом, которое должно было стать почти решающим для исхода кампании.
В то время как саперы занимались исправлением поврежденного русскими моста, через который должна была пройти кавалерия Нансути, триста солдат выдвинулись слева вперед. На них сейчас же вихрем налетели казаки и принялись сечь и рубить их напропалую. Но французы сдвинули ряды и, не отступая ни на шаг, принялись метким и частым ружейным огнем поражать неизвестно откуда взявшегося неприятеля.
Наполеон увидал в бинокль опасность, которой подвергались храбрецы, и сейчас же двинул на них 16-й стрелковый полк; последний оттеснил казаков, выручив отважных разведчиков.
– Кто вы, храбрецы? – спросил у них император, радостный и довольный, что большинство их вышло целыми и невредимыми из этого леса копий и сабель.
– Стрелки девятого линейного, ваше величество, все – дети Парижа! – ответил сержант.
– Ну, так вот что, милые мои парижане! – сказал император, сияя от удовольствия. – Вы все заслужили по кресту! Ну, а теперь – за мной! Дорога на Москву открыта. Вперед!
Но русская армия, прикрываемая кружившимися по всем тропинкам, словно рои пчел, казаками, все отодвигалась и отодвигалась, скрываясь в далекой полумгле.
И на этот раз тоже пришлось отложить надежду на генеральное сражение.
Наполеон нахмурился, и его въезд в Витебск был омрачен дурными предчувствиями, мучившими его с некоторого времени.
При вступлении войск в столицу Белоруссии авангарду прежде всего пришлось броситься тушить пожар, вспыхнувший в предместье оставленного населением Витебска. Но с этим делом справились быстро, и занятие города произошло беспрепятственно. Наполеон провел в Витебске несколько дней и затем снова двинулся в путь. И снова зашагала Великая армия по пыльным дорогам. Стояло около 30 градусов жары по Реомюру, воды было мало, хлеба не хватало. Солдаты страдали от ходьбы, от жары, от недостаточного отдыха и видимой бесцельности похода: русскую армию так и не удавалось настигнуть. Мрачное отступление по занесенным снегом полям изгладило воспоминание о страданиях наступления, но и в этот период французской армии приходилось терпеть большие лишения. И без того тяжелая, то песчаная, то болотистая дорога казалась еще тяжелее из-за жажды, голода, усталости. Лошади падали прямо на ходу, и количество отставших все увеличивалось и увеличивалось. Солдаты ворчали и говорили, что им никогда не заставить Барклая де Толли принять сражение.
Вся русская кампания представляла собой сплошной синодик страданий и несчастий. У этой Голгофы было два склона, и если спуск был особенно трагичен, то и восхождение было не сладко. И если в людской памяти уцелела только трагическая одиссея отступления, то и ужасы наступления заслуживают того, чтобы воскресить их в глазах потомства. Правда и то, что отступление было сплошь безрадостно и безнадежно, тогда как при наступлении все-таки попадались редкие оазисы в виде коротких схваток и сражений, внушавших надежду на скорое прекращение кампании и на почетный мир в Москве.
Не только солдаты, но и офицеры и даже маршалы были немало угнетены всем происходящим.
Бертье, князь Ваграмский и начальник главного штаба, был одним из самых недовольных во всем офицерском составе.
Этот начальник главного штаба, которому некоторые историки приписывают даже стратегические таланты, хотя он не имел ни случая, ни возможности развернуть таковые, на самом деле был просто военным секретарем Наполеона. Он ни разу не отдавал ни одного приказа по личной инициативе, не написал ни одной депеши, не продиктованной ему императором. Он не только не касался общих планов и решений по важным вопросам, но не принимал участия даже в разработке отдельных деталей маршей и передвижений войск. Император все делал сам, все знал, все видел, всем распоряжался. Разумеется, большинство из намерений Наполеона Бертье узнавал первым, но никогда император не советовался с ним – во-первых, Бертье никогда не позволил бы себе критиковать или проверять военные операции, признанные Наполеоном полезными, во-вторых как доказало дальнейшее, особенной находчивостью и сообразительностью Бертье не отличался: когда 27 ноября Мюрат, растерявшийся при известии о бегстве Наполеона, обратился в Виль-не к Бертье с просьбой посоветовать ему, что делать и на что решиться, то Бертье ответил ему, что не его дело давать советы – он, дескать, привык только рассылать приказы, а не давать их!
Через несколько дней после того, как французская армия заняла Витебск, где Наполеон дал ей немного отдохнуть, чтобы перевести духи подобрать отставших, маршал Лефевр вошел в дом, в котором помещался князь Ваграмский.
Лефевр только что вышел от императора. Он получил от него последние распоряжения, касавшиеся движения гвардии.
– Подымайтесь, князь! Да, ну же, старый солдат! – весело заговорил Лефевр с порога комнаты. – Принимайтесь за укладку ваших пожитков, да и марш-марш в дорогу!
– Опять в дорогу? – с отчаянием в голосе спросил Бертье, вставая навстречу герцогу Данцигскому, – А куда именно ведет нас теперь император?
– В Смоленск!
Начальник главного штаба с подавленным стоном опустился в кресло перед столом, на котором лежала раскрытая карта России.
– Ну на что, – пробормотал он, – на что было давать мне полторы тысячи ливров ренты, на что дарить дивный дом в Париже, великолепную землю? Неужели только для того, чтобы заставлять меня испытывать муки Тантала? Я умру здесь от всех трудностей похода. Простой солдат счастливее меня!
И в то время как Лефевр ответил ему жестом, в котором ясно читалась фанатичная решимость солдата следовать с закрытыми глазами за своим командиром всюду – на север, на юг, куда только ему заблагорассудится нести свое знамя, Бертье ответил со вздохом, в котором явно сквозила глубокая меланхолия:
– Ах, как бы мне хотелось быть теперь в Гросбуа!
Гросбуа было дивным поместьем в окрестностях Парижа, подаренным императором другу Бертье.
Таким образом случилось так, что даже щедрость императора и блестящие награды, которыми он осыпал своих сотрудников, обратились против него же и у тех, на энергию которых ему приходилось особенно рассчитывать, отнимали стойкость и выдержку, более чем когда-либо необходимые в этом безрассудном марше сквозь всю Европу, закончившемся в беспредельных степях России.
Бертье, «этот гусенок, из которого я старался вырастить орла», как сказал Наполеон, позвал своих секретарей, Саломона и Ледрю, приказал написать им приказ о выступлении армии, а затем пошел с Лефевром к ожидавшему их императору.
Они застали Наполеона мрачным и задумчивым.
Казалось, что перед его духовным взором уже носились картины плачевного отступления. Мрачное предчувствие грядущего разгрома светилось в его возбужденном взоре. Он начинал понимать, что счастье устало летать за ним из одного конца вселенной в другой, что оно готово изменить ему, перейти в лагерь врагов. В его душе звучал голос, говоривший: «Остановись, пока не поздно! Так нужно!» Но другой голос, звучавший еще громче, к которому он более склонялся душой, голос, ласкавший его слух от Эча до Нила, от Таго до Вислы, бормотал с трагической льстивостью: «Вперед! Вперед! Все вперед, навстречу мечте, навстречу любимой грезе! Откажись от благ мира сего ради того, чтобы выполнить свое предначертание! Вперед! Вперед!» И, слушая этот голос, Наполеон терял последние остатки благоразумия и рассудительности.
Обоих маршалов он принял без той грубости, которая была свойственна ему, но зато с грустью, которая ему обыкновенно свойственна не была.
– Ну, так что же, друзья мои? – заговорил Наполеон, вопросительно впиваясь взглядом в Бертье и Лефевра. – Вот мы и опять идем вперед! Но что говорят в армии? Довольны ли мои орлы, что им приходится двигаться все вперед и что есть надежда вскоре покончить с этой ужасной войной?
Бертье, как всегда находчивый в придворной лести, ответил с глубоким поклоном:
– Армия счастлива, что вы, ваше величество, изволите быть в вожделенном здравии, и рассчитывает на грядущую вскоре победу, благодаря которой можно будет заключить славный мир и вернуться во Францию.
– Мир! Как бы я хотел мира! – пробормотал император. – Я всегда хотел его, что бы ни говорили про меня. Но разве я мог без боя вернуть своих орлов обратно, позорно покинув Пруссию, как того требовал от меня император Александр? Я могу говорить с ним о мире только тогда, когда займу одну из его столиц. Мы находимся сейчас на московской дороге – ну, мы и пойдем в Москву! Ты как глядишь на это, Лефевр?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































