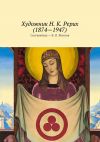Текст книги "Сотворение мира"
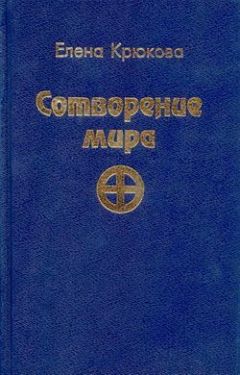
Автор книги: Елена Крюкова
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
Зимняя карусель
Зима парижская – важная птица: с ледяным хохолком, с колючими шпорами.
Злой, с отливом красного морозного пера, петух.
Чуть что – клюнет прямо в глаз: не зазевайся, ротозей-гуляльщик,
Рождественские карусели обманчивы, —
прокатишься круг-другой,
и уже без пинты сладкого пива не обойтись!
Лиса это, а не зима! – вроде и не холодно,
и дамы сдвигают весело меховые шляпки на затылки,
да вот махнет лиска хвостом, мазнет лапой по крышам —
и уже сизые они, мертвые;
лизнет синим языком небо – и лютость железная, кованая,
звонит с неба вниз Анжелюсом декабрьским.
Идет по Парижу человек рыжебородый, квадратный.
Он угрюм, как рыба в ночной реке. Он чист и светел.
Он крепко жмет руки в кулаки в карманах, чтоб не замерзли.
Его душа поет неслышно для других.
Каменные черепахи мерзлых домов мрачно ползут на него,
и панцири-крыши сверкают на Солнце инеем, —
эх, иней французский, корм для небесных птиц!
Идет человек, по имени Ван-Гог, значит.
Ни для кого это ничего вообще не значит.
Он сам знает свое имя. Сжимает его в кулаке.
Чтобы бросить в лицо толстому, отъевшемуся: кому?
Он идет в тоске по краскам. Они дома, в ящике.
Из половины тюбиков краска уже выдавлена вся.
Солнце злое, морозище злой.
Монмартр крутится каруселью в лохмотьях и тряпочках.
Краснощекий мальчишка отморозил носопырку.
Сидит на деревянном облупленном коне.
Трет кулачонком рожицу, шмыгает.
«Это подкидыш», – грубым шепотом кто-то – вблизи.
Ван-Гог вздрагивает.
Где его любезная Голландия, пестрая лапчатая клушка?
Париж – жестокий пес, кусачий.
Все локти, все щиколотки в синяках.
– Эй, парень! – кричит Ван-Гог во всю глотку.
– Подбери сопли!
Я тебя сейчас до отвала накормлю!
Я вчера продал картину!
«… – Ти-и-ну, ти-и-ну», – поет в белокожих куполах Сакре-Кер монмартрское эхо.
Ван-Гог всей красной на морозе кожей чует, как жизнь мала.
Завернуть парня в чистый негрунтованный холст. Унести домой.
Е-мое! – тогда иди все прахом, гнилое честолюбие.
Он будет отцом и матерью.
Если нет у него женщины – он и матерью сам будет.
Вот только краски, краски, как быть с ними.
Они же кончаются все время, эх…
– Дя-дя! – орет пацан, теребя стоячие деревянные уши коня.
– Ты только не уходи!
Ван-Гог не уходит.
Круг замыкается.
Дети зерном валятся с лошадей и верблюдов.
Бок о бок они идут в кафэ: большой мужчина и маленький.
Сосиски, что приносят им в жестяной тарелке,
пахнут дымом и счастьем и немножко рыбой.
Они едят так, как люди поют песни.
И, согретые лаской еды, выходят на мороз смело, как охотники.
Чего-то в мире они не приметили.
Близ карусели стоит странный шарманщик.
Его волосы слишком длинны и седы. Они летят по холодному ветру.
Люди ежатся от печали этих волос, как от метели.
Ближе подходят, нос к носу, – эх, да это же баба!
Вон серьги в ушах пламенеют, сверкают больно.
Баба, баба, старая волчица, – что ты быстро вертишь ручку шарманки,
а совсем не поешь?
Может, немая ты, а?…
Пацан тычет Ван-Гога вбок кулаком:
– Поговори-ка с ней!
– Я попытаюсь, – сказал Ван-Гог. – Сестра, твои волосы мерзнут!
Они прекрасны на Солнце.
Обернула к Ван-Гогу старуха древнее Солнце лица.
Глаза из-под вытертой лисьей шапки —
то ли икона, то ли витраж?. —
два кабошона уральской яшмы.
На рот пальцем показала: не понимаю, мол, не могу себя выразить.
– Немая, – удрученно вздохнул подкидыш, пацан.
Рука укутана в кожаную дрянь перчатки.
Ручка шарманки крутится без перерыва.
Показались бисером слезы на старушьих щеках – на фоне музыки,
но музыка не остановилась.
– Же эсь рюский фам, – сказала старуха сквозь заслонку музыки
сияющим, густым и молодым голосом.
И добавила по-русски:
– Русская я, господа славные.
Ван-Гог, румяный, навытяжку стоял перед ней,
как перед старым капралом.
Подкидыш цепко держал его за скрюченную,
твердую, как редис, руку.
Ван-Гог все понял. Но не спешил с ответом.
Он хотел написать ее красками на холсте —
это было ясно как день.
Он поводил в воздухе правою рукой, изображая кисть и холст.
Поняла ли она?
О, кивает головою, и свободною от шарманки рукой
машет, как мельница!
И кричит что-то – на морозе не разобрать.
– Спасибо, господин хороший!… Да с Богом!…
С Богом приходите сюда да рисуйте меня, старуху, сколько влезет!…
Вот чести я сподобилась!…
Нарисуйте меня во весь рост, старую дуру, с седыми патлами!…
Авось продадите богачам и купите себе и сыну жареных каштанов!…
Ван-Гог ни слова не понял,
однако больнее сжал руку приблудного пацана.
Закинул ввысь голову, чтоб выдавленные морозом слезы
влились обратно в глаза.
– Я тебе жареных каштанов куплю.
И душегрейку – стоять тебе холодно здесь целый день.
А шарманщица та была вдовой генерала, под Плевной погибшего.
А музыка на морозе лилась, лилась.
А зима глядела в синее, зеленое небо над Сакре-Кер
хитрою, злою лисой из норы.
Дега. Орсэ. Голубые танцовщицы
…Как шли мы – не вспомню от счастья никак,
От слез, затянувших петлею
Мне горло. И Лувр погрузился во мрак,
И Консьержери – пеленою
Окуталась. Крепко держал меня муж
За руку: боялся, исчезну,
Девчонка, без году жена, Скарамуш,
В довременно-черную бездну.
Мы были в Париже. Казалось то нам
Условленным знаком Господним:
Он руку воздел – и Содом, и Бедлам
России – бельишком исподним
За далью помстились…
Не помню, как шли
И как очутились в покое.
А помню – паркет в лучезарной пыли
И живопись – шумом прибоя.
И живопись – морем, где пена и соль —
На лицах, на ртах и ресницах.
И живопись – мука, и пытка, и боль,
С которой до гроба тащиться —
Поклажа тяжка на бугристой спине,
Дождями размыта дорога.
Муж рот облизнул. Муж стоял, как в огне.
Качался, как в холод – от грога.
Тек пот по его поседелым вискам,
И пальцы его шевелились.
«Я землю создам… И я воду создам —
Такую, чтоб люди склонились
И пили!… Я тело вот так напишу —
Чтоб старец возжаждал юницу!…»
И он не заметил, что я не дышу,
Что копьями стынут ресницы.
Девчонки в балетной тюрьме, у станков,
В марлевках крахмальных и пачках
Сияли, как синие звезды веков,
Как пена в корыте у прачки.
Они опускали бретельки со плеч,
На козьи копытца пуантов
Вставали, горя – тоньше храмовых свеч
И ярче златых аксельбантов.
Ах вы, колокольчики вы, васильки!
Все ваши балетки истлели
В пожарищах века, в кострищах тоски —
И ваших детей колыбели,
И внуков… Шатнулся, любимый: узнал,
Почуял всей кожею – небыль…
А синий, в полмира, гремел Карнавал,
Шел кобальт мой синий – в полнеба!
Летел ураган – грозный ультрамарин,
Пылала индигова пляска —
За то, что тот парень был в мире один —
Дега, – и была его краска,
И были балетные девки его,
Субретки, рабочие клячи,
Кормившие черствой галетой его! —
Все знавшие, что он там прячет
На холстиках драных, где светит пастель,
Где масло саргассами льется:
Их Вечность!… Да, Вечность!…
Не смех. Не постель.
Не сердце, что кражей упьется
Подружкиной брошки. Не пляс во хмелю.
А зеркало, в коем – пред Богом…
«…Как юбки я синие эти люблю», —
Шепнула темно и убого.
Муж руку мою взял в горячий кулак
И стиснул до боли, как птицу.
И так руки сжав, мы дрожали, как флаг,
Что по ветру плачет, струится —
Затем, что одна опостылая жизнь,
Балетка, козявка, Козетта, —
Затем, что ты веришь в бессмертье, дрожишь,
А Бог покарает за это.
Хиосская резня
Мама, матушка, не надо плакать. Свалены тела
За колючую ограду, где безглавая ветла.
Там, где плавают в купелях головы, еще теплы.
Там, где девками – метели задирают подолы.
Рот зажми дырявым платом. Бисер новогодних слез
Отряхни. Идут солдаты. Это зимний наш Хиос.
Он был намертво предсказан. Был ко древу пригвожден.
В черный был мешок завязан. Был – младенчиком рожден,
А убит кривою саблей, насажен на ятаган.
Ветви зимние ослабли. Снег-солдат, качаясь, пьян
От убийства, ходит-бродит, виснет, землю сторожит.
Дулом по зениту водит. Красной манкою дрожит
В котелках озер застылых. Ты варись, варись, еда.
Ты курись, курись, могила. Не восстать нам никогда
Из гробов, мои родные, – вплоть до Судного Огня.
Где ракиты ледяные. Где Хиосская Резня
Побледнеет перед этой; где Илья и Нострадам
Оботрут от слез планеты, припадут к моим стопам.
Снимут мертвого волчонка с живота седых полей,
Вынут теплого ребенка из железных челюстей,
Из когтей войны последней, что слабо Делакруа
Написать, – за грошик медный, выхлеб водки из горла.
Тулуз-Лотрек
Девчонка, сальдо-бульдо подведи.
Весь мир ночной, уснувший на груди,
Пинком в живот, как кошку, разбуди… —
Да ты не спишь?!… —
Лиловый, апельсиновый Монмартр…
И лупит дождь. А есть французский мат?!
Конечно, есть. Он сладкий, будто яд, —
Как ты, Париж.
Париж, ты крут. Как лошадиный круп.
Я слизываю дождь с гранитных губ.
И Сакре-Кер, бараний мой тулуп,
Навис в ночи
Над жалким телом женщинки: согрей!
Над нежным телом нищенки твоей,
Горящей меж откормленных грудей,
Как угль в печи.
Иду. Из подворотни зырк – пацан.
За сотню франков я б к его усам
Прилипла бы. Да я другому дам.
Ему: тому,
Кто вознесся над сыростью – царем.
Кто вознесся над сытостью – ребром
Голодным, тощим, впалым животом,
Прожегшим тьму.
Лиловый дождь кроваво тек с зонтов.
Я каблуками шла поверх голов.
Я знала то, что в мире есть любовь.
Но чтобы – так?! —
Всем золотом фонарных мокрых щек,
Всей грудью крыш, – а вот горит сосок —
Петуший флюгер! – до костей-досок —
За мой пятак —
Российский, черный!… – вжаться так в меня,
Чтоб извивалась, чтоб внутри огня
Жила! Чтоб не могла прожить и дня
Без этих глаз —
Без глаз твоих, Париж, гуляка мой,
Бросай абсент, мужик, пошли домой,
Я баба русская, тебе кажусь немой,
Разденусь враз
Перед тобой. Все перлы обнажу.
Гляди: снега. Гляди: одна дрожу
Под выстрелами. Сына не рожу
Я от тебя.
Ведь ты Портос, портач. Ведь ты богач.
Я – нищенка. Я – лишенка. Хоть плачь.
Будь мой Сансон. Будь Гревский мой палач.
Умру – любя.
И, может быть, придет Тулуз-Лотрек,
Такой горбатый, хлебный человек,
Горбушка, шишка на макушке, век
Не жравший всласть, —
И зарисует мой горящий рот,
И синий дождь, и мокрый эшафот,
И мертвый глаз, и пляшущий народ,
И ночи пасть.
Бар Фоли-Бержер
Девушка, девушка,
Девушка моя… —
Дай вина мне, девушка!…
Позабудусь я.
* * *
…не я, не я живу на свете.
А входит в залу он,
Он – это я. Старик, как мощный ветер,
Суглоб, суров, спален
И судоргой сведен былых желаний.
…Я – судоргою сведена… —
Да, худо мне. Марией – в храм?!… -…по пьяни
Сюда я введена.
Красивый бар. Отрубленные пальцы
Бокалов. В них, багрян,
Горит сей мир. Закусываю смальцем —
Вот, выверну карман… —
А там, в подземке, – воробьиных крошек!…
Газеты… соль… фольга —
И глубко, в запахе бездомных кошек, —
Ты, русская деньга…
Орел и решка. И, оскалясь, брошу.
И в люстру попаду.
Французский фраер, господин хороший,
Лови свою звезду!
Нас полегло в бесснежных гатях много.
А снег пошел потом,
Плюя в лицо, укутывая Бога
Рязанским ли рядном,
Руанским ли… – все выпало из лобных,
Отверженных костей.
Я волка-века слышу вой надгробный
И плачу меж гостей.
Вы в роскоши! В мантилиях парчовых!
Все – в устрицах, икре!
А смерд портовый, а Восток грошовый —
Весь в грязном серебре
Дорог и войн. Недолго мне осталось
Курить над хрусталем.
Коль нет отца – нет отчества. На жалость
Не бью перед тобой, блистающий Содом.
А – рюмку со стола рукою птичьей
Схвачу – и в глотку, и – об пол! —
Затем, что скоро мне менять обличье,
Что век мой, волк, ушел,
Последнюю провыл мне песню в уши
В тех голубых мехах, в снегах,
Где смерзись комьями б, парижские вы души,
Портянками – в ногах —
Скаталисьбы, прилипли к пяткам босым, —
А мы, а мы живем,
И льем вино, и льем живые слезы,
И в барах водку пьем!
В Фоли-Бержерах – нашу ртуть, чей жуток
Острожный и топорный блеск.
И жизнь моя – всего лишь промежуток
Между глотками – плеск
В отрезанных, отрубленных бокалах,
Ступнях, зрачках, кистях, —
Девчонка, эй, налей: душе все мало!… —
Я у тебя в гостях!
Я – русский, русская, старик или старуха,
Мне все равно – налей —
Мне все одно: жестянки ли разрухи,
Порфиры королей,
Тюремных ребер прутья, вопли люда
И кружев блуда грязь, —
На том я свете с милым Богом буду
Пить твой Бурбон, смеясь
над собою… Душечка,
Девочка моя!
Дай мне водки в кружечке —
Позабудусь я…
Дай в железке льдистой мне,
Адской белизны:
Все умрем мы – чистыми,
В матушку пьяны.
Облетим мы – листьями,
Стертыми монистами,
На последней пристани
Бакенами выстынем,
Пред Крестом и выстрелом
В матушку пьяны…
И, моя францужечка!… —
Во вьюге белья… —
Дай мне жизни в кружечке,
Позабудусь я.
Призраки Французской революции
Этих песьих голов, этих бычьих рогов,
Этих птичьих застылых зрачков
С человечьими шеями диких богов —
Не забыть мне во веки веков.
Неужели вот это планида моя —
Панихидные свечи сбирать,
Экономя, в корзину, – да горы белья —
Гимнастерки, портянки, – стирать?!…
Неужели вот так собираюсь я жить —
С побиральной сумой в полстраны?!
Мир загаснет, коль мокрой рукой притушить.
Вспыхнет – во поле мины: с войны.
А в оврагах, в подлесках, где прячет река
Ледяной живородный улов, —
Песьи пасти, да волчьи зубы, рога
Красноглазых, безумных козлов!
Вы опять заплясали, держа в челюстях
Алой крови болотной огни.
На ослепших копытах, на звонких костях
Замесили вы ночи и дни!
Вы воздвигнули красного камня дворцы.
Снег хлестал в них седой бирюзой.
Бородатые, хищные наши отцы,
А наколка по скулам – слезой!
Выводили птенят, боевых бесенят, —
Вылуплялись с ружьем на плече
Да с копытом-копьем, да с мешочком, где яд —
Под зубами, и блеск – на мече!
Много нас – красных глаз. Мы летим саранчой.
Мы вопим, разрушая хлевы.
Кто укроет нам голову древней парчой,
Кто нам даст человечьей жратвы?!
Кто протянет травы?!
Кто нальет молока?!
Кто, уставши вперяться в раздрай,
Скинув волчий тулуп, соль отерши с виска,
Сволокет на закланье в сарай?!
И, храпя и хрипя, и, крутясь под ножом,
Зверий век прокляня до хвоста,
Роговицами красными лед мы зажжем,
Раскалим корневище креста!
И, когда воплывут топоров корабли
В наши шеи, – прошепчет мясник:
«Зверобоги России!… Откуда пришли?…
Не понять гулкий мык, грозный рык!…
Вы не наши!… Издревле славяне добры!…
Злое семя, отравный обрат!…»
Робеспьер ладит копья. Дантон – топоры.
Топорища и древки кровят.
И потеют багрянцем во тьме лезвия.
Спит под снегом баранья страна.
И теку с Божьих губ —
сукровь, боль, ектенья —
Ночью Варфоломея, одна.
Клод Монэ. «Скалы в Этрета»
Да, мне сказали. Знаю. Я больна.
Я чую: долго мне не протянуть.
Но я хочу анжуйского вина
И сливу из Бургундии – на грудь.
Да, сливу цвета моря и волны.
Ее куснуть – уже не хватит сил.
Снега и колья выпитой войны.
Да, тот не русский, кто в огне не стыл.
Рубахи рваной ворот починю.
Веревочку нательного креста
Свяжу узлом. Молюсь сто раз на дню.
Над изголовьем – «Скалы в Этрета».
О синий цвет, земной победный цвет.
Морская кровь. Кострище синих вод.
…Тот календарь в дому сгоревшем дед
Слюнявил, чая: завтра не умрет,
А к речке, что, как синяя чехонь,
Горит в разломе ледяных снегов,
Сойдет, смеясь, сияя как огонь,
По козьей тропке белых берегов.
А мир!… – собаки, высунув язык,
Метут за ним метелками хвостов
Покатый горб холма, и детский крик
Висит орехом посреди кустов,
Орехом золотым! О, мех собак
Чернеет сажей в яркой белизне…
И старая рука сожмет пятак —
В кармане ватника, на самом дне
Военном… – о, какая белизна.
И синяя река. И новый век.
А там, где умерла его война,
Стоит пацан, ест вместо хлеба снег.
А там, где умерла его жена —
Французский синий цвет до горла, до
Кричащих уст. Морская ширь видна
До дна – Люси, Веро, Каро, Мадо.
И он совал в худые пальцы ей
Свечу, что приволок чужой кюре.
И ветер бил. Сильнее, ветер, бей!
А он хотел икону в серебре —
К ее губам… – вот этот зимний день!
И пацанов салазки! И реку —
Чехонь во льду! И кружевную тень
Березы на опаловом снегу,
На розовом и желтом, как желток,
На палевом, серебряном, родном…
О, Господи, коль Ты – великий бог,
Дай умереть ему великим Сном.
И пусть, на скалы глядя в Этрета,
Чей синий глянец коробом ведет,
Хрипя, держа лекарствие у рта,
Вмерзая рыбый в передсмертный лед,
Он вновь – пацан, он катит вниз и вниз —
Сгоры – к реке, где Солнце и Луна,
И лай собак, и – Боже, оглянись —
В малой ушанке – жизнь: еще одна.
Свечи в Нотр-дам
Чужие, большие и белые свечи,
Чужая соборная тьма.
…Какие вы белые, будто бы плечи
Красавиц, сошедших с ума.
Вы бьете в лицо мне. Под дых. В подбородок.
Клеймите вы щеки и лоб
Сезонки, поденки из сонма уродок,
Что выродил русский сугроб.
Царю Артаксерксу я не повинилась.
Давиду-царю – не сдалась.
И царь Соломон, чьей женою блазнилось
Мне стать, – не втоптал меня в грязь.
Меня не убили с детьми бедной Риццы.
И то не меня, не меня
Волок Самарянин от Волги до Ниццы,
В рот тыча горбушку огня.
Расстельная ночь не ночнее родильных;
Зачатье – в Зачатьевском; смерть —
У Фрола и Лавра. Парижей могильных
Уймись, краснотелая медь.
Католики в лбы двоеперстье втыкают.
Чесночный храпит гугенот.
Мне птицы по четкам снегов нагадают,
Когда мое счастье пройдет.
По четкам горчайших березовых почек,
По четкам собачьих когтей…
О свечи! Из чрева не выпущу дочек,
И зрю в облаках сыновей.
Вы белые, жрные, сладкие свечи,
Вы медом и салом, смолой,
Вы солодом, сливками, солью – далече —
От Сахарно-Снежной, Святой,
Великой земли, где великие звезды —
Мальками в полярной бадье.
О свечи, пылайте, как граф Калиостро,
Прожегший до дна бытие.
Прожгите живот мой в порезах и шрамах,
Омойте сполохами грудь.
Стою в Нотр-Дам. Я бродяжка, не дама.
На жемчуга связку – взглянуть
На светлой картине – поверх моей бедной,
Шальной и седой головы:
Родильное ложе, таз яркий и медный,
Кувшин, полотенце, волхвы
На корточках, на четвереньках смеются,
Суют в пеленах червячку —
Златые орехи, сребряные блюдца,
Из рюмочек пьют коньячку…
И низка жемчужная, снежная низка —
На шее родильницы – хлесь
Меня по зрачкам!
…Лупоглазая киска,
Все счастие – ныне издесь.
Все счастие – ныне, вовеки и присно,
В трещанье лучинок Нотр-Дам.
____________________
…Дай Сына мне, дай в угасающей жизни —
И я Тебе душу отдам.
Русское евангелие
…Я закрыла глаза и подумала: ради чего я появилась на белый свет?
А в дому было холодно, ветер дул во все щели, и за слюдой окна в ночи вставали серебряные копья гольцов Хамар-Дабана. Так скалила земля чудовищные зубы, смеялась над смертью, смеялась над жизнью.
И держала я глаза закрытыми до тех пор, пока не засияла передо мной в дикой высоте Звезда.
И так, ослепив мои сомкнутые глаза, вошла она мне острием под сердце, и поняла я: вот для чего живу я, малый человек, сосуд скудельный, вот для чего приуготовила меня метель моя дольняя, слепая повитуха.
И спросила я сухими строгими губами:
– Звезда, скажи, что ты знаменуешь? Долго ли еще надо лбом моим гореть будешь?
Не двигалась Звезда, только испускала лучи свои синие, торжественные, прямые. И зимняя земля под нею, и задраенный намертво железным льдом Байкал жестоки были и безмолвны.
И поняла я, что вот так – однажды в жизни – должны живая душа оказаться перед лицом Троицы Триединой – Мороза, Космоса и Смерти.
И вопросила я еще раз, стоя босыми ногами на холодном полу срубового дома, глядящего очьми в горькую, воющую байкальскую пустыню:
– Что мне уготовано в сем мире, родная?… Ты же знаешь… Скажи!…
И ворохнулась Звезда тяжело и больно под сердцем моим.
И стало внутри меня светло и горячо, и слезы поземкой пошли по щекам.
Жизнь свою я как на ладони увидела. Себя – седую. Сына – на Кресте. Молнию – в дегтярной тьме. Лики, глаза бесконечной реки людей, любовью к моему сыну – к моему живому горю – живущих…
И возопила я, вскричала6
– Звезда, Звезда!… Неужто ты меня избрала!… Да чем же я от других-иных отличилась, чем заслужила, в чем провинилась!… Вот руки мои, ноги, чрево, сердчишко бьется, как у зайца, когда по льду его собаки геологов гонят, – нищее, бабье, земное… Что ж ты делаешь-то, а, Звезда, пошто меня, многогрешную, на сей путь избираешь?!… А я не хочу… Ох, не хочу!… Другую найди… Мало ль баб по белу свету такой доли просят-молят, тебя в безлюбье на закоптелых кухнях, где пахнет черемшою да ржавчиной от стенок чугунов, – призывают!… Меня – за что?!…
И молчал, дыша в пазы сруба пьяною вьюгой, старый Байкал.
И глядела в меня со смоляных небес острая Звезда: детской гремушкой – свадебным перстнем – старческим плачущим глазом – поминальной свечою – и снова дитячьей пятипалой, лучистой ладошкой – до скончания грозных и ветхих, никому не желанных, неприметных, неслышных, до конца прожитых мною, дотла и до дна, бедных, возлюбленных, могучих дней моих.
Да простится мне, что я изъясняю жизнь Сына своего словами; женское дело другое. Но рек мой Сын: не хлебом единым жив человек. И вот, помню Его слова.
Я видела Его младенцем, Он сосал грудь мою; я кормила Его хлебом, вынимая свежие ковриги из печи; я шла за Ним и внимала Ему, и я видела Его последнее страдания.
Та женщина, чьею рукою я сейчас вожу, чтобы записана была воля моя и жажда моя, – та, живая… да простится ей то, что облекает она мой рассказ в одежды, привычные ей.
Ибо душа кочует из тела в тело, и так живет вечно; ее душа услышала мою – да запечатлеется боль моя печатью ее горячей ладони, еще не утиравшей со щек влаги близ Креста свежевыструганного.
Аминь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.