Текст книги "Догмат о Христе и другие эссе"
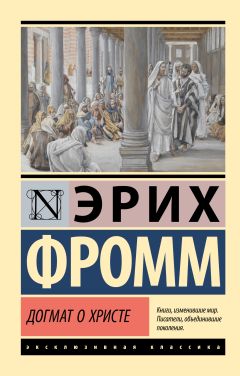
Автор книги: Эрих Фромм
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
В первом веке в христианских сообществах даже не существовало четко определенного внешнего руководства – они, таким образом, строились по принципу независимости и свободы отдельного христианина касательно вопросов веры. Второе столетие характеризовалось постепенным развитием церковного объединения с авторитетными лидерами и, соответственно, также формированием систематичного вероучения, которому отдельный христианин должен был следовать. Изначально прощать грехи мог лишь один Бог, но не Церковь. Позже: Extra ecclesiam nulla salus (лат. «Вне церкви нет спасения». – Прим. перев.); лишь Церковь способна защитить от потери благодати. Как организация Церковь стала святой через свое предназначение – быть нравственным институтом, который учит людей спасению. Эту функцию могли выполнять только священнослужители, и в особенности епископат, «который в своем единстве гарантирует легитимность церкви и получил разрешение на отпущение грехов»[49]49
Cyprian. Epistle 69, 11.
[Закрыть]. Трансформация свободного братства равных в иерархическую организацию явно свидетельствует о произошедшей психической перемене[50]50
См.: Harnack. History of Dogma, II, 67–94.
[Закрыть]. Как первые христиане были полны ненависти и презрения к образованным богачам и правителям – если короче, то ко всем сильным мира сего, – так христиане, начиная с третьего столетия и далее, были полны почтения, любви и верности к своим новым духовным властям.
Как христианство за первые три столетия своего существования трансформировалось во всех отношениях и превратилось в новую религию, отличную от первоначальной, так изменилась и концепция Иисуса. В раннем христианстве преобладала адопционистская доктрина, или вера в то, что Иисус был человеком и возвысился до бога. По мере развития Церкви концепция природы Иисуса все больше и больше склонялась к духовному толкованию: не человек возвысился до бога, а бог снизошел до превращения в человека. На этой основе была построена новая концепция Христа, которая обрела свою финальную форму в доктрине Афанасия, принятой на Никейском соборе: Иисус – Сын Божий, рожденный от Отца до начала времен и единосущный с Отцом. Арианская теория, что Иисус и Бог-Отец имеют подобную, но не идентичную природу, отвергается в пользу противоречивого тезиса о том, что две природы, Отца и его Сына, суть лишь одна природа; это постулат о двойственности, которая в то же время представляет собой единство. Каково же значение этой перемены в концепции Христа и его отношений с Богом-Отцом и как связана трансформация догмата с трансформацией всей религии?
Раннее христианство было враждебно власти и государству. Оно удовлетворяло в воображении революционные желания угнетенных низших классов, полных враждебности к «отцу». Христианство, которое возвысилось до официальной религии Римской империи тремя сотнями лет позже, имело абсолютно иную социальную функцию. Его предназначением было одновременно стать религией предводителей и ведомых; правителей и управляемых. Христианству удалось выполнить задачу, с которой из рук вон плохо справлялись культы императора и Митры, а именно – интегрировать народные массы в абсолютистскую систему Римской империи. Революционные настроения, превалировавшие до самого конца первого столетия, стихли. В экономике произошел спад; надвигалась эпоха Средневековья. Экономическая ситуация спровоцировала формирование системы общественных связей и зависимостей, которая в политическом смысле достигла пика в римско-византийском абсолютизме. Новое христианство оказалось под предводительством правящего класса. Новый догмат об Иисусе был создан и сформулирован этой правящей группой и ее интеллектуальными представителями, а не народом. Решающим элементом стал переход от идеи человека, ставшего Богом, к идее Бога, ставшего человеком.
Поскольку новая концепция Сына, который оказался вторым подле Бога и однако единым с ним, превратила напряженные отношения между Богом и его Сыном в гармонию и отказалась от представления о том, что человек может стать Богом, она вычеркнула из формулы революционный компонент старой доктрины, а именно враждебность к отцу. Эдипова преступления, содержавшегося в старой формуле – свержения отца сыном, – в этом новом христианстве не существовало. Отец остался неприкосновенен в своем положении. Однако теперь рядом с ним был не человек, а его единственный родной Сын, существовавший еще до сотворения мира. Иисус сам стал Богом, не свергая Бога с трона, поскольку всегда был его частью.
Пока что мы разобрали лишь отрицательную сторону вопроса: то, почему Иисус больше не мог быть человеком, который вознесся до статуса бога, человеком, сидящим по правую руку от отца. Нужду в одобрении отца, в пассивном подчинении ему мог бы утолить главный соперник христианства, культ императора. Почему же именно христианству, а не культу императора, удалось стать официальной государственной религией Римской империи? Потому что один из аспектов христианства делал его более удобным для социальной функции, которую ему предстояло исполнять. То была вера в распятого Сына Божия. Страдающим и угнетенным массам проще было ассоциировать себя с ним. Вот только в фантазийном удовлетворении произошла перемена. Массы теперь отождествляли себя с распятым человеком не для того, чтобы в воображении свергнуть отца с трона, а для того, чтобы ощутить на себе его любовь и милость. Идея человека, ставшего богом, была символом агрессивных, активных, враждебных отцу тенденций. Идея Бога, ставшего человеком, превратилась в символ нежной, пассивной связи с отцом. Массы нашли удовлетворение в том, что их представителя, распятого Иисуса, повысили рангом и он сам превратился в предвечного Бога. Люди больше не ожидали, что вот-вот наступит какая-то серьезная историческая перемена; теперь они верили, что избавление уже свершилось – то, на что они надеялись, уже произошло. Они отвергли фантазию, в которой отражалась враждебность к отцу, и сменили ее на другую, примирительную фантазию о сыне, который оказался подле отца в согласии с волей последнего.
Теологическая перемена является выражением социологической перемены, то есть перемены в социальной функции христианства. Это была уже религия не бунтарей и революционеров, а правящих классов; она твердо намеревалась держать народные массы в повиновении и господствовать над ними. Хотя символ прежних революционных настроений никуда не исчез, эмоциональные нужды масс удовлетворялись теперь новым способом. Активная враждебность к отцу сменилась формулой пассивного подчинения. Свергать его уже не требовалось, так как сын оказывался ровней Богу с самого начала именно потому, что был «порожден» самим Богом. Именно на этой возможности отождествления с богом, который страдал, но при этом с самого начала существовал на небесах, и одновременно устранения враждебных отцу тенденций основана победа христианства над культом императора. Кроме того, изменению этой установки соответствовала перемена в отношении к реально существующим отцовским фигурам – священникам, императору и особенно к правителям.
Психическая ситуация католических народных масс четвертого века отличалась от ситуации ранних христиан тем, что ненависть к властям, в том числе к отцу-богу, была уже не сознательной или лишь относительно таковой; люди отказались от своих революционных настроений. Причина этому кроется в изменении социальной реальности. Любая мысль о свержении правителей и победе их собственного класса оказывалась столь безнадежной, что с психической точки зрения им было бесполезно и неэкономично упорствовать в своей ненависти. Раз надежды свергнуть отца не оставалось, проще всего для психики было покориться ему, полюбить его и принять его любовь. Такая смена психической установки стала неизбежным результатом окончательного поражения угнетенного класса.
Но агрессивные импульсы не могли никуда исчезнуть; не могли и ослабнуть, поскольку их истинная причина – гнет власть имущих – не исчезла и не ослабла. Куда же они делись? Они отвернулись от своих прежних мишеней – отцов, властей – и направились вспять, на «я» самого индивида. Отождествление со страдающим распятым Иисусом стало для этого великолепной возможностью. В католической доктрине упор теперь делался не на свержение отца, как в учении ранних христиан, а на самоуничтожение сына. Агрессия, изначально направленная против отца, обернулась на самих людей и таким образом нашла себе отдушину, не угрожающую социальной стабильности.
Но это стало возможным лишь в связи с еще одной переменой. Для первых христиан представители власти и богачи были злодеями, которым неизбежно предстояло пожать заслуженные плоды своих прегрешений. Конечно, ранние христиане не были вовсе свободны от чувства вины за враждебное отношение к отцу; и отождествление со страдающим Иисусом также помогало им искупить эту агрессию; но, без сомнения, ключевым элементом веры для них было не это чувство вины и не мазохистское желание искупления. Католические народные массы более позднего периода оказались в иной ситуации. Власть больше не была виновна в их бедах и страданиях; виноватыми оказывались сами страдающие. Если они несчастны, им следует укорять в этом себя самих. Лишь путем непрерывного покаяния и личных страданий могут они искупить свою вину и заслужить любовь и прощение Бога и его земных представителей. Через страдания и самоуничижение человек может избавиться от гнетущего чувства вины и обрести шанс на прощение и любовь[51]51
Ср. заметки Фрейда в Civilization and Its Discontents (Standard edition), XXI, 123 и далее.
[Закрыть].
Католическая церковь поняла, как виртуозно ускорить и усилить этот процесс переноса претензий с Бога и правителей на индивида. Она разожгла в массах чувство вины до такой степени, что оно стало почти непереносимым; и таким образом достигла сразу двух целей: во-первых, помогла отвратить упреки и агрессию от властей и направить их на страдающий народ; во-вторых, предложила себя этому страдающему народу в качестве доброго и любящего отца, поскольку именно священники даровали прощение и избавление от чувства вины, которое сами же и зароняли. Церковь хитроумно культивировала психическое состояние, из которого она сама, а также высший класс, извлекали двойную выгоду: перенаправление агрессии масс и подтверждение их зависимости, благодарности и любви.
Однако для правителей фантазия о страдающем Иисусе выполняла не только эту социальную функцию, но также и важную психическую. Она освобождала их от чувства вины за бедственное положение и муки народа, который они угнетали и эксплуатировали. Путем отождествления со страдающим Иисусом эксплуатирующие группы сами могли нести покаяние. Они могли утешать себя мыслью, что раз единородный Сын Божий пошел на муки добровольно, значит, страдания для народа были милостью Божьей, и потому у них нет причины укорять себя за то, что они вызывают эти страдания.
Трансформация христологического догмата, как и всей христианской религии, соответствовала социологической функции религии в общем – функции поддержания социальной стабильности путем защиты интересов правящих классов. Для первых христиан фантазия, в которой ненавистные власти будут вскоре повержены, а они, ныне бедные и страдающие, обретут власть и счастье, была упоительно приятной мечтой. После финального поражения, когда стало ясно, что все их ожидания оказались тщетными, массы удовлетворились фантазией, в которой приняли на себя ответственность за все страдания; однако они могли искупить свои грехи собственным страданием и после этого надеяться на любовь доброго отца. Он проявил свою любовь, когда, приняв форму сына, стал страдающим человеком. Иные их желания – счастья, а не только прощения, – удовлетворялись фантазией о блаженной вечной жизни, посмертном существовании, призванном заменить историческое счастье в этом мире, на которое надеялись ранние христиане.
Однако мы в нашей интерпретации формулы единосущности еще не добрались до ее уникального и ключевого бессознательного значения. Аналитический опыт позволяет нам ожидать, что за логическим противоречием формулы, а именно равенством двух одному, должен скрываться конкретный бессознательный смысл, которому догмат обязан своей значимостью и привлекательностью. Этот глубинный бессознательный смысл доктрины единосущности станет очевидным, если мы вспомним один простой факт: есть одна реальная ситуация, в которой эта формула имеет смысл – ситуация ребенка в материнской утробе. Мать и ребенок в этом случае являются двумя существами и в то же время одним.
Теперь мы подошли к центральной проблеме перемены в концепции связи между Иисусом и Богом-Отцом. Изменился не только сын, но и отец. Сильный, могущественный отец превратился в заботливую и оберегающую мать; когда-то бунтующий, а после – страдающий и пассивный сын стал маленьким ребенком. Под личиной отца-Бога иудеев, одержавшего верх в борьбе с ближневосточными материнскими божествами, снова проявляется божественная фигура Великой матери – и становится доминирующей фигурой средневекового христианства.
Значимость материнской божественности в католическом христианстве начиная с четвертого века и далее ясно проявляется, во-первых, в роли, которую начинает играть сама Церковь; во-вторых, в культе Марии[52]52
См.: A. J. Storfer. Marias jungfräuliche Mutterschaft (Berlin, 1913).
[Закрыть]. Мы уже упоминали, что для ранних христиан идея церкви по-прежнему оставалась еще достаточно чужеродной. Лишь в ходе исторического развития Церковь постепенно приобрела иерархическую организацию; сама Церковь превращается в священный институт и в нечто большее, чем просто сумма ее членов. Церковь действует как посредник на пути к спасению, верующие – это ее дети, она – Великая мать, и лишь через нее одну может человек обрести уверенность и блаженство.
Столь же красноречиво и возрождение фигуры материнского божества в культе Марии. Мария является воплощением материнского божества, которое стало независимым, отделившись от Бога-Отца. В ней материнские качества, всегда бывшие бессознательно частью Бога-Отца, теперь ощущались сознательно и явно, а также получили символическое представление.
В Новом Завете Мария никоим образом не была возвышена над уровнем простого человека. С развитием христологии концепция Марии приобретала все большую и большую значимость. Чем более фигура исторического человека Иисуса отступала в пользу предсущего Сына Божия, тем больше обожествляли Марию. Хотя, согласно тексту Нового Завета, Мария в браке с Иосифом продолжала рожать детей, Епифаний оспорил эту идею как еретическую и необоснованную. Собор 431 года осудил как ересь несторианское учение и постановил, что Мария была не только матерью Христа, но также и матерью Божией, а в конце четвертого века появился культ Марии и люди начали возносить к ней молитвы. Приблизительно в то же время начали играть все увеличивающуюся роль изображения Марии в пластических искусствах. Последующие столетия придавали матери Бога все больше и больше значения, и поклонение ей становилось все более пышным и широко распространенным. Ей возводились алтари, всюду выставлялись ее изображения. Из принимающей благодать она превратилась в дарительницу благодати[53]53
Связь между поклонением Марии и поклонением языческим материнским божествам обсуждалась уже не единожды. Особенно очевидным примером могут послужить коллиридианки – жрицы Марии, которые в посвященный ей день устраивали торжественную процессию и разносили хлеб. В этом просматривается сходство с культом ханаанской царицы небесной, которую упоминает Иеремия. Рёш (Rösch, Th. St. K., 1888, с. 278 и далее) интерпретирует хлеб как фаллический символ и усматривает в Марии, которой поклоняются коллиридианки, аналог восточно-финикийской Астарты [см.: Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, том XII (Leipzig: 1915)].
[Закрыть]: Мария с младенцем Иисусом стала символом католического Средневековья.
Вся значимость коллективной фантазии о кормящей Мадонне становится ясна лишь при рассмотрении результатов психоаналитических клинических исследований. Шандор Радо в своей статье «Проблема меланхолии» отмечает чрезвычайно важную роль, которую страх голода, с одной стороны, и радость орального удовлетворения – с другой играют в психической жизни индивида:
Муки голода знакомят нашу психику с будущими «наказаниями», и после обучения науке наказаний превращаются в самый примитивный механизм самонаказания, которое в конце концов в меланхолии приобретает столь роковую значимость. За безграничным страхом обнищания, который ощущает меланхолик, скрывается не что иное, как страх голодной смерти; этот страх является реакцией жизненной энергии остатков нормального эго на угрожающий жизни меланхолический акт искупления или покаяния, навязанный церковью. Напротив, сосание груди остается ярчайшим примером неизменного, всепрощающего дара любви. Без сомнения, вовсе не случайно кормящая Мадонна с младенцем стала символом могущественной религии, и через ее посредничество символом целой эпохи в западной культуре. По моему мнению, выведение смыслового комплекса вины, искупления и прощения из младенческого переживания гнева, голода и сосания груди открывает нам тайну того, почему надежда на прощение и любовь составляет, пожалуй, самую влиятельную структуру, которую мы встречаем на высших уровнях психической жизни человека[54]54
Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, XIII, 445.
[Закрыть].
Работа Радо совершенно проясняет связь между фантазией о страдающем Иисусе и о младенце Иисусе у материнской груди. Обе фантазии являются выражением жажды прощения и искупления. В фантазии о распятом Иисусе прощение достигается путем пассивного самокастрирующего повиновения отцу. В фантазии о младенце Иисусе на груди Мадонны отсутствует мазохистский элемент; вместо отца мы обнаруживаем мать, которая дарует прощение и искупление, успокаивая дитя. В том же самом ощущении счастья заключается и бессознательное значение догмата о единосущности – это фантазия о ребенке, сокрытом в безопасности материнского чрева.
Фантазия о великой прощающей матери была главным вознаграждением, которое могло предложить католическое христианство. Чем больше страдали массы, тем больше их реальное положение походило на положение страдающего Иисуса и тем чаще рядом с фигурой страдающего Иисуса могла и должна была появляться фигура счастливого сосущего грудь младенца. Но это означало, что людям пришлось регрессировать до пассивной, инфантильной установки. В подобной позиции активный бунт становился невозможен; то была психическая установка, подобающая члену иерархически структурированного средневекового общества, человеческому существу, которое оказалось в зависимости от правителей, которое ожидало получать от них минимум средств к существованию и для которого голод был доказательством его грехов.
5. Развитие догмата до Никейского собора
Пока что мы проследили за переменами в идеях о Христе и его связи с Богом-Отцом с их зарождения в раннехристианской вере и до появления Никейского догмата, а также попытались выделить мотивы этих перемен. Однако в процессе их развития имелось несколько промежуточных этапов, которые характеризуются различными формулировками, возникавшими в разное время вплоть до самого Никейского собора. Противоречия подстегивали это развитие, и его можно понять диалектически лишь в сочетании с постепенной эволюцией христианства из революционной религии в религию, поддерживающую государство. Для того чтобы продемонстрировать, что различные формулировки догмата соответствуют в каждый конкретный момент конкретному классу и его нуждам, потребовалось бы провести отдельное исследование. И все же основные особенности следует здесь упомянуть.
Христианство второго века, уже начавшее собственный «ревизионизм», вело битву по двум фронтам: с одной стороны, нужно было подавлять революционные тенденции, которые вспыхивали с достаточно заметной силой в самых разных местах; с другой стороны, приходилось также подавлять тенденции в направлении социального конформизма, которые развивались слишком быстро, – так быстро, что само социальное развитие за ними не поспевало. Для масс был приемлемым лишь медленный, размеренный путь от надежды на Иисуса-революционера к вере в Иисуса, поддерживающего государство.
Сильнее всего тенденции раннего христианства проявились в монтанизме. Монтанизм, порожденный могучими усилиями фригийского пророка Монтана во второй половине второго века, был реакцией на конформистские тенденции христианства, реакцией, стремившейся возродить раннехристианский энтузиазм. Монтан хотел извлечь христиан из системы социальных отношений и образовать вместе со своими последователями вдали от мира новое сообщество, члены которого должны были готовиться к пришествию «вышнего Иерусалима». Монтанизм был отголоском раннехристианских настроений, но процесс трансформации христианства зашел уже так далеко, что эту революционную тенденцию заклеймили ересью церковные власти, действовавшие как судебные приставы римского государства. (Во многих отношениях схожим было поведение Лютера по отношению к бунтующим крестьянам и анабаптистам.)
С другой стороны находились гностики – интеллектуальные представители обеспеченного эллинистического среднего класса. По Гарнаку, гностицизм стал проявлением «острой секуляризации» христианства и предвосхитил путь развития, по которому этой религии предстояло двигаться еще полторы сотни лет. В ту пору официальная Церковь нападала на него, как и на монтанизм, но лишь недиалектическая интерпретация может проигнорировать тот факт, что борьба Церкви против монтанизма весьма отличалась по характеру от борьбы против гностицизма. Монтанизму противились, поскольку он был возрождением движения уже подавленного и теперь представлявшего угрозу для нынешних предводителей христианства. Гностицизму же – поскольку он хотел воплотить желаемое слишком быстро и внезапно, раскрыв секрет предстоящего развития христианства раньше, чем сознание масс могло его принять.
Представления гностиков о вере, и особенно их христологическая и эсхатологическая концепции, полностью совпадают с ожиданиями, которые должны были появиться у нас на основании нашего исследования социопсихологических условий развития догмата. Нет ничего удивительного в том, что гностицизм полностью отрицает раннехристианскую эсхатологию, особенно второе пришествие Христа и воскресение плоти, и ожидает от будущего лишь освобождения духа от материальной оболочки. Столь решительное отвержение эсхатологии, к которому сам католицизм пришел лишь полторы сотни лет спустя, было в ту пору преждевременным; эсхатологические концепции еще идеологически сохранялись у апологетов, которые в других отношениях уже далеко отошли от раннехристианских представлений. Этот пережиток, который Гарнак назвал «архаичным», был в тот период необходим для успокоения народных масс.
Следует упомянуть и еще одну доктрину гностицизма, тесно связанную с этим отказом от эсхатологии, а именно акцент гностиков на противоречии между высшим Богом и творцом мира, а также утверждение, что «существующий мир порожден падением человека или действием, враждебным Богу, а, следовательно, является творением злобного или посреднического существа»[55]55
Harnack. History of Dogma, I, 258.
[Закрыть]. Смысл этого тезиса ясен: если мироздание, то есть исторический мир, выраженный в социальной и политической жизни, порочен с самого начала, если он создан посредником, безучастным или слабым Богом, значит, очевидно, что его нельзя спасти, а все раннехристианские эсхатологические надежды неминуемо оказываются ложными и безосновательными. Гностицизм отверг идею реальной коллективной перемены и искупления человечества и заменил их индивидуальным идеалом знания, разделив людей по религиозным и духовным признакам на четко определенные классы и касты; социальные и экономические различия признавались благом и Божьим даром. Делились люди на пневматиков, достигших высшего блаженства; психиков, блаженствовавших чуть меньше; и гиликов, которые находились в полном упадке. Подобное опровержение возможности коллективного искупления и утверждение классовой стратификации общества католицизм ввел позднее, разделив мирской люд и духовенство, жизнь простых людей и жизнь монахов.
Какой же концепции придерживались гностики относительно Иисуса и его связи с Богом-Отцом? Они учили, что
…между небесным эоном Христом и человеческим обликом этого эона следует проводить четкое разграничение. Некоторые люди, такие как Василид, не признавали истинного единства между Христом и человеком Иисусом, которого они, кроме того, считали земным человеком. Другие, например, часть последователей Валентина… учили, что тело Иисуса было небесным духовным образованием и появилось из чрева Марии лишь внешне. Наконец, третьи, такие как Сатурнин, заявляли, вся видимая внешность Христа – это фантом и, следовательно, отрицали рождение Христа[56]56
Harnack. History of Dogma, I, стр. 259–260.
[Закрыть].
Каково значение этих концепций? Их ключевая характеристика состоит в отказе от первоначальной христианской идеи о реальном человеке (которого мы уже описали как личность революционную и враждебную отцу), ставшем богом. Различные гностические тенденции являются лишь проявлениями различных вариаций этого отказа. Все они отрицают, что Христос был реальным человеком, таким образом поддерживая неприкосновенность отца-бога. Связь с концепцией искупления также ясна. То, что этот мир, по натуре своей греховный, может стать хорошим, столь же маловероятно, как то, что настоящий человек может стать богом; значит, столь же маловероятно, что в существующей социальной ситуации что-то может измениться. Истолковать гностический тезис о том, что Бог-Творец из Ветхого Завета является не высшим Богом, а низшим богом, как выражение особенно враждебных настроений по отношению к отцу, было бы неверно. Гностикам пришлось заявить о несовершенстве Бога-Творца для того, чтобы проиллюстрировать тезис о неизменности мира и человеческого общества, и для них это утверждение, таким образом, не было выражением враждебности к отцу. В отличие от первых христиан, они говорили о боге, который был им чужд, иудейском Яхве, – эти греки не имели никаких оснований его почитать. Для них свержение иудейского божества не влекло за собой и не предполагало никаких особенно враждебных эмоций по отношению к отцу.
Католическая церковь, которая боролась с монтанизмом как с опасным пережитком, а с гностицизмом как с преждевременным ожиданием грядущего, вплоть до четвертого века размеренно, но неизменно продвигалась к окончательному достижению своей цели. Апологеты первыми предложили теорию для этого движения. Они создали догматы (именно они первыми употребили этот термин в узкоспециальном смысле), в которых нашла выражение перемена отношения к Богу и обществу. Безусловно, они не были столь радикальны, как гностики: как мы уже отметили, они сохранили эсхатологические идеи и таким образом служили мостом к раннему христианству. Их учение об Иисусе и его связи с Богом-Отцом, однако, имело тесную связь с позицией гностиков и содержало в себе семя Никейского догмата. Они попытались представить христианство как высшую философию; «сформулировали содержание Евангелия в виде, который взывал к здравому смыслу всех серьезных мыслителей и интеллектуалов той эпохи»[57]57
Harnack, указ. соч., II, 110.
[Закрыть].
Хотя апологеты не учили, что материя дурна, они, однако, назвали прямым инициатором мира не Бога, а олицетворенный божественный разум, который поместили между Богом и миром. Один из их тезисов, хоть и не столь радикальный, как соответствующий тезис гностиков, заключает в себе ту же оппозицию к историческому искуплению. Логос, исторгнутый Богом из себя для сотворения и рожденный добровольным актом, был для них Сыном Божьим. С одной стороны, он был не отделен от Бога, а скорее являлся результатом самораскрытия Бога; с другой – он был Богом и Господом, его личность имела начало, по отношению к Богу он был созданием; однако его подчиненность была обусловлена не его природой, а его источником.
Христология Логоса, разработанная апологетами, была, в сущности, идентична Никейскому догмату. Адопционистская антиавторитарная теория о человеке, ставшем Богом, оказалась отброшена, и Иисус превратился в предвечного единорожденного Сына Божия, который имел с ним одну природу и все же был при нем вторым. Наша интерпретация данного ядра Никейской доктрины, таким образом, в сущности своей остается верна и для христологии Логоса, которая стала главной предтечей нового католического христианства.
Ассимиляция христологии Логоса в вероучение Церкви… повлекла за собой трансформацию веры в доктрину, обладающую чертами греческой философии; она отодвинула на задний план эсхатологические идеи; более того, подавила их; поставила за историческим Христом концептуального, принцип, а исторического Христа трансформировала в видение. Привела христиан к «Природе» и природному величию взамен личного и нравственного; определенно подтолкнула веру христиан в направлении размышлений над идеями и догматами, таким образом подготовив путь, с одной стороны, к монашеской жизни, а с другой – к растолкованному христианству для несовершенных, занятых трудом мирян. Она признала сотни вопросов о космологии и природе мира вопросами религиозными и потребовала конкретного ответа на боль утраты блаженства. Это привело к тому, что люди начали проповедовать не веру, а веру в веру, и замедлили развитие религии, при этом формально расширяя ее. Однако установление идеального союзничества с наукой превратило христианство в одну из мировых религий – даже более того, в одну из всемирных, – и подготовило почву для Акта Константина[58]58
Harnack. Lehrbuch der Dogmengeschichte (6-е изд., 1922), стр. 155.
[Закрыть].
Таким образом, семя определяющего христианско-католического догмата зародилось в христологии Логоса. Ее признание и принятие, однако, сопровождались ожесточенной борьбой с противоположными идеями, за которыми скрывались пережитки раннехристианских взглядов и настроений. Эта концепция получила название монархианства (первым этот термин употребил Тертуллиан). Внутри монархианства можно различить две тенденции: адопционистскую и модалистскую. Адопционистское монархианство начинало с Иисуса-человека, который затем становился Богом. Модалистская точка зрения заключалась в том, что Иисус был лишь манифестацией Бога-Отца, а не богом наравне с ним. Таким образом, обе тенденции утверждали монархию Бога: одна заявляла, что человек был вдохновлен божественным духом, а Бог оставался неприкосновенным как уникальное существо; другая – что Сын был лишь манифестацией Отца, также оберегая монархию Бога. Хотя казалось, что две ветви монархианства противоречат друг другу, в действительности контраст был намного менее резким. Гарнак отмечает, что две точки зрения, на первый взгляд столь различные, во многом совпадают, и психоаналитическая интерпретация делает полностью понятной близость двух монархианских движений. Уже упоминалось, что бессознательный смысл адопционистской концепции заключался в желании сместить отца-бога; если человек может стать Богом и взойти на престол по правую руку Бога, то Бог оказывается свергнут с трона. Однако та же самая тенденция просматривается и в догмате модалистов; если Иисус был лишь манифестацией Бога, значит, очевидно, что был распят, страдал и умер сам Бог-Отец – эту точку зрения называют патрипассианством. В этой модалистской концепции мы замечаем явное сходство с древними ближневосточными мифами об умирающем боге (Аттис, Адонис, Осирис), в которых скрыта бессознательная враждебность к отцу-богу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































