Текст книги "Лучшая страна в мире"
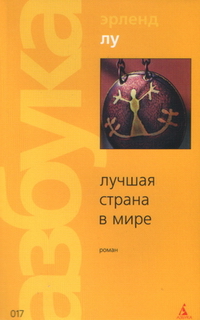
Автор книги: Эрленд Лу
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Денежная единица Финляндии – марка, записываю я затем. И учтите, что финская и немецкая марка – это не одно и то же, делаю я следующую заметку, это пригодится вам, когда перед отъездом вы будете менять деньги. Позаботьтесь о том, чтобы запастись в дорогу финскими, а не немецкими марками, потому что немецкие – это не то, что вам потребуется в Финляндии. Тут невольно возникает желание раскритиковать финнов за ту бедность воображения, с которой они слизали с немцев название своих денег, но не стоит, отмечаю я по этому поводу, не нам кидать камешки в их огород, ведь наши кроны тоже не чисто норвежское изобретение; есть много стран, где также пользуются кронами, причем их гораздо больше, чем стран, где пользуются марками, и в этом отношении нам нечем особенно похвастаться перед финнами; только будьте внимательны, когда станете менять деньги, иначе, приехав в Финляндию с немецкими марками, вы будете вынуждены еще раз менять деньги и, таким образом, вы дважды заплатите за обмен и в этом будете виноваты только вы сами, так что не говорите потом, что вас не предупредили, отмечаю я для себя, греясь в спальном мешке; между тем начинает понемногу светать; вероятно, думаю я про себя, в павильоне на автомобильной площадке скоро начнется пересменка; но нет, до пересменки еще осталось несколько часов, сейчас около пяти, мне необходимо помочиться, поэтому я отправляюсь на компостное поле и справляю нужду на новоприбывшую кучу садового мусора; моча ускорит процесс созревания компоста, думаю я, моча – это хорошо, розы любят мочу, вспоминаю я чьи-то слова, красавицы розы, которые мы дарим людям в знак доброго расположения, становятся еще красивее, напитавшись мочой: интересная мысль, думаю я, и бреду от нечего делать вверх по склону, посмотрим, куда ведет тропинка, петляющая среди деревьев; тропинка вывела к больничному комплексу из солидных, молчаливых здании, в облике которых есть что-то мирное и душевное, что-то такое, отчего я вспоминаю о душевных болезнях, о психических нарушениях, о депрессиях, и маниях, и обо всем, что с ними связано; тут я поравнялся со зданием, в котором проводятся терапевтические занятия танцами и живописью. А что, думаю я, неплохо бы попробовать; моей психике не помешало бы прибавить немного раскованности, хотя я и не болен психически и голова у меня в полном порядке, но есть некоторая излишняя скованность, какая-то растренированность в эмоциональном отношении; то есть в том, что касается брошюр, моя голова в отличной форме, а вот в других делах я слабоват. Чувства как мускулы, думаю я дальше. Их нужно тренировать; для того чтобы быть в форме, нужна ежедневная тренировка. А я запустил эту сторону мозговой деятельности. Честно говоря, я уже давно перестал тренировать эти центры, и они уснули: обленились, залегли, как медведь в берлогу, и погрузились в спячку, они выживают за счет внутренних резервов, но в последний раз подпитка была скудноватой и непродолжительной, да и было это давно, поэтому они попрятались, как делают раненые звери, а теперь уснули и думают, что неплохо бы подлечиться танцами и живописью. Свободное движение в зале под музыку, потом порисовать; может быть, прямо пальцами, я не исключаю, что именно такой живописью занимаются в этом здании: закупают оптом краски и мажут себе от души, так я себе это представляю, а может быть, проводят скромные и непритязательные выставки, на которых присутствующих угощают кофе с вафлями и уютной атмосфере, без установки на выдающиеся достижения, потому что вся беда как раз в установке на достижения, на обязательный успех, в том, что я должен добиваться успехов, какие никому и не снились, стать первым и лучшим в своей области, что все мы должны становиться самыми лучшими, стремиться к успехам и достижениям, а после того, как мы долгое время показывали наилучшие результаты, нас настигает усталость, такая усталость, что хочется ничего делать, а только спать, но мы не позволяем себе спать, потому что как можно позволить себе спать, когда надо гнаться за достижениями, а какие могут быть достижения, если ты спишь; мы понимаем – одно с другим не сочетается; значит, надо меньше спать и больше работать, и вот, не позволяя себе поспать и постоянно гоняясь за новыми достижениями, мы приходим к тому, что появляются первые протечки, вода просачивается по каплям, потом ручейками и, наконец, нас заливает потоп, и тут уж ничего не поделаешь и воду не остановишь, она все прибывает, и не успеешь оглянуться, как уже все мы круглые сутки занимаемся лечебными танцами и живописью, и пропади они пропадом, все достижения. В восемь часов она пришла на работу. Она приехала на автобусе, прошла пешком короткое расстояние от остановки и вошла в домик меня так и подмывает сказать «в домик среди прерии», хотя я знаю, что это глупость и совершенно не отвечает действительности. Через несколько минут после того, как она вошла в домик среди прерий – последнее, как уже сказано, надо понимать в чисто условном смысле, – оттуда вышел ночной дежурный, сел в машину и уехал домой, как мне думается, чтобы лечь спать. Нередко бывает так, что все происходит естественным чередом, так что мое умозаключение о том, что он поехал домой отсыпаться, вряд ли можно считать слишком поспешным. Бедняга проработал всю ночь и оттого устал. Поэтому он ляжет спать, когда другие просыпаются. В то время как жена и дети встали и пойдут на работу и в школу, он будет спать. Несправедливо, можно заметить по этому поводу, но мир вообще несправедливо устроен, и надо к этому привыкать. Кто-то должен работать по ночам. А кому-то это даже нравится. Мир ночью иной, чем днем, я и сам был в эту ночь немного не тот, что обычно, а теперь настало утро, и, казалось бы, я должен опять быть самим собой, однако я не могу с уверенностью утверждать, что так оно и есть. Настало утро, и мне следовало бы проснуться в своей постели, достать «Афтенпостен», забыв после этого затворить дверь между спальней и кухней, принять душ и, как всегда, вернуться к промокшей газете, но вместо этого я сижу под деревьями между коммунальной площадкой для брошенных автомобилей и согнским компостным полем. Я скатываю спальный мешок, приглаживаю волосы, расправляю, как могу, помятую одежду и спускаюсь вниз, где захожу в домик – среди прерий, хочется мне добавить, хотя никаких прерий в нашей части света нет. Она сразу узнала меня. Сегодня я у нее – первый клиент, первый клиент в этот день, если только это называется словом «клиент», наверняка это называется иначе – может быть, пользователь, но, как бы там ни было, сегодня я первый посетитель, и она меня узнала. «Опять ты?» – спрашивает она. Разумеется, это я. Такое вот невезение – мою машину снова забрали к вам, говорю я. Меня угораздило поставить ее на такой улице, где еще не была сделана уборка, ну и попался. Опять. В четвертый раз. За три года. Подряд. Как ни обидно и как ни грустно, но такова правда. Она снова просит меня напомнить номер машины, я его называю, и она под мою диктовку набирает его на клавиатуре, поглядывая при этом на меня и на спальный мешок, который я держу под мышкой. Извини, что я спрашиваю, говорит она наконец, я понимаю, что меня это не касается, но, похоже, ты ночевал сегодня в лесу. Ты ночевал в лесу? Вопрос был задан так прямо, что увильнуть невозможно. Надо отвечать. Я-то думал, что инициатива в разговоре будет в моих руках, я захвачу инициативу и потихоньку-полегоньку выведаю у нее, почему она просила ездить осторожно – относилось ли это лично ко мне, или она говорит это всем, кто приходит сюда за своим автомобилем, ведь, может быть, это тоже входит в ее служебные обязанности, ее, может быть, на курсах так научили – просить каждого, чтобы он ездил осторожно, потому что люди тогда сами захотят, чтобы их машины почаще забирали сюда, как, например, я: пускай, мол, забирают снова и снова, каждый год подряд; однако получилось, что она взяла инициативу в свои руки, и мое дело теперь отвечать; не умею я завладевать разговором и направлять его по-своему, думаю я, я только подхватываю то, что мне подбрасывают другие; вот и сейчас она ведет в разговоре, а я опять проигрываю с самого начала; хотя погоди-ка, говорю я себе, не спеши, тебя явно занесло не в ту сторону, это не женская логика, соображаю я, это логика мужская мужчины мыслят в категориях победы и поражения, а женщины мыслят гораздо реалистичнее и конкретнее, более по-детски, продолжаю я размышлять, что-то подобное я слышал или читал, не помню где, но такая информация отложилась у меня в голове вместе с другой информацией, на конкуренцию настроены мужчины, мужчины отгораживаются от эмоций, жизненные установки мужчин направлены на действия, а не на чувства, мужчине требуется побольше действовать и как можно меньше чикаться с чувствами, все экономическое устройство общества основано на этом принципе – побольше действовать, сделать то, сделать другое, а не на том, чтобы вчувствоваться в то, что при этом происходит; на этом мы зарабатываем сердечно-сосудистые заболевания и, сделав дело, пропадаем, зато женщины живут подольше, потому что они проживали еще и чувствами то, что они делали, и делали все не с таким предельным напряжением; сперва умирают мужчины, потом женщины, а дольше всех не умирают дети, средняя продолжительность жизни у детей выше, чем у женщин, про это я нигде не читал, но утверждаю, потому что сам знаю, что это так, – у детей продолжительность жизни самая большая. Свой вопрос она задала, подумал я, без всякого злого умысла, просто спросила и спросила; удивилась, заметив, что у меня такой вид, будто я ночевал в лесу, ну и спросила, из любопытства, кроме любопытства за этим ничего не стоит, не собирается лее она меня подцепить, на что я ей сдался? Так получилось, что я ночевал сегодня в лесу, говорю я. Все так сложилось, что пришлось заночевать в лесу, точнее, с южной стороны согнского компостного поля, я решил забрать свою машину сразу, как рассветет, не люблю ездить в потемках, сказал я и, значит, солгал, вот и опять я начинаю запутываться во лжи, ведь не поэтому же я на самом деле отправился со спальным мешком ночевать в лесу, я поступил так совсем по другой причине, если уж говорить начистоту, я ясно чувствую, как мои нейронные связи заработали на полную мощность, они стараются дать ход сигналам между корой больших полушарий и подкоркой, они пытаются регистрировать носящиеся в воздухе эмоции, и кое-что получается, однако в целом система растренирована, она настроена на брошюры, на одиночество, на Финляндию и одиночество, я – вода, я – лед, в голове у меня великое оледенение, и я больше всего боюсь и больше всего желаю, чтобы лед растаял и вода потекла, потому что человеческие отношения – это самое текучее, что есть на свете, это бурлящий и пенящийся поток, одиночество же никуда не течет, оно только есть, и оно надежно, потому что одинокий точно знает, что у пего есть и что будет, а отношения текучи, и вот я, отлично понимая все это, все же стою здесь и пытаюсь высказать этой женщине нечто противоречивое, растекающееся; я избрал одиночество и, казалось бы, неплохо устроился, и, однако, я здесь, я сам нарочно сделал так, чтобы мою машину оттащили на площадку, хотя не прошло и суток с тех пор, как я ее отсюда забрал, и что-то тут не сходится, хотя если разобраться, то что вообще сходится, а мне ведь это снилось, вот уже несколько недель подряд мне снилась вода, так неужели мне никогда не видать покоя? Долой вранье, думаю я. Твой коллега был вредный старикашка, от него разило табаком, и я не захотел у него обслуживаться, думаю я, а ты была нежная и приветливая, и от тебя хорошо пахло, и мне захотелось подойти к твоему окошечку; и вопреки здравому смыслу я сделал так, чтобы мою машину снова забрали, чтобы я снова мог прийти сюда, и в ожидании твоего прихода я пропел ночь и лесу – так мне хотелось знать, так хочется знать, что ты имела в виду, когда попросила меня ездить осторожно, – это я тоже думаю, – ты, может быть, и не помнишь о том, что сказала, говорю я, но ведь ты так сама мне сказала, вчера, когда я забирал свою машину, ты сказала, чтобы я ездил осторожнее. В каком смысле ты сказала, чтобы я ездил осторожнее, спрашиваю я наконец. Все остальное я только подумал, а последнюю фразу произнес вслух. Мне ужасно хотелось бы сказать и все остальное, но я говорю вслух только последнее. Вслух я произношу только одно – в каком смысле она просила меня ездить поосторожней. Потому что в голове у меня работает особая инстанция, маленький такой контролирующий орган, который функционирует почти как орган государственной власти, – он отслеживает и фильтрует все, что происходит там наверху, все мысли и особенно те, которые предназначены для высказывания: думать я могу все, что угодно, но как только у меня появляется желание высказать свою мысль, она тотчас же отслеживается и пропускается через контролирующий орган, если он дает добро, я высказываю эту мысль, если не дает, не высказываю, и она остается у меня в голове, как бы ни была умна, потому что дело не в том, умна ли она, а в том, какие вещи можно говорить и какие нельзя, а это огромная разница, я даже спрашиваю себя, есть ли мне польза от этого органа, думает ли он о моем благе или заботится только о видимости, помогая мне сохранять лицо, не направлена ли вся его работа только на то, чтобы не позволить мне потерять лицо, и что это за штука, вообще-то, потеря лица? Без сомнения, это дело серьезное; говорят, что японцы, как правило, потеряв лицо, закалывают себя ножом. А финны? Что делают в таком случае финны? Надо будет выяснить, делаю я мысленную заметку, завязываю, так сказать, узелок на память, чтобы проверить потом, как поступают финны в случае потери лица; предполагаю, что они тоже закалываются ножом или убивают себя из пистолета, уж так повелось у них на Востоке чуть затронута репутация или нанесено малейшее оскорбление, как они сразу стреляются или разбиваются на самолете. Я ничего не смыслю в Востоке, для меня лучше Запад, Запад я понимаю, но что касается Востока – тут я барахтаюсь, как щенок, брошенный в воду, Восток – это нечто запредельное, там все размыто, и пропади пропадом контролирующий орган, из-за которого я не говорю ей то хорошее, что я думаю, а только задал не очень-то удобный вопрос насчет того, в каком смысле она пожелала мне ездить поосторожней, я и сам сразу понял, что сказал что-то не то, получилось как-то грубо и резко, а вот если бы я произнес первое, теплое, что я подумал, это была бы совсем другая ситуация, но в жизни все складывается так, как оно есть, а не по-другому, потому что если бы было по-другому, то не было бы так, как оно есть, а все может быть только такое, как есть, и не может быть никаким иным. Можно что-то менять, но от этого все равно ничего не изменится, а останется так, как есть. Надо было, невзирая ни на что, высказать ей все, что я думал, надо было проскочить мимо контролирующего органа, нужно будет научиться передавать импульсы, минуя его, нужно научиться обходить его по кривой, как Пер, чертов Пер Гюнт, образ которого воплощает в себе общие черты всех норвежцев – наше непостоянство, нашу ложь; ведь, кажется, так обстоит дело, я помню, мы проходили это в школе, Пер Гюнт чистит луковицу, чтобы найти сердцевину, ну и, конечно, не находит, ведь в луковице не бывает сердцевины, и весь зал вздрагивает, потому что мы узнаем себя и это нас потрясает, мы вспоминаем: «У луковицы же нет сердцевины!» И образ завораживает; вернее, его применение, потому что мы сразу переносим это на самих себя, мы видим, как Пер чистит луковицу в поисках сердцевины, а сердцевины-то и нет, и тогда мы начинаем думать, что, наверное, и сам Пер тоже пустой внутри, такой вот изящный ход, а в следующий момент мы неизбежно начинаем думать, что, может быть, мы и сами такие же – тоже пустые внутри, вон какую штуку умудрился проделать Ибсен в промежутках между своими распутствами, думаем мы; ну а если представить себе, что он выбрал бы вместо луковицы яблоко, – что случилось бы, если бы вместо луковицы у него было там яблоко, у яблока есть сердцевина, тогда Пер просто очистил бы яблоко и съел вместо всей этой возни с луковицей, и все, наверное, выглядело бы иначе, хотя иначе, чем оно есть, быть не может, а тут, глядишь, и вышло бы по-другому, и к черту всю эту ерунду, будто бы все может быть только так, как есть, и ничего другого быть не может; и тут я замечаю, что отвлекся и забрел не в ту сторону, заблудился в своих мыслях и забыл, что нахожусь в данный момент в домике среди прерий, на коммунальной автомобильной площадке, что стою лицом к лицу с другим человеком, с этой женщиной, которая вчера попросила меня ездить поосторожнее, и что мне надо было узнать, почему она так сказала.
– Ты это всем говоришь? – спрашиваю я. – Ты всех просишь ездить поосторожней?
Она отрицательно мотает головой:
– Очень мало кого. Почти что никого.
Очень редко когда прошу.
– Но меня ты же попросила ездить поосторожней?
– Да.
Попросила меня и помнит об этом. Драматическое признание. Это звучит драматически. Она попросила меня ездить поосторожней, и признает это, и помнит. Она попросила ездить осторожно, и я ехал осторожнее, чем всегда. Ей не все равно, и мне не все равно, что ей не все равно, и вследствие этого между нами возникли определенные отношения, и вода хлынула каскадом, как только я признался себе, что между нами возникли отношения, какие-никакие, но ведь отношения, и все пространство заполнилось вдруг водой, меня охватывает паника, меня надо спасать, и она меня спасет, потому что она умеет плавать и у нее есть такой продолговатый оранжевый спасательный круг, которым пользуется береговая охрана в Калифорнии, чтобы спасать людей, а я уже потерял сознание, и последнее, что я запомнил, – это как меня подхватили ее сильные руки, а я такой беспомощный и весь мокрый, как мышь, как бывает «Афтенпостен» у меры по утрам, я – слабый, мокрый и обессилевший от испуга, а она такая уверенная, и сухая, и здравомыслящая, и она меня спасает. По-настоящему все должно было бы случиться наоборот, это я должен был быть сухим и здравомыслящим, брошюроподобным, а она – мокрой, бестолковой и перепуганной, но все есть как есть и не может быть иначе, поскольку что есть, то есть, а раз есть, то не может одновременно не быть в линейном мире, который в графическом выражении строится слева направо? Об этом и думать нечего, поскольку это невозможно. Сейчас мы сосредоточимся на том, что возможно, а то, что невозможно, рассмотрим лучше в другой раз. Если отвлечься от лишнего, то сухие факты говорят, что между нами образовались своего рода отношения, что вода подымается и я охвачен паникой, потому что с водой у меня напряженные отношения, и отношения – это вода, вода их размывает, с течем тем времени, и время – тоже вода, а вовсе не деньги, как многие думают, с деньгами время не имеет ничего общего, зато с водой имеет, а у меня нет времени затевать какие-то отношения, потому что мне надо писать о Финляндии, об этой прекрасной стране, о которой я ничегошеньки не знаю, но которая, по моему предположению, повсеместно охвачена мобильной телефонной связью, и я ведь одинокий человек, я сам выбрал одиночество, но если ей не все равно и мне не все равно, что ей не все равно, значит, между нами есть отношения – хотя для них нет ни времени, ни повода, они есть, и она спасает меня от водной пучины, сильной своей рукой – временно, как нужно отмстить, – потому что никого нельзя спасти раз и навсегда, можно только купить отсрочку, под конец вода все равно останется победителем, но на этот раз она спасает меня, кто бы она ни была.
Я лежу в доме на диване, в задней комнатке домика на краю автомобильной площадки; должно быть, я немного поспал; может быть, свалился на пол, – не помню, как и что случилось, но, как бы там ни было, это говорит в мою пользу, думаю я; со мной редко случается что-то такое, что говорило бы в мою пользу, так что непонятно, с какой стати я тут лежу на чужом диване, в чужой комнате, не в состоянии вспомнить, что такое со мной случилось, говорящее в мою пользу. Очевидно, я потерял лицо, думаю я; если так, то хорошо, что я не японец или не финн, иначе я бы, наверное, пустил себе пулю в лоб, как только проснулся; даже представить невозможно, что вот я потерял лицо, не глядя вытащил пистолет и прострелил себе голову; но я-то норвежец; мы, норвежцы, тоже не любим терять лицо, но все же не принимаем это так близко к сердцу, как восточные народы, нам это не нравится, но мы от этого не стреляемся, мы только замыкаемся в себе и отправляемся в одиночестве бродить по лесу, иногда мы так бродим несколько дней, и все-таки это лучше, чем застрелиться, думаю я. Сейчас надо встать и уйти в лес, надо переходить случившееся, избыть в ходьбе унижение, мне надо переходить потерю лица; я пытаюсь встать и тут замечаю, что кто-то укрыл шерстяным одеялом, кто-то обо мне позаботился и незаметно укрыл одеялом; я вылезаю из-под одеяла и откладываю его в сторону, начинаю вставать, но на меня нахлынула такая усталость, а тут входит она, та самая, кто бы она ни была, и спрашивает, проснулся ли я. Да, проснулся; я тут, должно быть, немного вздремнул, говорю я. Да, ты поспал, говорит она. Это, наверное, оттого, что я провел ночь в лесу. Конечно оттого, говорит она. Но я подумал, что мне пора идти, говорю я; но она, кажется, не согласна, что мне пора; она говорит, чтобы я еще немножко полежал, и я тоже подумал, почему бы, правда, не полежать; раз она говорит, чтобы я еще полежал, наверное, она права; и она снова уходит, потому что там кто-то пришел забирать свою машину и ей надо набрать номер его машины и выдать ему жетон, а я пока уж лучше полежу. В лесу-то я и раньше бывал, лес я достаточно повидал, так что лучше я полежу и повспоминаю, как я раньше ходил в лес; иногда я подолгу бродил в лесу, ходил в дальние походы, но лучше так, чем стреляться, подумалось мне снова, и гораздо лучше, чем втыкать себе в живот нож и потом его поворачивать; это поворачивание ножа вызвало у меня, как я заметил, особенно неприятное ощущение. Как будто мало было пырнуть себя ножом! Так нет же, этим японцам – вот ненормальные! – требуется еще, чтобы этим ножом как следует пошуровали туда и сюда.
Лежание на диване в конторе дорожно-транспортного управления означает перемену; для меня это перемена. Очень заметная перемена, можно сказать. Нормально для меня было бы сидеть сейчас дома и писать брошюру, писать про Финляндию; что-то я совсем забыл про Финляндию, а именно Финляндия должна бы сейчас занимать мои мысли. Прошло уже несколько часов с тех пор, как я в последний раз вспоминал про Финляндию, а мне следовало бы сидеть дома и тюкать по клавиатуре, а я вместо этого лежу на диване в конторе дорожно-транспортного управления и, кажется, уже опять засыпаю, я то сплю, то просыпаюсь, точно в бреду, и вместо того, чтобы думать о Финляндии, думаю об этой женщине, о той незнакомой женщине, которая меня уложила на диван и прикрыла шерстяным одеялом, потому что кто же еще, как не она, меня уложил, думаю я, вряд ли это сделал ее коллега, вредный курилка, который вчера хотел меня обслужить, откуда иначе одеяло и все такое, за этим стоит не кто иной, как она, а я даже не знаю ее имени; тут я немножко пофантазировал о ней, лежа на диване, это же неизбежно, не в смысле сексуальных фантазий, сексуальные тут совершенно ни при чем, секс ведь текуч, а я фантазирую о том, кто она такая; у нее темные волосы, и я называю ее Мерседес, потому что если уж суждено завязаться отношениям, то мне хотелось бы, чтобы ее звали Мерседес и чтобы ее предки происходили из дальних стран, пожалуй даже из Южной Америки, а ее назвали Мерседес, потому что ее отец любит машины, он и ее приучил любить машины, поэтому она и стала работать в дорожно-транспортном управлении, на коммунальной площадке для брошенных автомобилей, где можно видеть много разных машин, и набирать на клавиатуре автомобильные номера, и выдавать жетоны, и ведь это – отношения, а отношения текучи, но уж коли нельзя обойтись без текучки, то лучше, чтобы они завязывались с такой женщиной, которую зовут Мерседес и которая как можно сильнее отличалась бы от меня: у нее, например, должна быть большая семья, которая о ней заботится, куча отцов, и матерей, и племянников, и дядюшек, и тетушек, и я стану членом этой семьи, так что они не дочь потеряют, а приобретут еще одного сына, а потом будут потрясающие совместные трапезы и сплошной магический реализм с утра и до ночи.
Когда я снова проснулся, она сидела на стуле возле дивана. Ну вот ты и проснулся, говорит она, как раз вовремя; я кончила работу и могу уходить, так что тебе тоже пора идти, и вот тебе жетон. Она кладет жетон на стол, по сама не встает, давая мне время проснуться и сообразить, что к чему. Похоже, я проспал целый день, говорю я. Наверное, ты очень устал, говорит она. Это потому что все течет, говорю я. А сегодня утром чаша – та самая чаша, о которой мы всегда вспоминаем, – переполнилась, а я пытаюсь остановить поток, а это нельзя делать безнаказанно, поэтому я устал, говорю я. Понимаю, говорит она, но я не думаю, что она меня поняла, просто так принято говорить, это расхожая фраза, которой мы бросаемся походя каждый день, – мы говорим, что понимаем, тогда как в действительности ничего не поняли, а зачастую нам все настолько неинтересно, что мы и не хотим ничего понимать, а говорим, что понимаем, а на деле это ложь, не я один прибегаю ко лжи, все так поступают, например когда говорят, что понимают, хотя на самом деле ничего не понимаем, вот и она только что это сказала. Что ты понимаешь? – спрашиваю я. Я понимаю, что ты устаешь оттого, что текучка захлестывает, говорит она, я тоже устаю оттого, что захлестывает. А разве она захлестывает? – спрашиваю я. В этом-то весь вопрос, потому что если она не захлестывает, то очень легко сказать, что я, дескать, понимаю, как другие устают от текучки, но если она захлестывает, то захлестывает, и тогда человек сам от нее устает; так как же – есть она или нет? Конечно же есть, говорит она. Немножко течет или захлестывает? – спрашиваю я. Довольно-таки сильно захлестывает, говорит она. Чертовски сильно хлещет? – спрашиваю я. Сейчас как раз чертовски сильно, говорит она. Так и хлещет сейчас, чертовски хлещет, но я надеюсь, что когда-нибудь этому наступит конец. Никогда этому не будет конца, говорю я, потому что текучесть – основное состояние всех вещей, их первооснова, потому что для природы естественным является текучий баланс, но только не для нас, не для человека, говорю я; мы приучили себя говорить, что нас радуют перемены, для того чтобы не захлебнуться, мы сами себя пытаемся обмануть, говоря, что перемены нас радуют, тогда как на самом деле они нас совсем не радуют; изменения изменениям рознь, говорит на это она, кто бы она пи была, бывают хорошие изменения и бывают плохие, точно так же как разлив бывает хороший и бывает плохой, задача в том, чтобы попасть в хорошую струю, говорит она; надо только попасть в хорошую струю, повторяет она, зачем же бояться хорошего, правда? Я не понимаю, о чем она говорит, и меня опять одолевает усталость. Хороший разлив – – плохой разлив, какая-то там струя, о чем это? – думаю я, сидя на диване в конторе дорожно-транспортного ведомства. Поток есть поток, и он несет изменения, а в изменениях нет ничего хорошего, это всегда плохо, рассуждаю я с глупой категоричностыо, потому что она задела меня за живое. И почему это она, скажите на милость, вдруг решила, что потоп когда-нибудь прекратится?
Вот Бима захватил поток, говорит она. Захватил Бима? – спрашиваю я. Да, захватил Бима, говорит она. Я вовремя удержался, чтобы не сказать «понимаю», на самом деле я ведь не понял, я бы солгал, если бы сказал «понимаю». А кто такой Бим? – спрашиваю я. – Он лошадь? Если он лошадь, я готов усомниться в правильности этого высказывания. С лошадьми этого не бывает, уносит людей; вот если Бим не лошадь, тогда, конечно, другое дело, если только он не собака или другое какое-то животное. Бим не лошадь, говорит она. Если бы он был лошадью! Бим – это мой брат, так что можешь мне поверить, что его захватило и понесло в потоке. Так, значит, Бима понесло? – снова спрашиваю я. Бима уже давно уносит. Понимаю, говорю я. Это – ложь, но я чувствую, что как раз тут маленькая ложь вполне уместна и даже необходима, таковы условности общения, они требуют, чтобы я произнес именно это для поддержания разговора и поддержания возникших отношений; я должен был погладить по шерстке, вот я и сказал, что понимаю, хотя на самом деле из того, что она говорила, ничего невозможно было понять; я знаю только то, что Бим не лошадь, а ее брат и что его захватило и унесло потоком.
Я повез ее домой на машине. Ей давно уже пора было быть дома, но, пока я спал на диване и пока очухивался, она из-за меня пропустила свой автобус, так что самое меньшее, что я мог сделать, – это хотя бы отвезти ее домой. Ей надо скорее домой к Биму. Бим ждет. Вообще-то, мне некогда, я все время помню, что дома меня ждет Финляндия; Финляндия с нетерпением ждет, чтобы я наконец вернулся и снова занялся ею, принял бы ее в свои любящие объятия, думаю я, ведь время так и бежит, дни проносятся стремительным потоком, а информация о Финляндии все еще не появилась на свет; надо подхлестнуть себя, думаю я, ведь я терпеть не могу авралы, я люблю работать в хорошем ровном темпе, выдавая по нескольку страниц в день, равномерно и добросовестно, то есть работать методично, а авралы – это работа на и: и юс, при авральной работе ты тонешь в пучине, провались она ко всем чертям, авральная работа. Между тем мы уже приехали в один из городов-спутников рядом с Осло, и я остался сидеть в машине, дожидаясь, пока она сбегает наверх в квартиру проверить, дома ли Бим. На всякий случай она попросила меня подождать, предчувствуя, что Бим не стал ее дожидаться и отправился шататься по улицам и теперь он может быть где угодно. Я понял, что они живут вдвоем. Бим и она. Надо будет спросить у нее, как ее зовут; надо не забыть спросить об этом. Они остались без родителей, так она сказала, но «остались без родителей» можно понимать по-всякому: может быть, родители куда-то уехали, например на Канарские острова, или они психически больны, или спились, по в данном случае это означает, что они умерли, то есть оставили детей самым бесповоротным образом, думаю я, вероятно, и самым чистым, потому что если уж ты мертв, так, значит, мертв, тебя нигде нельзя встретить, с тобой никак нельзя связаться, ты недоступен в самом окончательном смысле, то есть тут вообще не о чем говорить, смерть окончательна в самом бесповоротном смысле, она – хозяин-барин, и она так соблазнительно легко протекает мимо нас, смерть – сама текучесть, и она пугает меня больше, чем что бы то ни было, больше, чем даже вода, потому что вода – это одновременно и жизнь и смерть, и я боюсь и того и другого, ведь они одинаково текучи, так что ее родители умерли, а смерть – хозяин-барин, и в каком-то смысле ты тоже станешь хозяин-барин, когда умрешь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































