Текст книги "Аракчеевский подкидыш"
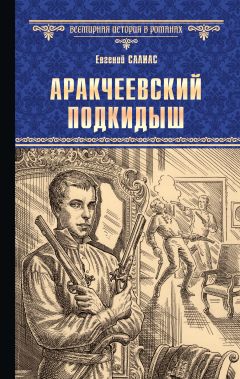
Автор книги: Евгений Салиас-де-Турнемир
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
XXXVII
В квартире Шумского, в столовой у окна сидели на двух стульях Марфуша и Шваньский. Уже около двух часов сидели они тут молча друг против дружки. Шваньский отложил на время свой визит в полицию.
Иван Андреевич, понурившись и опустив глаза в пол, шибко сопел, изредка взглядывал на девушку и каждый раз, будто съежившись еще более, задумывался вновь.
Марфуша сидела недвижно, истуканом, с лицом не бледным, а помертвелым, безжизненным. Она, в противоположность Шваньскому, закинула голову назад и почти все время, не отрываясь, глядела в окошко на крышу соседнего дома, где торчала труба. Она так разглядывала ее, как если бы предполагала увидать тут что-нибудь чрезвычайное, чего она ждет неминуемо, отчего замирает и будто беспомощно отбивается ее сердце.
За эти два часа молчаливого сидения у окошка, которые показались и Шваньскому и его невесте длиннее целого дня, оба равно много передумали, перечувствовали и выстрадали.
Все помыслы, вся душа девушки была там, где-то в неведомой ей квартире, где происходит смертоубийство, где жизнь одного человека висит на волоске. Быть может, даже он уже мертвец… Этот человек был еще недавно для нее только «барин», злой и бессердечный, которого она отчасти боялась, отчасти начинала ненавидеть. А теперь он был для нее… чем – она сама не знала.
Она не могла сознаться сама себе, что любит его, что полюбила так же, как если бы он был ей ровней, полюбила неизвестно за что, неизвестно когда. Она даже не знала, любовь ли то чувство, которое кипит в ней. Она думала, что это простое сердечное уважение к барину за его ласку. Но почему же ей хочется этого уважаемого барина обхватить сейчас руками и зацеловать? Даже более… Она готова его прикрыть собою от смерти? Пускай ее убьют, лишь бы он был невредим.
Когда-то, еще недавно, девушке представлялось, что ее чувство к доброму Ивану Андреевичу, который уже давно покровительствует ей, доставая швейную работу, ничто иное, как любовь. А чувство, возникшее к барину-офицеру, казалось ей лишь каким-то непонятным душевным смущением. Теперь же приходится сознаться, что к этому доброму Ивану Андреевичу у нее, неблагодарной, ничего не было и нет. Всю же свою душу она отдала другому. Всю душу неведомо когда и как взял себе, будто вынул из нее и присвоил этот барин-шутник, насмешник и злой.
Да, злой! Его все боятся… Он одного лакея убил. Хоть и нечаянно, а все-таки убил. И все-таки она хоть сейчас отдаст за него жизнь. А он теперь пошел на смерть, в него будут стрелять… Уж стреляли, может быть, уж убили.
Что ж тогда будет? Ей тогда что делать? Выходить замуж за Ивана Андреевича, который получит в подарок все, что тут есть в квартире. А ей брать из того письменного стола деньги, которые он приказал взять… Затем венчание в церкви, семейная жизнь и всякое счастие и благополучие. Да! Горько… Тяжко…
И несколько раз ворочаясь мысленно к этому выводу: смерти Шумского и замужеству, Марфуша каждый раз тихо поднимала руки, брала себя за щеки или за виски, и глубокий вздох ее едва не переходил в стон. И каждый раз Иван Андреевич, встрепенувшись, выпрямлялся на стуле и произносил беспокойно:
– Что ты?
Но Марфуша не слыхала вопроса, не отвечала ни слова и, даже не взглянув на него, снова опустила руки на колени, снова смотрела в мутное небо.
Наконец, раздался гул подъезжающего экипажа. К крыльцу квартиры подкатила коляска и из нее вышел Шумский,
Оба вскочили, как от толчка.
Иван Андреевич бросился на подъезд, а Марфуша вытянулась и стояла истуканом мертво бледная и с полузакрытыми глазами. Она старалась всячески видеть, слышать, понимать, но чувствовала, что все темнеет кругом нее, что она будто уходит куда-то или улетает далеко и высоко.
Через несколько мгновений Шумский вошел в переднюю.
Иван Андреевич не то радостно, не то жалостливо заглядывал ему в лицо, стараясь поскорей отгадать, было ли что или еще ничего не было, и снова все начнется.
– Что же-с?.. Что же-с?.. – два раза решился он тихонько вымолвить, но Шумский несколько бледный, со сверкающими глазами не только не слыхал вопроса, но даже не замечал Шваньского.
Он сбросил плащ, швырнул на стол кивер, отстегнул и тоже швырнул с громом оружие и шагнул из передней в столовую. Но тут он остановился и будто теперь только вдруг очнулся и понял, что находится в своей квартире.
Перед ним на полу шагах в двух от окошка лежала распростертая на спине Марфуша.
– Что такое? – произнес он, недоумевая.
В ту же минуту за ним раздался отчаянный вопль, как бы такой визгливый вой, и Иван Андреевич бросился к девушке.
– Что такое?.. Что же ты молчишь, что тут у вас случилось? – спросил Шумский.
– Не знаю-с… Не знаю-с… Марфушинька… Голубушка… Да, что ж это?.. Господи!
Шваньский стал было поднимать помертвелую девушку, брал ее за плечи, тянул за руки, за спину, но при своей тщедушности и слабосилии не мог ничего сделать.
Шумский нагнулся, отстранил его и крикнул:
– Воды давай!
Шваньский бросился в переднюю, зовя людей и побежал по коридору, а Шумский, обхватив Марфушу поперек тела, поднял ее с полу и понес через горницу. Шагая с ней на руках, он поглядел на ее бледное безжизненное лицо, и странное выражение скользнуло в его взгляде.
Он положил девушку на то же место, где когда-то лежала она, опоенная дурманом и наклонился близко над ней.
Марфуша вдруг пришла в себя, широко открыла глаза и в одно мгновение, будто невольно и безотчетно, обхватила руками голову, склоненную над ней.
– Живы!.. Живы!.. – прошептала она.
– Ну верю, что любишь. Ладно… Знать будем. А там что – видно будет. А что будет видно, Бог весть!.. – грустно проговорил Шумский.
В ту же минуту раздались в соседней горнице поспешные шаги. Шумский, освободив голову одним движением из-под рук Марфуши, обернулся к вбежавшему Шваньскому и проговорил сухо:
– Ну, отпаивай невесту! С чего это она? Что у вас приключилось?
– От радости знать, Михаил Андреевич. От радости, – завопил Шваньский.
Марфуша приподнялась и стала пить воду.
Лицо ее быстро оживало, глаза уже засияли и даже восторженно блестели, румянец радости и смущения заиграл на щеках. Она улыбалась и в то же время по радостному лицу текли слезы.
– Как мы увидели вас, то вдруг вскочили… Я бросился отпирать… А с ней, стало быть, приключился обморок… Выходит – с радости… А вот вы все говорите, что мы вас не любим…
– Стало быть, выходит, Марфуша, – усмехнулся Шумский, – что ты и за себя, и за Ивана Андреевича чувств лишилась? По крайности, он сам это за свой счет тоже принимает… Ну, что? Очухалась? Ишь, ведь ты какая!.. Ну, спасибо, что любишь!
Шумский приблизился, положил руку на голову Марфуши, погладил ее, как гладят детей, потом взял под подбородок, глянул в глаза и выговорил:
– Чудно! Не знаешь, где найдешь, где потеряешь…
И Шумский перейдя в соседнюю комнату, сел на подоконник спиной к окну. Все, что он до сих пор здесь говорил и делал, казалось сделанным и сказанным как бы через силу. Сам он был полон чем-то другим. Он был еще под властью того чувства или тех мыслей, с которыми ехал домой. И теперь он сел на ближайшее окно так, как если бы недавно, несколько минут тому назад, там, где он был, совершилось что-то роковое для его личной жизни.
Он просидел около четверти часа молча, упершись глазами в спинку дивана, который был перед ним, с тупым взглядом и бессмысленно раскрытым ртом. Наконец, он провел руками по лицу, по голове, вздохнул тяжело и привстал со словами:
– Фу, Господи! Какое бывает! И через мгновение он прибавил:
– Ага! И Господа поминать стал!
Шумский медленно, усталой походкой перешел в свою спальню, сбросил с себя сюртук и, взяв правой рукой левый рукав сорочки, стал разглядывать его.
На рукаве висел клок.
– Да, сорочку убили на мне! – выговорил он серьезным голосом.
В ту же минуту вошла в комнату Марфуша со скатертью, чтобы накрывать стол.
– Смотри, Марфуша! Видишь это? – произнес Шумский серьезно.
И Марфуша, которой, казалось, совершенно нельзя было бы догадаться, чем и как мог быть изорван этот рукав, сразу однако все поняла. Ей все сказало, все объяснило любящее сердце.
– Господи помилуй! Неужели это отстрелили? – произнесла она.
– Да, угадала! Это пулей. А возьми она вершка на три правей, то прямо бы вот сюда… А тут знаешь, что помещается? Тут самая квартира сердца человеческого. Хвати она сюда, то теперь приволокли бы меня домой другие. А вы бы теперь с Иваном Андреевичем бегали да всякое такое для покойника готовили бы.
Девушка, ни слова не ответив, начала креститься, а затем прошептала:
– Вот что значит Господь-то! Господь милостив…
– Вздор все это, Марфуша! – резко выговорил Шумский. – Неправда! Кабы милостив был Господь, так иным людям и жить бы на свете нельзя было. Совсем бы не то творилось. Улан был ни в чем не повинен. Я был во всем виноват. Вся канитель из-за меня пошла, из-за моих мерзостей. И кто же теперь поплатился за все? Он же, я не я! Останься он жив, он только добро бы одно делал, а остался жить я для того, чтобы много еще зла натворить. И с завтрашнего же дня я начну свои гадости. Нет, Марфуша, жизнь человеческая такая мерзкая и свинская комедия, какую твоей головушке никогда и не понять. Да и мне не понять!
Иван Андреевич, услыша голос Шумского и поняв, что патрон в духе, тотчас же явился в горницу.
– Михаил Андреевич, не томите! Скажите, как дело было.
– А что ж, тебе любопытно?
– Как же можно-с. Эдакое дело, до вас касающееся, да не знать…
– Да ведь ты видишь – жив, так чего ж тебе еще знать. А вот тебя я подкузмил. Теперь тебя за карету расписную непомилуют. Аракчеев и тебя, и меня сожрет.
– Бог милостив. Как-нибудь отвертимся. Вы надумаете, изловчитесь и все сойдет с рук. Главное, живу быть. А вот вы, слава Богу-с! Вот нам и не терпится узнать, как дело было…
– Было дело просто… ужасно просто…
И Шумский, взяв себя рукой за голову, произнес глухо:
– Да, ужасно просто! Именно ужасно! Не видал я, что ли, никогда смерти так близко или иное что… Может быть, совесть… Грех. Настоящий! Не выдуманный людьми, а истинный. Смертоубийство! Век буду помнить этот крик… эти ноги… Да, Иван Андреевич! Не дай Бог тебе убивать кого.
– Тьфу! Тьфу! Избави Господи! – пугливо перекрестился Иван Андреевич. И Шваньского как-то даже метнуло в сторону.
– А он что же? – вымолвила вдруг Марфуша. – Улан этот?! Вы его… Разве он помер?..
Шумский молча кивнул головой, потом хотел произнести что-то, но запнулся и махнул рукой.
XXXVIII
Через четверть часа Марфуша уже подала самовар и, осматривая стол, соображала, не забыла ли чего. Затем она вымолвила, взглянув на Шумского ясным взором:
– Прикажите заварить?
Шумский, задумавшийся в углу спальни, поднял глаза, молча пригляделся к девушке и, вероятно, на лице ее было что-нибудь ярко и ясно написано, потому что он улыбнулся кроткой и доброй улыбкой.
– Поди сюда! – вымолвил он тихо.
Марфуша подошла. Он взял ее за руки около локтей, притянул к себе и стал смотреть в ее лицо, сиявшее восторженным счастием.
– Марфуша. Что ж? В самом деле оно так?.. Что ж ты, и в самом деле любишь господина Шумского? Говори!
– Не понимаю, – пробормотала девушка.
– Не лги! Понимаешь… Нешто лакеи или горничные падают в обморок от радости, что барин после поединка остался жив. Этого, Марфуша, никогда не бывало с начала века. Стало быть, ты сердчишко-то свое обманным образом у жениха стащила да мне отдала? Стыдно! Ей-Богу, стыдно!
– Не я – сами взяли, – прошептала Марфуша едва слышно и потупляясь.
– Я не брал! – шутя вымолвил Шумский и потянул ее ближе к себе.
– Взяли… Что ж? На то воля Божья! На все воля Божья! Чему быть – тому не миновать!
– Скажи: ты думала, что я убит буду?
– Нет, не думала. Вы все сказывали, а я вам верила. А самой мне все думалось совсем не то… Мне все представлялось, что моя судьба впереди меня, вот как на ладони. Все представлялось, что я с вами буду…
Но Марфуша запнулась и, вспыхнув, отвернула от него лицо.
– Ну, сказывай, что?
– Нет, не скажу, – мотнула девушка головой и прибавила, – пустите… Вон Иван Андреевич идет. Пустите!
– Ах, как страшно! – рассмеялся Шумский, но выпустил ее из рук и, двинувшись, сел к чайному столу.
– Михаил Андреевич, – заговорил Шваньский, входя и подозрительно озираясь. – Мне надо в полицию идти.
– Ну и иди… Что ж спрашиваешься. У тебя своя воля. Хочешь в полицию – ступай. Хочешь в Неву – тоже ступай.
– А можно не ходить-с?
– Можно… Подожди день, два… Тогда на веревочке сведут.
– Как тоись…
– Как! Нешто никогда не видел на улицах, как полиция с вами в лошадки играет. Идет будочник или хожалый с книгой и держит веревочку, а на ней привязанный за руку повыше локотка парадирует парень или господин благородный… вроде тебя.
– Вы все шутите, Михаил Андреевич, – сердясь произнес Шваньский. – Вы мне обещались, что ничего не будет за езду в полосатой карете. Обещались заступиться, а теперь…
– Не ври. Никогда не обещался! – отрезал Шумский.
– Помилуйте!.. Я на Марфушу вот сошлюсь…
– Не ври. Я только обещался тебе умереть, то есть быть убитым. Это верно. Ну, и прости – надул, жив остался… Теперь тебе другого спасения нет, как самому распорядиться. Пойми, коли я буду мертв, тебя тогда за карету Аракчеев не тронет. Вот и распорядись.
Шваньский, внимательно слушавший, развел руками и вымолвил.
– И даже, можно сказать… Ни бельмеса не понимаю, Михаил Андреевич.
– Прирежь меня бритвой сонного в постели и свали на самоубийство. Все поверят… Ей-Богу… А я сплю не запершись…
Шваньский с отчаянной досадой, даже со злобой махнул рукой и пошел к дверям. Но, уже взявшись за ручку двери, он обернулся.
– Позвольте хоть мне, по крайней мере, сказывать в полиции, что я сам захочу.
– Позволяю.
– Позвольте врать… Я виделся с хозяином двора… Он там говорил: знать не знаю, ведать не ведаю… Стало быть, дело еще не испорчено. Я надумал спасенье и себе и вам. Только позвольте врать.
– Ври, коли сумеешь.
– Страсть, как совру… Только, чур, не сердиться потом.
– Где тебе. Не хвастай… Кикимора!..
– Позволяете?.. – решительно спросил Шваньский.
– Говори, что хочешь. Отвяжись. Хоть сказывай и под присягу иди, что ты – девица. На седьмом месяце беременности…
Шваньский вышел, ухмыляясь загадочно. Он сразу стал весел, получив разрешение врать.
Шумский по уходе Лепорелло, болтовня с которым его развеселила, спросил Марфушу, дома ли Пашута, которую он в этот день еще не видал.
– Да-с. Сейчас вернулась, – ответила девушка. – С раннего утра была в отсутствии, кажется, у баронессы.
– Зови. Зови скорее.
Через несколько мгновений вошла Пашута, уже одетая иначе, в красивое платье, и принявшая вид прежней девушки-барышни. Лицо ее было оживленное, радостное.
– Ну, Пашута. Рада, что я цел…
– Мы там с ума сошли. Прыгали от радости. Я сейчас оттуда, – произнесла Пашута взволнованно.
– Как же вы узнали так скоро?
– Закупили мы лакея Бессоновского. Брат караулил у них на дворе, и как ему лакей передал, что фон Энзе убит, а вы живы, он и полетел, к нам во весь дух на извозчике. Чуть барыню какую-то дорогой не раздавил.
– Ну, ну… Что ж баронесса?!.
– Говорю… Чуть не прыгала… И плакала, и бегала по горнице. Прыгать не в ее нраве, так она все суетилась, вздыхала и плакала. Совсем без ума, без памяти была…
– Жалеет фон Энзе…
– Да… Говорит, на ее совести грех, который будет замаливать всю жизнь. Но говорила, что если бы вы были убиты, то она в монастырь пошла бы… Или бы умерла с горя.
– Так любит она меня? Любит?! – выговорил Шумский, порывисто вставая из-за стола.
– Вестимо…
– Ну, так слушай, Пашута… Теперь все в твоих руках. И мое, и твое собственное счастье. Теперь некому мешать. Хочешь ли ты мне услужить…
– Понятно, готова всячески… но только…
Пашута запнулась… Она посмотрела в лицо Шумского и вдруг смутилась, даже оробела. «Неужели сызнова начнет он свои злодейства, примется за старые ухищрения?..» – подумалось ей.
Шумский хотел заговорить, но в доме раздался звонок.
– Ну, хорошо, ступай теперь… Ввечеру переговорим… – весело, но загадочно улыбнулся Шумский.
«Неужели опять за злодейство примется?» – думала смущенная Пашута.
XXXIX
Квашнин и Ханенко с шумом и громким говором вошли к Шумскому. Капитан, переваливаясь, как утка, почти рысью явился в спальню. За ним, бодрой походкой и улыбаясь, появился Квашнин. Обе фигуры приятелей довольные, почти веселые, неприятно подействовали на Шумского.
– Негоже! Свинство! – произнес он странным голосом. – Зачем радоваться? Вот я себя считаю злым человеком, а не могу вспомнить. Не могу! А вы вот будто не с убийства, а с пиршества какого веселого приехали.
– Скажи на милость! Вот так блин! – произнес капитан, изумляясь. И расставив ноги на полу, растопырив руки, он уперся глазами в Шумского.
– Сами же застрелили, – выговорил он, – да сами же в неудовольствии. Чего же вы желали? Обоим целыми остаться? Так ведь знаете, что это невозможно. Сами сказывали, что коли оба будете невредимы, то эту комедию сызнова начинать придется. Ведь мы с Петром Сергеевичем так было вопрос этот по-соломоновски разрешили: чтобы вам обоим быть целыми и невредимыми, необходимо самой баронессе отправиться на тот свет.
– Тьфу! Типун вам на язык! Вот глупость выдумали!
– Радоваться, мы не радуемся, – заговорил Квашнин, садясь к столу, – а печалиться тоже не приходится. Ты жив и невредим, ну и слава Богу. А коли он, бедный, убит, так что ж делать? Такова его судьба, стало быть, которой не минуешь.
– Ну, вот! Судьба?! Вторая Марфуша только в Преображенском мундире, – выговорил Шумский. – Она сейчас тоже сказывала. Нет, други мои, это не судьба, а лотерея. Это ужасное дело! Ужасное! Желаю вам от всей души никогда никого не убивать! – с чувством прибавил он.
– Я и не собираюсь! – отозвался Ханенко. – Не пробовавши, знаю, что приятного мало. И так-то всякая гадость на душе есть, да еще убийство бери! Уж больно накладно будет, грузновато! А при моей толщине совсем из сил выбьешься с эдакой ношей.
– Да, ужасно! – снова заговорил Шумский как бы себе самому. – Не знал я этого! А теперь драться ни с кем, ни за что, никогда! Уж не знаю что хуже: убить ли, быть ли убитым?
– Вона! – воскликнул Квашнин. – Не знай я тебя близко, ей-Богу бы подумал, что ты ломаешься, а зная тебя, только дивиться можно!
– Нет, Петя, право не знаю. Так нехорошо, как вспомню его стон по всему дому, да вот еще ноги… Ужасно!.. Из ума они не выходят!
– А что ноги?.. Почему ноги?.. При чем они тут? – воскликнул Ханенко, ухмыляясь.
Но Шумский, взглянув на капитана, быстро отвернулся, махнул рукой и выговорил:
– Нет, бросимте! Я вижу – вы одно, а я другое. Или, быть может, это потому, что убил-то я, а не вы. Да и, наверное, так… А вот поглядел бы я, если бы это из вас кто… Ну да бросим!
Наступило молчание. Все трое пили чай.
Капитан вдруг надумал что-то, ухмыльнулся, хотел было заговорить, но, поглядев на Шумского, перевел глаза на Квашнина и снова уперся глазами на корзинку с хлебом, стоявшую перед ним.
– Ну теперь, Михаил Андреевич, – заговорил Квашнин, – надо подумать кое о чем важном. Первое дело нас, по всей вероятности, нынче ввечеру или завтра попросят на казенную квартиру всех троих. Да это не беда, а совсем другое беда. Знаешь ли ты, что именно?
– Нет, – задумчиво отозвался Шумский.
– Беда-т, братец мой, что весь Питер толкует о расписной карете. А знаешь ли ты, что теперь значит эта карета? И какие из-за нее будут последствия?
– Знаю. Дуболом мой обозлится и ни меня, ни вас за кукушку под свою защиту не возьмет.
– Ну, да, вернее смерти, – вымолвил Ханенко. – Уж именно теперь можно сказать – вернее смерти. Она-то по отношению к вам спасовала, а граф Алексей Андреевич не спасует. Так вас шаркнет, что просто мое всенижайшее. И нужно вам было такой живописью заниматься.
– Да ведь он наверняка рассчитывал, что будет убит! – рассмеялся Квашнин.
Смех его был настолько добродушен и звонок, что подействовал и на Шумского. Этот улыбнулся веселее и выговорил, шутя:
– Да, правда. Ошибся в расчете. Сплоховал, оставшись в живых. И Шваньского надул мошеннически и себя подкузмил лихо. Теперь в качестве живого и возжайся с моим поддельным родителем. Надо, други мои, надумать, как его надуть. Разве к Настасье съездить в Гру́зино, посоветоваться. Она мастер надувать его.
Приятели стали серьезно обсуждать вопрос, как выбраться из беды, и, разумеется, ни к какому решению не пришли.
Уже темнело на дворе, когда в квартире раздался громкий звонок.
– Должно быть, плац-адъютант за нами, а то просто полиция, – сказал Ханенко.
– На новую квартиру перевозить? – пошутил Шумский.
Оказалось, однако, что приехал Шваньский, обыкновенно возвращавшийся домой через двор с заднего крыльца. Войдя в спальню, где сидели офицеры, Иван Андреевич важно раскланялся и самодовольно обвел всех глазами.
– Это с каких пор твоя особа выдумала трезвон поднимать в моем доме? – добродушно спросил Шумский.
– С тех пор-с, что стал важные дела вершить! – шутовски строго отозвался Шваньский. – Позвольте у вас спросить, вы что думаете насчет колерного полосатого экипажа, про который в Петербурге стон стоит?.. Полагаете вы, что никому неизвестно, на чей счет сия колесница прокатилась. Ведь она одного фасона с «обвахтами» и караулками.
– Америку открыл! – воскликнул Шумский.
– Да-с, открыл теперь. А открой я это раньше, ни в жисть не стал бы в этой Америке кататься по Невскому. Как вы мне ни обещайся умереть, не сел бы я в эту радужную карету с «ду» спереди, да с «раком» сзади.
– Ну, выбалтывай скорее, что у тебя там в пустой башке. Вижу, что завелась там дрянь какая-то…
– Нет-с, извините, не дрянь… Позвольте у вас спросить, что теперь будет вам от его сиятельства за то, что мы его в шуты рядим?!.
– Плохо будет, Иван Андреевич. Граф тебе эту карету не простит.
– Мне?.. А вам? – удивился несколько Шваньский.
– Мое дело сторона… Я тебе даже советывал так не баловаться, а ты все-таки поехал.
– Полно вам, Михаил Андреевич, шутки шутить… Не до шуток, ей-Богу-с. Полиция вся и та в чужом пиру похмелья себе ждет, перепужалась, трясется… За недосмотр боится в ответ идти. А кто карету выдумал, тому, говорят, прямо ссылка… Вот вы и послушайте, что я надумал. Меня сейчас во время допроса вдруг осенило свыше… Господь вразумил…
– Это в полиции-то осенило… Нашли вы место для эдакого! – пошутил Ханенко.
– Выслушайте, не перебивайте…
– Ну, говори, говори…
– При допросе нашего костромича любезного он ответствовал: знать не знаю, кто карету заказал. Был какой-то офицер и приказал для военного министерства, якобы, образец представить. Мы и представили. Больше ничего не знаю… Денег еще с министерства не получал.
– Министерский заказ!.. Казенный! – воскликнул Шумский и все рассмеялись.
– Когда, стало быть, я явился, мне тот же вопрос. Кто заказывал и почему я в полосатой карете катался?.. Я говорю, виноват, по глупости. За деньги ездил. Сто рублей получил. А что за карета и теперь не понимаю. Полагал казенная, коли государственных колеров… А слово «дурак» мне было невдомек. Я прочел наоборот «ракду». А кто, говорят, вас нанял? Я говорю: кто бесчинно все соорудил и нанял меня – тот в ответе быть не может. Покойник!
– Как покойник? Кто? Что? – в один голос воскликнули все трое.
– Кто? Вестимо кто. Господин фон Энзе.
Наступило молчание… Все трое были удивлены. Наконец, Шумский, насупившись, выговорил сурово:
– Ну, это ты врешь. Я не стану на мертвых валить свои пакости, а на бедного немца и подавно… С его памятью я шутить не могу.
Шваньский не ответил, усмехнулся кисло и развел руками, как бы говоря: как угодно. Тогда понимайте, что будет с вами.
Водворилась тишина. Шумский оглядел друзей и понял по их лицам, что они согласны со Шваньским.
– Да разве это возможно? Что вы, Бог с вами! – воскликнул он. – Это гадость, подлость…
– Нет, Михаил Андреевич… – ответил Ханенко. – Это не подлость, а шутка… Это для обмана графа… Покойному от этого ни тепло, ни холодно… А дело это – не бесчестный поступок. Только одно прибавлю… Не выгорит! Никто не поверит, что смирный и порядливый немец эдакую затею выдумал. Да и друзья его под присягу пойдут, что не он заказывал карету.
– Да. И я тоже скажу, Михаил Андреевич, – прибавил Квашнин. – Свалить на фон Энзе ради спасения себя нехорошо. Да что делать… А только никто в обман не дастся, и граф не поверит. Стало быть, нечего тебе и волноваться.
– Меж собой говорите, – вставил Шваньский, – всякое предполагаете и решаете, а ничего не знаете и меня не спрашиваете… А у меня уши вянут, слушаючи, так как я все знаю. Знаю, что всему конец и благополучный.
– Что? Благополучный? Конец?
– Да-с. И вместо благодарности, Михаил Андреевич, я только от вас…
– А ну-те к черту… – слегка рассердился Шумский. – Случись потоп, уцелей опять какой Ной да Шваньский с ним, то непременно мой Иван Андреевич скажет Ною: благодарите меня, я ведь не Шваньский, а самый Арарат. Ну за что тебя теперь благодарить, за глупое и ненужное вранье? Позовут Мартенса и меня, и мы оба скажем, что ты налгал на покойного.
– Никого не позовут-с. Дело кончено. После моего спроса ездил какой-то жандарм к графу и при мне вернулся и строжайше приказал дело затушить, замять скорее и никого не допрашивать про карету. Не сметь даже никому вспоминать об ней, не то что говорить. А мне объявить прощение за неумышленное по легкомыслию и глупости природной поступление… Ну-с?..
– Да разве граф опять здесь?!.
– Здесь. Либо не ездил, либо приехал… – сухо произнес Шваньский. – Что же, Михаил Андреевич… Ну-с? Я не Арарат?
Шумский встал, молча потрепал своего Лепорелло по плечу и выговорил:
– Спасибо. Чудно все это… Нежданно. Только совестно мне… Там мертвый лежит на столе, панихиды поют… А мы на него лжем и глупости выдумываем.
В эту минуту вошла Марфуша и выговорила смущенно:
– Офицер. Граф вас требует к себе немедленно… Известие встревожило всех.
– Се не па жоли![13]13
Это некрасиво! (фр.).
[Закрыть] – пропел Шумский и присвистнул.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































