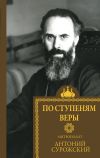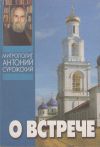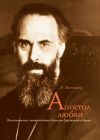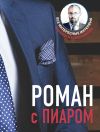Автор книги: Евгений Тугаринов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Таких нападений у меня не было больше, но иногда, к сожалению, когда бывает много народа, исчезает та или другая икона. Скажем, на Пасху пара икон исчезла, и в других случаях. Но я всегда молюсь о том, чтобы эти иконы направляли вора к добру. Это все, что можно сделать, нельзя же молиться о том, чтобы ему ни дна ни покрышки не было, – нет, ни за что! Никогда не знаешь, почему человек это сделал. С голоду? Или по какой-нибудь нужде? Или потому, что он профессиональный вор. Если он профессиональный вор, то Господь может его к покаянию привести. А преследовать – нет, ни за что!
– Англия для вас стала своей? Вы приняли ее?
– Я привык к ней. В сущности, я никакую страну не могу назвать своей. Я полтора года провел в Австрии. Это слишком мало – я был семилеткой. Потом во Франции двадцать семь лет прожил: учился в средней школе, в университете, был врачом, военным врачом и т. д., но французом я так и не стал, несмотря на то, что гражданство у меня французское. Культурно многое меня отделяет от Франции, хотя по-французски я говорю как француз и культура у меня как раз французская, в том смысле, что я свое образование получил во Франции.
Сюда я приехал – мне было тридцать пять лет – без языка. Я прижился, но укорениться в английской культуре не сумел до конца. Я не читал всего корпуса английской художественной литературы, не жил в чисто английской среде. Менталитет английский порой очень не похож на русский, и поэтому я думаю, что я остался русским. Но с другой стороны, мой опыт жизни в России почти нулевой. Я ездил раньше в Россию, но последние десятилетия сил не хватало из-за состояния здоровья. Я приезжал в свою семью, потому что еще были живы две дочери композитора Скрябина со своими семьями. Я разыскал их, когда уже стало безопасно встречаться, и у меня там была своя семья, и, конечно, русская православная среда, с некоторыми людьми – и священниками, и мирянами – завязались очень близкие отношения.
Вся Церковь – своя, чувствует по-русски, и я чувствую по-русски. Язык русский – мой язык. Я помню, первый раз я служил в России, ко мне подошел молодой священник и говорит: «Мы думали, что вы старик, а вы, оказывается совсем молодой», – мне тогда было сорок три года или сорок четыре, – «вы говорите по-русски, как мои дедушка и бабушка, несовременным языком». Было чувство, что я ископаемое в каком-то смысле, но я этого не стыдился, потому что я люблю русский язык, и люблю классический русский язык, и не хочу его менять ни на что.
Я себя чувствую русским, можно было бы так сказать – дореволюционным русским, ископаемым или даже русским, которых никогда не бывало, кроме как в литературе. Когда я бываю в России, я чувствую, что я дома. Первая встреча с Россией была изумительная.
Меня пригласили приехать в первый раз вскоре после того, как я стал епископом. Мы летели из Англии или из Франции, я сейчас не помню, и первое, что я увидел, было удивительным. Мы летели над тучами, и ничего не было видно, а потом образовался в облаках прорыв, и первое, что я увидел, – это лесок и православная русская церковь. Это была моя первая встреча с Родиной. Ну а потом люди, конечно.

По окончании торжественного богослужения в Успенском соборе по случаю приезда в Лондон Патриарха Алексия 1.1964 г.
Первая встреча с Патриархом[16]16
По окончании торжественного богослужения в Успенском соборе по случаю приезда в Лондон Патриарха Алексия I. 1964 г.
[Закрыть] была в своем роде любопытная. Мне было сорок три года, я себя чувствовал очень взрослым человеком, прожившим сложную жизнь. Я пошел к нему с поклоном, и он меня спросил: «А сколько вам лет?» Я говорю: «Сорок три, Ваше Святейшество», с таким чувством, что я поживший уже человек, а он посмотрел на меня и говорит: «На год моложе моей епископской хиротонии». Я сразу встал на место, и у нас завязались отношения в своем роде редкие, конечно, но глубокие, близкие.
У меня был ужасный анекдот встречи с Патриархом. Он меня пригласил к себе, был август, очень жарко. Я надел рясу торжественную с рукавами: фальшивые рукава, а под нее купальные трусики и пошел в белом клобуке к нему в гости. Мы с ним долго беседовали, и вдруг он говорит: «Знаете что, ваша ряска такая дрянная, что я не хочу вас больше в ней видеть. Я вам принесу свою».
Он пошел, принес мне свою, которая была бы для меня слишком мала. Я повесил ее на руку. «Нет-нет, – говорит, – снимайте сейчас свою ряску и надевайте мою». А на мне-то ничего нет. Я ему говорю: «Ваше Святейшество, да нет, я переоденусь у себя». – «Нет-нет, снимайте. Я ведь тоже мужчина. Я видал мужчин в штанах». Я говорю: «Ваше Святейшество, но без штанов, возможно, не видали?» Он говорит: «Что вы этим хотите сказать?» Я ему объяснил: «Жара, на мне только фальшивые рукава да купальные трусики».
Патриарх строго на меня взглянул и говорит: «А вы разве не знаете, владыка, что монаху не полагается выходить из своей кельи иначе как в рясе?» Я говорю: «Да, Ваше Святейшество, я в рясе вышел из кельи, но Устав ничего не говорит о том, что вы под рясу надеваете».
Но были у нас и глубокие встречи, где мы говорили о Церкви. Ко мне он относился с большой теплотой и лаской.
– С того момента прошла уже половина вашей жизни – сорок три года. Теперь ваша собственная епископская хиротония ровесница того времени.
– Да.
– Вылили светские люди, не церковные, которые повлияли на вас или знакомством с которыми вы гордитесь?
– В России или вообще?
– И в России, и вообще.
– В России в то время люди осторожно относились и к церковникам, и к людям из-за границы. Я встречал Дудинцева[17]17
Дудинцев Владимир Дмитриевич (1918–1998) – русский советский писатель.
[Закрыть] один раз, встречал сына Пастернака, с которым у меня сохранились отношения до сих пор. Встречал много православных верующих, которые приходили ко мне в гостиницу поговорить о том или о другом. Принимая во внимание то, что тогда все записывалось и ставилось на учет, это было довольно смело с их стороны.
– А из богословов?
– Я посещал Духовную академию, поэтому я со всеми был знаком, но не близко, не лично.
А за границей, конечно, я встречал многих. У меня была очень близкая дружба с Владимиром Николаевичем Лосским[18]18
Лосский Владимир Николаевич (1903–1958) – философ, богослов, деятель русского зарубежья.
[Закрыть]. Во-первых, мы принадлежали к одному приходу, во-вторых, мы жили на одной улице, и у нас все общее было. Бердяев [19]19
Бердяев Николай Александрович (1874–1948) – религиозный и политический философ. В 1922 г. выслан из России на «философском пароходе». С 1924 г. – в Париже, где принимал активное участие в интеллектуальной жизни русской эмиграции.
[Закрыть] ходил к нам в церковь.
Очень близким мне человеком, который сыграл большую роль в моей жизни и в моем понимании вещей, был отец Георгий Флоровский[20]20
Протоиерей Георгий Флоровский (1893–1979) – религиозный мыслитель, богослов, философ, историк. С 1920 г. в эмиграции. С 1926 г. преподавал в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже. В 1931 г. рукоположен в диакона, в 1932 г. – в священника. В 1948 г. переехал в США, где стал профессором, затем деканом Свято-Владимирской духовной семинарии.
[Закрыть]. Он принадлежал, конечно, к более старшему поколению, но почему-то меня полюбил и всегда у меня останавливался, когда бывал в Англии.
Он сыграл замечательную роль в моем рукоположении. Мы были на съезде, а для меня тогда стоял вопрос о рукоположении. Во время лекции он сидел немножко поодаль, я прислал ему записку с просьбой о встрече после лекции и получил от него короткий ответ: «После лекции я сразу уезжаю. Нет, не могу». Ну, на нет и спроса нет. И потом приходит от него вторая записка. Видно было, что он задумался: «О чем разговор?» Я ему написал: «Речь идет о моем рукоположении». И он тут же с лекции встал, меня взял и говорит: «Выходим вместе. Об этом надо говорить!» И он мне рассказал о том, чем оказалось священство в его жизни. Так что у нас глубокая в этом смысле связь была. Я еще в Париже читал его работы, слышал лекции, но тут мы связались очень и очень глубоко и поддерживали отношения до его смерти.
Ну и другие, конечно, были люди. Может быть, менее именитые, но они были верующими и светились своей верой и своим подвигом духовным, не так, чтобы их замечали и хвалили, а сокровенной величиной своей личности.
– Вы встречали отца Александра Меня?
– Да. Близкого знакомства у меня с ним не было, но он приходил однажды ко мне поговорить о своих планах, о своей мечте, о том, что он хочет создать и сделать, и очень поразил меня своей честностью, правдивостью, всей личностью своей, своими взглядами, своей готовностью служить Церкви и людям. После этого я его не встречал, но остался в контакте с ним через людей, которые были его прихожанами, или знакомыми, или друзьями, и я рад, что я с ним познакомился.
От общения с ним у меня осталось светлое, глубокое чувство. Это человек, сделавший ценой своей жизни и смерти дело, которое он, может быть, один и мог тогда сделать, за что его можно уважать. Я читал его книги, которые тоже имеют значение, но его личность больше меня поразила, чем его писания. Эта правда, которая в нем жила.
– Что вы подразумеваете под делом отца Александра Меня?
– Это создание прихода, в котором открытость очень большая. Очень часто в наших приходах есть какая-то ограниченность, о некоторых вещах не говорят, потому что богословски это уже разрешенные вопросы. И что меня поразило в нем – это то, что он оставался до конца православным, до самых глубин, но был готов продумывать Православие, говорить о нем на современном языке, и некоторые вопросы поднимать, которые поднимать необходимо.
Николай Михайлович Зернов в одной из своих ранних книг написал, что все проблемы начались со Вселенских соборов. В такой форме это, конечно, неприемлемо, но здесь важна мысль, причина, почему он это сказал. Он имел в виду, что соборы были созваны волей мирских властителей – императоров константинопольских, с тем чтобы были вынесены формулировки, которые объединили бы всех членов Церкви. И это было сделано, и формулировки найдены, безусловно, верные, но раз они нашли себе выражение, то спора дальше не было. Как отец Георгий Флоровский мне сказал, еретики были осуждены, их учение было отвергнуто, но ответы на поставленные ими вопросы не всегда были найдены. И вот я помню, хотя это было давно, но осталось у меня в памяти, он мне сказал, что в тот момент, когда ариане подымали вопрос о Христе, Церковь решила его, безусловно, правильно, но проблема, которую подняли ариане, которую они даже сформулировать не могли, – это соотношение Вечности и Времени, Пространства и Бесконечности, – эти вопросы были продуманы и в какой-то значительной мере разрешены только в XIX и XX столетии физиками и математиками. Но тогда ответа, умственного ответа не было. А у Ария был умственный вопрос. Он был не прав в том, как он его решил. Да, Церковь была права, но этот вопрос нам надо заново продумывать, чтобы он был до конца решен. И так, я думаю, можно говорить о целом ряде других ересей, неправильных пониманий и т. д.
– Значит, они давали неправильные ответы, но они ставили правильные вопросы?
– Видите, вопросы иногда встают до того, как вы можете их решить. Я помню, мне советовали: когда появляется у тебя вопрос, ты ищи все ответы, которые в тебе уже созрели, но не складывай их сразу в один окончательный ответ, а собирай их, как камушки для мозаики. По мере того как ты будешь духовно расти и твое богословское образование – увеличиваться, понимание расширится, и появятся другие элементы, которые постепенно составят если не окончательный, то приблизительный ответ. Сразу – не спеши. И то же самое иногда бывает в науке: человек занимается исследованием, он приходит к какому-то заключению. Это заключение он, скажем, называет теорией. Эта теория в тот момент кажется цельной, но ученый должен знать, что, как только у него оформилась теория, ему надо две вещи делать: ставить под вопрос ту логику, на основании которой он эту теорию построил, и искать такие данные, которые противоречат его ответу. Чтобы эта теория, которая представляет собой цельность, могла взорваться и расшириться и охватить еще большие и большие истины.
– Возможно ли объединение христианства, возвращение его к состоянию до разделения? И нужно ли такое объединение?
– Вопрос единения христианства стоит очень остро уже много лет. Было время, когда христиане разных вероисповеданий жили в разных областях, и поэтому у них не было такого чувства, что им непременно надо быть едиными. Но с тех пор, как связи между людьми уплотнились и сознание позора разделенности стало все больше и больше поражать людей, много было положено труда на то, чтобы найти возможность соединения, а для начала – общую почву. Помню, я еще не участвовал в этом процессе, но встречал людей, причастных к нему. Речь тогда шла о том, что мы все верим во Христа, а Он заповедал нам заботу о нуждающихся, о больных, о страждущих, заботу о том, чтобы утихала вражда и ненависть между людьми, и поэтому давайте заниматься вместе этой человеческой стороной жизни.


Юбилейные торжества в честь 50-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. Москва, 1968 г.
Много лет тому назад на одном съезде было вынесено решение между Церквами, которые тогда встретились, о том, чтобы делать вместе все, что по совести можно вместе делать. А врозь делать только то, что мы по совести вместе делать не можем. И это правило, мне кажется, очень мудрое, и в значительной мере остается в силе, потому что даже там, где мы не можем воссоединиться в области веры, на богословском уровне, остается возможность быть христианами по жизни. Это очень важно! Потому что люди, которые вместе работают и стараются спасать жизни и помогать людям, проповедовать любовь, а не ненависть, они соединяются на какой-то глубине, до которой разделение церковное не доходит. Сейчас в некоторых областях – в Судане, например, – голод разрушает целое население, и люди всяких вероисповеданий могут там встречаться и помогать.
С другой стороны, в обстоятельствах даже вражды порой бывает возможно работать вместе и чувствовать, что вражда где-то находит предел.
Я сейчас думаю о войне. Я участвовал в этой войне как врач, поэтому самому мне не приходилось чужую кровь проливать. Я работал сначала как младший хирург, к нам приносили раненых людей. Мы никогда не спрашивали, какое ваше вероисповедание, во что вы верите и во что вы не верите. Например, помню одного французского офицера. Он был убежденный католик, я – убежденный православный. Католиком я стать не могу, но этот человек шесть раз оставлял безопасное место и выходил на поле, чтобы вынести оттуда солдат, которые были ранены. Можно ли о таком человеке думать в порядке вероисповедных разделений? Он в этом случае показал себя просто как убежденный верующий ученик Христа, который был готов отдать свою жизнь для того, чтобы спасти жизнь других людей. И когда он к нам попал, он действительно был прострелен в грудь шестью пулями, еле выжил, и я его лечил. Я – православный, он – католик, без всякого чувства, что нас что-то разделяет. Больше того, если я даже не согласен был с его вероисповеданием, он для меня был христианином такого размера, каким я никогда не был и, может быть, никогда не стану. Потому что он действительно по своему собственному выбору вышел из защищенного угла и шесть раз отдавал свою жизнь. Шесть раз отдавал ее, и то, что ее не каждый раз брали, – это дело другое. Это не его вина, если можно так выразиться, и поэтому есть план, на котором вероисповедные разделения просто забываются.
Я встречал и протестантов, и вот этого католика, и других католиков. Я встречал безбожников, которые были готовы отдать свою жизнь за то, чтобы спасти другую жизнь, а это то, о чем нам говорит Христос: «Возлюби ближнего, как самого себя, возлюби его ценой своей жизни. Как Я вас возлюбил» (см.: Мф. 22: 39). Есть область, есть уровень, на котором забывается, что мы разделены.
Можно и другое сказать, что если думать об обыкновенных людях… И обыкновенные люди – это не только миряне, но и священники, епископы. Сколько раз в течение одного дня твои поступки определяются или зависят от тех или других богословских формулировок? Скажем, сколько раз в день католик поступает так или иначе, потому что он верит в папское первенство? Или потому, что он верит в ту или другую часть католического вероисповедания? Сколько раз православный человек поступает так или иначе (или протестант) на основании каких-то богословских выкладок? Человек поступает, во-первых, по совести, как человек, как универсальный человек, Богом созданная тварь, и, во-вторых, как ученик Христа, постольку, поскольку он вырос в эту меру.
Об этом писал много лет тому назад, в двадцатых годах, митрополит Антоний (Храповицкий), один из самых, если так можно выразиться, радикальных православных богословов. Я чуть не сказал «узких» – это неправда, потому что душа у него была глубокая и широкая, но его богословие было как меч: да или нет, свет или тьма! И я помню, он написал статью, в которой он говорит именно о разделениях. И он говорит, что, по мере того как проходили десятилетия и столетия, люди разделялись по менее важным темам. Например, первые ереси ставили под вопрос вообще христианскую веру. Скажем, если ты не веришь, что Христос – Воплощенный Бог, если ты не веришь, что Он настоящий Человек, – это отрицание самого христианского вероучения. Но по мере того, как годы проходят, люди сохраняют эту основную веру, но расходятся на какие-то, может быть, важные, но не решающие темы. Скажем, я считаю католическое вероучение о папстве совершенно неприемлемым, но вместе с этим я никак не могу сказать, что самый Папа и его ученики не христиане в полном смысле слова.
То же самое я могу сказать и о протестантах. Скажем, я был знаком с Нимёллером[21]21
Мартин Фридрих Густав Эмиль Нимёллер (1892–1984) – протестантский богослов, пастор Протестантской Евангелической Церкви, президент Всемирного Совета Церквей.
[Закрыть], одним из вождей Протестантской Церкви во время гитлеровской Германии. Я встречал очень многих протестантов разного рода. Я очень много работал с англиканами. На какой-то почве нас ничто не разделяет.
И вот тут для меня встает вопрос, который, я думаю, нам надо – и нам с вами, и нашему христианскому миру – углубить. В чем мы расходимся? Мы сейчас говорим только о том, что нас разделяет. О том, что нас соединяет, мы говорим в общих чертах. Нам надо всем так перестроиться, чтобы абсолютным центром нашей веры и жизни был Сам Бог, Христос. Если бы мы могли перестроиться так и сказать, в чем наши представления о Христе, о Боге, о человеке, о Церкви, о жизни, о том или другом не точно, но совпадают, то мы могли бы стать гораздо ближе.
Например, я вспоминаю, была издана беседа между католическим богословом и православным епископом XIV века, кажется. И весь разговор шел так, что католический богослов на основании западной философии доказывал неверность православного учения, а православный епископ из этих источников не мог исходить. Для него не существовала философия, и поэтому у него ответов не было на вопросы, поставленные таким образом, тогда как явно было, что его вера во Христа, в Церковь не как в учреждение, а как в Тайну была полная и совершенная.
Мы часто заблуждаемся, мы очень много говорим о Церкви, и многие люди думают о Церкви как об учреждении. Православная Церковь, Католическая Церковь, Протестантские Церкви – это организационные единицы. А Церковь, в сущности, нечто совершенно иное. Церковь – это место, где человек может оказаться вместе со Святой Троицей. Это место встречи между Богом, в Троице покланяемым, и человеком. Церковь – это что-то непостижимое, и когда мы эту Церковь стараемся определить человеческими масштабами, то мы, конечно, теряем из виду, что в центре Церкви Сам Живой Бог.
Я думаю, что некоторые православные скажут, что я в этом смысле погрешаю против православной веры, но я много лет жил в очень узком богословии. Когда я начал ходить в церковь, меня охватила церковность с такой силой и православное вероучение с такой глубиной меня поразило, что все остальное для меня было неприемлемо. Впервые приехав в Англию в 1947 году, я уже через войну прошел и многое пересмотрел, и все-таки, когда мне поставили здесь вопрос на съезде: «Что вы думаете о католичестве?» – я ответил: «Вы можете быть или христианином, или католиком, но вы не можете быть и христианином, и католиком сразу». Потому что то, что я пережил во Франции от католиков, – то напряженное давление, которое было оказано на нас, на молодежь, католиками, чтобы мы отреклись от Православия и перешли в католичество, – у меня тогда еще оставалось как чувство негодования, непрощеной обиды.
Я помню, когда мне еще было лет восемь, мы приехали во Францию, и католики предлагали места в школах. Меня повели на такое свидание, мать пошла со мной, и все было устроено – мне нужно было поступить в очень хорошую католическую школу. Никакого вопроса не было, мы с мамой дошли до входной двери, и в ту минуту священник, который все это устраивал, говорит: «Простите, одну минуту: конечно, если мальчик поступит к нам в школу, он станет католиком». И я помню, как я остановил свою мать и сказал: «Уходим, я не на продажу». У меня никаких церковных убеждений не было, мне было восемь лет, и даже если бы я принадлежал к очень церковной среде, чего не было, то я не был достаточно зрелым для этого, но сам тон такой манеры, что: «Мы его покупаем. Мы ему даем школу, а вы продаете его душу» – для меня был неприемлем, нет! И вот это оставило у меня на много-много лет след, который постепенно начал стушевываться с течением жизни. Я встречал замечательных католических мирян и немирян, встречал представителей других вероисповеданий, и особенно, как я сказал, во время войны и во время моей работы в больнице, когда я еще студентом был. Потому что, когда человек лежит больной, ты его не спрашиваешь, какого он вероисповедания. Ты спрашиваешь: «Что у тебя болит?»
То же самое почти можно сказать об убеждениях людей. Когда они живы, здоровы, полны сил и борются с тобой, они тебе если не враги, то противники. Но когда он при смерти, он тебе не может быть противником, он человек.
Я помню, был такой момент во время войны, когда фронт был совсем рядом с нашим госпиталем и стали привозить раненых прямо с поля боя. Между ними было двое немцев. Кто-то ко мне подошел и говорит: «Вы говорите по-немецки, подойдите, скажите им что-нибудь, потому что они умирают и совершенно одиноки». Я подошел. Один уже совсем умирал, я ему сказал два слова, и он отошел. Я подошел к другому, он был при смерти, но был еще жив. Может быть, вас смутит то, что я сейчас скажу, потому что некоторых это смущало, когда я им рассказывал. Я к нему обратился и сказал то, что я мог ему сказать: «Очень больно? Очень страдаете?» Он на меня открыл умирающий глаз и выговорил: «Я не чувствую своей боли. Мы вас побеждаем» – и умер. Это был человек, который держался убеждений, диаметрально противоположных моим, мы с ним боролись именно идейно. Он был гитлерианец, а мы боролись с нацизмом. Но когда человек жизнь готов отдать за свои убеждения, то ты уже видишь в нем человека, а не убеждение.
Я вам это рассказываю, потому что, я думаю, это очень важно. В моей жизни это сыграло роль. Я рассказывал это раз-другой, и мне на это отвечали: «Ты что, одобряешь нацизм?» Нет, я не одобряю нацизм, я с ним тогда боролся, в армии был, но этот человек всю свою жизнь до смерти включительно отдал идеалу, в который он поверил. И это очень много значит. Я думаю, что, когда он встал перед Богом, его не стали экзаменовать на предмет, нацист он или нет, его стали спрашивать: «Жизнь ты отдавал? Отнимал ли ты у людей жизнь, иначе как в честном бою? Был ли ты мучителем? Был ты из тех, кто пытал людей? Был ли ты обманщик, предатель?» И это те вопросы, которые можно задать любому христианину, который проживет даже не военную жизнь и не трагическую.
И вот мне кажется, что нам надо в нашем веке сейчас сделать усилие, вернуться к истокам, а исток – только Сам Господь Бог.
Когда Русская Православная Церковь была принята во Всемирный Совет Церквей в Дели, кажется, это был 1962 год[22]22
РПЦ вступила во Всемирный Совет Церквей в 1961 г.
[Закрыть], я был одним из представителей Русской Православной Церкви. Нас принимали и ожидали от нас короткой речи. Попросили сказать слово покойного ныне владыку Иоанна (Венланда), который умер митрополитом Ярославским и Ростовским, а до этого жил в Америке, а еще до того, в советский период, был геологом и тайным священником одновременно. И он был замечательный человек. И я помню, как он вышел и сказал: «Мы хотим вас поблагодарить за то, что вы нас как братья принимаете». Я не повторяю дословно его слова, но это основа его мысли. «Мы вам не приносим с собой новую веру. Мы вам приносим исконную веру Евангелия, которую мы сохранили и от которой вы отчасти отпали. Принесите из того, что мы вам отдадим, такие плоды, которые мы не сумели, несмотря на нашу неповрежденную веру, принести». И вот это мне кажется очень важным. Да, мы обладаем в Православии такой чистотой вероучения, такой чистотой веры, которая, я думаю, нужна всему миру. Но мы этим лично, в частности и группировками не живем.
Было время, когда говорили о христианах: «Что это за люди, как они друг друга любят!» Можно ли это сказать сейчас? Я не говорю о христианах вообще, но о православных людях. Нет, нельзя. У нас разделение, у нас вражда, у нас напряжение. А было время – Тертуллиан об этом говорит – так определяли христиан: по тому, как они любят друг друга. И я помню, один писатель английский – Клайв Стейплз Льюис – в одной из своих передач во время войны говорил о том, что разница между верующим христианином и неверующим должна быть так же разительна, как разница между живым человеком и статуей. Статуя может быть прекрасна, но она – камень или дерево, и она мертва. Человек может быть и не прекрасен, но он живой! И когда люди встречают верующего, они должны остановиться и увидеть в нем то, чего они никогда не видали ни в одной из статуй, и сказать: «Господи! Смотрите, статуя стала живой». И мне кажется, что пока о нас, христианах, люди не могут этого говорить, мы еще не созрели для того, чтобы решить наши межхристианские разделения. Нам надо сначала перестать быть изваяниями прекрасными, но окаменелыми. И нам надо ожить, может быть, не совершенными стать, но ожить, чтобы на нас смотрели и говорили: «Эти люди знают Бога любви так, что друг друга любят, несмотря на все свои разделения, и нас умеют любить, несмотря на то, что мы не свои для них. И они готовы жизнь свою отдать, чтобы мы жили».
– Как вы относитесь к тому, что Патриарх и Папа не встречались в течение нескольких веков?[23]23
После Ферраро-Флорентийского собора (1438–1445) православные Патриархи и Римские Папы не встречались на протяжении пяти столетий. Впервые после длительного перерыва Константинопольский Патриарх и Папа встретились в 1964 г. в Иерусалиме.
[Закрыть]
– Думаю, что, пока Папа будет себя считать единственным главой Церкви и будет себя считать наместником Христа, настоящей встречи быть не может. Он должен понять, что он человек среди людей. Он должен понять, что он епископ Западной Церкви, но и только. Говорить о себе как о заместителе Петра, как Папа Павел VI сказал: «Меня зовут Павел, но на самом деле я Петр», – это неприемлемо. Считать, что Папа является заместителем Самого Христа на земле, – нет, неприемлемо. Кроме Христа, никто не может быть главой Церкви.
Я помню, когда приезжал Папа сюда. Я встретил архиепископа Кентерберийского, и он мне говорит: «Вы придете на богослужение?» Я говорю: «Нет». «Почему?» – «Потому что меня не приглашали». Он говорит: «А вы хотите прийти?» Я говорю: «Нет, у меня никакого желания нет идти на похороны англиканского вероисповедания». Он говорит: «Что вы хотите сказать?» – «Папа и вы войдете в собор. Он ваш гость? Он будет идти впереди. Вы будете за ним собачкой бежать. Он займет первое место, и он покажет, что этот собор, который когда-то был католический, стал снова католическим. Что глава Католической Церкви здесь первенствовал». Ну, на самом деле, я был в этом соборе на богослужении, и у меня осталось такое впечатление, что да, Папа пришел и занял первенствующее место. Слава Богу, дальше не пошло, потому что это было бы ложное соединение. Это было бы соединение не по любви, не по единству веры, а по превосходству одной власти над другой.
– Что вы думаете о сегодняшней России и о том, что у нас происходит?
– Россия всегда была многосложная. В каком-то основном отношении Россия была и остается Россией. Неизменно русский дух остается русским духом, русская природа, русская человечность. Но когда Ельцин пришел к власти, меня попросили написать ему письмо. Я ему написал письмо, в котором я говорил: «Вы сейчас взяли бразды правления, знайте, что вы разом ничего сейчас не перемените. Вспомните, что было с еврейским народом после египетского плена. Сорок лет им пришлось блуждать по пустыне, которую можно было бы пройти в течение трех дней. Но они блуждали, потому что надо было, чтобы целое поколение, которое было воспитано рабами, стало свободными людьми. И с Россией должно совершиться то же самое. Я не хочу сказать, что люди в России были рабами, но они были под властью, которая не давала им свободы, не давала творческой свободы, свободы мысли, и поэтому целое поколение должно постепенно освободиться от состояния пленника и стать более свободным. Полную свободу, кроме отдельных личностей, целое поколение получить не может, включая и Вас». Он мне потом написал письмо и благодарил за то, что я ему сказал. Я не знаю, насколько он был рад этому, но я написал то, что чувствовал, – что сейчас Россия на положении еврейского народа после исхода. Должен пройти какой-то долгий срок, в течение которого изжито будет все то, что было пережито. Я не говорю о рабстве, но о свободе мысли, свободе жизни – и не только гражданской свободе. И это займет много времени, потому что это внутренняя перестройка, не внешняя. Вы человеку можете дать свободу действовать, как он хочет, но если он внутри не вырос до свободы, он все равно будет рабом своего прошлого. Это первое, что я хочу сказать.
С другой стороны, Россия всегда была изумительно творческой страной. Она переходила из трагедии в трагедию в течение всей нашей русской истории. И каждый раз из трагедии она выходила с новым опытом, с новой глубиной, с новым живым чувством и с новой творческой силой.
Я помню книгу, которая была написана князем Трубецким об иконописи[24]24
Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе.
[Закрыть]. Изучая иконопись татарского времени, периода Сергия Радонежского и дальше, он говорил о том, что в иконописи татарского периода, когда весь народ страдал, страдание не сумело найти выражения. Оно нашло себе выражение тогда, когда самый ужас отошел и люди смогли посмотреть на ужас и ужаснуться и пережить страдание, которое предыдущее поколение не смогло пережить, потому что его задача была в том, чтобы живым остаться. Я думаю, что с Россией происходит нечто в этом роде.
То же самое я скажу, что я уже сказал: что России надо, надо укореняться в Боге и не становиться пленником уставов, правил. Нет, я верю в правило, вы не думайте, что я в этом смысле еретик. Я верю в правило, но, когда мне человек говорит, что я все исполнил по правилу, что я вычитываю утренние молитвы, вечерние молитвы, все каноны, готовлюсь к причащению, вычитывая все, пощусь и т. д., я его всегда спрашиваю: «А делая все это, вы когда-нибудь пережили или ощутили или даже искали встречи с Самим Богом?» И мне часто отвечают: «Нет, но мне сказали, что, если я буду это делать, я буду верным православным христианином». Но это же только начало, и мне кажется, что очень важно людей учить тому, что вот, ты все это выполняешь и учишься из молитв святых, как молиться, учишься тому, как они думали о Боге, как они переживали себя самих в связи с Богом и с окружающим миром. И ты от них научись так, чтобы ты мог тоже своими словами это говорить.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?