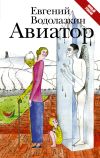Читать книгу "Идти бестрепетно. Между литературой и жизнью"

Автор книги: Евгений Водолазкин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Какие разные похороны
Приехав в середине марта на Парижский книжный салон, я остановился в гостинице возле площади Республики. Первый вечер у меня оказался свободным, и я отправился на прогулку. Гуляя, всегда придумываю себе точку, к которой иду. Цель, пусть даже условную: без этого движение для меня словно бы теряет осмысленность. В этот раз я решил дойти до кладбища Пер-Лашез. Оно прекрасно, да и в качестве конечной точки движения (кладбище все-таки) выглядит вполне убедительно.
Пер-Лашез располагается на пологом холме, до которого я дошел минут за сорок. Кладбище мемориальное, хотя поначалу (сейчас в это трудно поверить) оно было у горожан непопулярно. С мертвой точки дело сдвинулось только тогда, когда с рекламными, выражаясь современным языком, целями на Пер-Лашез перенесли прах Лафонтена и Мольера. На парижских покойников это произвело впечатление, и с тех пор кладбище стало расти как на дрожжах. В разное время там появились могилы Бальзака, Пруста, Уайльда, Пиаф и даже неведомо как сюда пробравшегося батьки Махно.
Собственно, я бывал здесь прежде, и пришел сюда не ради них. Мне нравилась тишина этого места. Покой города мертвых посреди бурлящего жизнью Парижа. Потянуло меня сюда, возможно, и потому, что несколько месяцев назад на далекой от Парижа Украине я хоронил своего отца.
У ворот Пер-Лашез меня встретили два привратника. Я поздоровался, они не ответили: кладбищенские люди суровы. Моего появления они никак не поощрили, но и дальше идти не препятствовали. Я пошел. Прежде чем повернуть на одну из кладбищенских улиц (там самые настоящие улицы), обернулся. Привратники беззвучно смотрели мне вслед. Я понял, что дальше остаюсь наедине с собой: живых, по всей вероятности, здесь больше не было.
Отец. Он родился в Нальчике, рос в Баку, а предки его с Волги и Ставрополья. В Киеве оказался, женившись на моей матери. Они прожили вместе четыре года, родили меня, затем расстались. Отца я видел нечасто даже в киевском детстве, а уж переехав в Петербург – совсем редко. В каком-то смысле его смерть сделала наши встречи чаще – теперь об отце мне стали напоминать самые разные вещи. Мелькнувшее в толпе пальто – у него было такое же, сходный тембр голоса по радио…
Отзывается ли он оттуда, думалось мне на кладбище, на мои мысли о нем? Может ли настроиться на мою волну? Никогда не выезжавший за пределы СССР – присутствует ли сейчас на Пер-Лашез? Речь о метафизическом присутствии, конечно: других вариантов нет. В отличие от Мольера, на перенесение сюда его праха отец не имеет никаких шансов. Да и едва ли в этом нуждается.
Мой отец похоронен на сельском кладбище в украинской глубинке. Родом из этого села – вторая жена моего отца, Таисья, добрая и заботливая женщина. Она решила, что в селе отцу будет лежать спокойнее. Я думаю, она права, – при том даже, что в жизни отец никогда не искал спокойствия.
Служа четыре года во флоте, вставал за полчаса до подъема, чтобы не позволять никому себя будить. Находил легальные возможности не соответствовать флотскому распорядку. По приезде в Киев распорядок дня его не стал проще: утром и днем – завод, затем вечерние занятия в Политехническом институте, а ночью разгрузка вагонов, потому что денег катастрофически не хватало. Каждый семестр ему приходила повестка об отчислении из Политехнического. Взяв ее, он направлялся в деканат, коротко и зло требовал восстановления. В правомерности своей злости он не сомневался: попробовали бы сами учиться после ночи на товарной станции и завода. Его восстанавливали: куда им было деться?
Точно так же он впоследствии добивался, чтобы одного нашего родственника после восьмого класса не отчисляли из школы. Отцу не хотелось, чтобы тот шел в профессионально-техническое училище.
– Но такое же училище окончил, заметьте, Королев… – вяло сопротивлялся директор школы.
– Вот если бы парень был Королевым, я бы не возражал против училища, – отрезал отец. – Но он не Королев.
О смерти отца я узнал ночью, а днем, не дожидаясь заверенной телеграммы, вылетел в Киев. Летел через Минск, предупрежденный, что без такой телеграммы могут возникнуть сложности с украинскими пограничниками. Не возникли. Пограничники спросили, с какой целью я прибыл, и пропустили меня без звука. Похоже, мы всё еще один народ.
Рано утром Таисья, мой сводный брат Саша и я забирали отца из морга. Гроб поставили в приехавшую из села «Газель». Сели в Сашину машину и поехали впереди «Газели». На выезде из Киева остановились у какого-то базара купить цветов, это заняло минут десять. Вернувшись, застали водителя «Газели» в состоянии горького веселья: есть мимика, общая для плача и смеха. Он показывал на стоявшую рядом машину автоинспекции. Неправильно припарковался. Я предложил ему с ними поговорить, но водитель только махнул рукой:
– Хиба ж то люды? Тварюкы.
Те, о ком он говорил, писали протокол – писал, точнее, тот, кто расположился на переднем сиденье, второй стоял, прислонившись к машине, и курил. Я все-таки направился к ним – в сущности, я шел платить. Они видели мое приближение, но не поворачивались. Поздоровавшись, я сказал:
– Вэзу батька ховаты. И оцэ трэба платыты штраф?
Я произнес это без всякого нажима, можно сказать – без выражения. Сидевший перестал, однако, писать. Сквозь прижатые к губам пальцы с шумом выпустил воздух. Неестественно длинное «ф». Потер лоб и откинулся на спинку сиденья.
– Нэ трэба.
Вот тебе и раз: нэ трэба. Как-то даже неожиданно. Я пожал полицейскому руку и сел в машину моего брата. Водитель «Газели» смотрел на меня с уважением. Из его кабины доносилась веселая музыка. Пусть отец послушает – он любил такую. Будучи навеселе, пел советские песни.
А на Пер-Лашез тоже раздавалась музыка – не советская, допустим, но тоже неплохая: предположительно, джаз. Она наплывала издалека и была едва слышна – не столько даже музыка, сколько ритм, отбивавшийся контрабасом. Такого эффекта нет при использовании динамика. Игнорируя статус слушателей, на кладбище звучала живая музыка. Я медленно двинулся на звуки. Да, это был джаз.
Мой сводный брат Саша. Он вовсю нажимал на газ, и я представлял себе, как в следующей за нами «Газели» на ухабах подпрыгивает в гробу отец. Может быть, даже под музыку. Саша спешил, потому что в село нужно было успеть к определенному времени. Иногда он говорил с кем-то по телефону и по-украински отдавал короткие указания относительно поминок. Ливень сменялся солнцем, которое робко отсвечивало в каплях на ветровом стекле. Затем снова начинался ливень. Не отрываясь от дороги, Саша выразил надежду на то, что тучи разойдутся, потому что, если будет ливень, то с отца смоет грим. Да, согласился я, это было бы неприятно. Я забыл, что в морге накладывают грим.
По приезде выяснилось, что спешка была напрасна. В селе не было и следа суеты. К машинам, остановившимся у церкви, подходили, а затем уходили люди, снова подходили и уже оставались стоять. Застывали, скрестив руки на груди (засунув в карманы, заложив за борт ватника), иногда с наждачным звуком почесывали щеки. Курили.
Кто-то сказал, что нужно съездить за Тоней, и мы с Сашей поехали на соседнюю улицу за Тоней. После некоторого ожидания на дорожке сада показалась согнутая под прямым углом старуха. Опираясь на две клюки, она медленно двинулась к нам. В слаженных движениях ее рук и ног было что-то столь же спортивное, сколь и экзотическое, из области, скажем, забега жуков. Голова согнутой Тони была приподнята, и большие ее глаза не мигая смотрели на нас. Тоня была доставлена к церкви.
По улице медленно плыли две подставки под гроб и деревянная конструкция в форме буквы «п» со множеством просверленных в ней отверстий. Когда всё это оказалось в церкви, мы с несколькими мужиками внесли отцовский гроб и установили его на подставках. В церкви (она постепенно заполнялась народом) было холодно. В ожидании отпевания некоторые выходили греться на улицу. П-образная конструкция была положена на гроб, а в ее отверстия вставили свечи. Мне показалось, что, когда их зажгли, стало теплей. От вида огня, как бы мал он ни был, всегда становится теплей. И, пожалуй, радостней: окруженный десятками волнующихся огоньков, отец уже не выглядел так скорбно.
Какая-то женщина связала ему ноги и хотела было связать руки, но заметила, что на груди его лежит только левая рука. Правая почему-то была вытянута вдоль тела. Женщина замерла с удивленным лицом. Не понимала, как в таком случае связывать руки. Я тоже не понимал этого, как и того, зачем это нужно делать перед отпеванием. Был в этом, видимо, свой скрытый смысл.
– Нэ згынаеться, – сказала женщина о руке.
Среди всеобщей тишины к гробу проковыляла Тоня.
– Я зигну.
Она прислонила обе свои палки к гробу и взялась за руку отца. Я внутренне напрягся, но она без особого усилия прижала его правую руку к левой. Да уж, не зря мы везли Тоню. Женщине с веревкой ничто теперь не мешало связать отцовские руки.
Я поднял глаза и увидел вошедшего священника. Он стоял у изголовья гроба и задумчиво наблюдал за связыванием. Отпевание прошло с тем спокойным достоинством, с которым в этом селе, по-видимому, делалось всё.
– Вы раба Божого Гэрмана розв’язалы? – спросил священник, закончив.
– Та розв’язалы, батюшко.
Я видел: развязали.
– Ну, тоди з Богом!
Было дано несколько инструкций на том божественном языке, которого мой отец за годы своей киевской жизни так и не выучил. Через несколько минут к церковным дверям подъехали старенькие «Жигули» с прицепом, и на этот прицеп был установлен открытый гроб. Прицеп смотрелся не хуже орудийного лафета.
Процессия тронулась. Впереди шел человек с крестом, чуть сзади двое с хоругвями, за ними священник с хором, далее – «Жигули» с отцом на прицепе, за прицепом Таисья, Саша и я, за нами Тоня (две собачки по бокам), а дальше – всё село. «Жигули» ехали медленно, но грунтовая дорога была тряской. Руки моего отца (особенно пригнутая Тоней правая) стали приподниматься. Локти еще покоились на животе, а вот кисти уже парили в воздухе. Казалось, что, лежа в гробу, отец собеседует с небесами. Руки его покачивались, что придавало беседе спокойный и какой-то даже непринужденный вид.
До кладбища было около полукилометра. Каждую сотню метров процессия останавливалась, и священник, сопровождаемый певчими, читал заупокойные молитвы. В сравнении с дорогой пребывание на кладбище мне показалось коротким. Когда первые комья земли ударились об отцовский гроб, я поразился громкости ударов. Они были подобны барабану и совершенно не соответствовали тишине этих похорон. После того как могилу закопали, все пошли на поминки в кафе прямо через кладбище. Я двинулся было за ними, но кто-то остановил меня:
– У родычив своя путь.
«Путь» в украинском – женского рода. Не знаю, что из этого следует и следует ли вообще. Мне показали ту дорогу, по которой надлежало идти одним лишь родственникам покойного. Ко мне присоединились Таисья и Саша, и через четверть часа мы были уже в кафе. После прочитанной священником молитвы воцарилось безмолвие. То есть время от времени раздавалось тихое бу-бу-бу, звяканье приборов, но ни общих разговоров, ни тем более тостов не было. Последними оказались слова молитвы.
На Пер-Лашез играл джазовый оркестр. Придя сюда на звуки музыки, я наблюдал, как под блюз гроб медленно вплывал в двери крематория. Я не знал, что на этом кладбище есть крематорий, но главное – подумать не мог, что оно – действующее. Что можно вот так расположиться рядом с Сарой Бернар, Бомарше или, скажем, Шопеном – без особых церемоний лечь или на худой конец рассыпаться пеплом. Оказывается, можно, – да еще под замечательную музыку.
Играли настоящие профессионалы, не какой-нибудь кладбищенский оркестр. Да и не кладбищенский это был репертуар. Они понимали друг друга с полуслова, кивали друг другу и строили рожи – как то и положено джазовым музыкантам. Импровизировали. Лучи заходящего солнца передали им свою красноту. Особенно – женщине в вызывающе алом пальто: она буквально пылала. Ни на чем не играла, просто стояла, притоптывая, рядом с музыкантами. Лицо ее украшал клоунский нос – тоже красный, державшийся на резинке.
Одни входили в здание крематория, другие выходили. Это напоминало вечеринку в тот ее момент, когда нет уже общего веселья и каждый предпочитает устраиваться самостоятельно. Я в нерешительности остановился у двери, но кто-то (какое гостеприимное учреждение) открыл ее и спросил меня:
– Простите, вы заходите?
– Да. Конечно…
Даже по моей лаконичной речи он сразу понял, что я не француз. Улыбнулся – зачем, мол, иностранцу крематорий? И в самом деле – зачем? Хотя ответ я, конечно, знал. Я давно уже хотел в туалет, обычная кладбищенская история, на кладбищах потому что прохладно и ветрено.
Я нашел туалет по указателю. Перед ним сидела на стуле красивая смотрительница (в Париже их называют «мадам Пи-пи»), и я отчего-то сразу понял, что она – наша. Как таможенник безошибочно узнаёт контрабандиста, человек, долго живший за границей (а я жил), легко опознаёт соотечественников. Я обратился к ней по-русски. Она ответила с легким провинциальным акцентом. Пользуясь неожиданной встречей, рассказала, как много людей мочится мимо писсуара – с виду приличные люди, а на самом деле…
– Примете работу, – пошутил я.
Она посмотрела на меня с сомнением.
Мало-помалу все собрались на площади перед крематорием. Оркестр блеснул феерической импровизацией. Я подошел к человеку, стоящему с краю, и спросил:
– Простите, что это?
– Похороны.
– Необычные…
Он кивнул. Я хотел спросить что-то еще, но не отважился. Собственно, я не понимал, чтó именно здесь можно спросить.
Женщина с клоунским носом собирала всех в круг и призывала танцевать. Оркестр перешел на народные мелодии. По ощущениям народные – такими они мне казались, потому что были просты и прекрасны. А еще под них танцевали по-народному, с притопами и прихлопами. Мне тоже хотелось танцевать, но я понимал, что для гостя столицы это было бы уже слишком.
– Кто эта женщина? – нашел я все-таки вопрос для моего собеседника.
– Вдова. Ее муж был джазовым музыкантом.
Когда вдова проходила мимо нас, я заметил, что глаза ее мокры от слез.
– А зачем она надела этот нос?
Он сжал свой нос двумя пальцами и сказал гнусаво:
– Выражает презрение к смерти.
Вот как. Я постоял еще немного и двинулся в сторону выхода. Я еще не уходил с кладбища, просто гулять решил у выхода. Мне почему-то пришло в голову, что гуляющих в дальних уголках запросто могут здесь запереть на ночь. По дороге я видел еще одну похоронную процессию. На этот раз гроб несли не к крематорию, а к открытой могиле. Значит, на Пер-Лашез можно и в самом деле хоронить не только в виде пепла. Что ж, это хорошо. Прибегая к оксюморону, я бы сказал, что кладбище должно быть живым. То есть, даже становясь мемориальным, оно не должно забывать о своем изначальном предназначении. На вторые похороны лишних не допускали. Служители кладбища стояли на дорожке, отрезая путь любому возможному наблюдателю. Вероятно, чтобы не привлекать внимания, похороны здесь назначаются на вечер.
В воротах я столкнулся с джазовыми музыкантами. Даже выйдя на улицу, они продолжали играть. Шли, видимо, в ближайший ресторанчик помянуть покойника. Чтобы не сложилось впечатления, что мной взят курс на участие в поминках, я перешел на другую сторону улицы. Меня узнал мой собеседник и, перекрикивая оркестр, напомнил мне: «Презрение к смерти!». Поднял две руки, соединенные в замок. Я повторил этот жест, и так мы стояли несколько секунд. Полная солидарность. Мне вспомнились поднятые руки отца – тоже своего рода выражение презрения к смерти. Не такое, может быть, яркое, как в Париже (разные, что и говорить, похороны), но тоже вполне определенное. Только умер, а уже обращается наверх. Через ее, смерти, голову.
Праздник, который праздник, который всегда с тобой
Не верьте тому, кто говорит, что у него нет дня рождения. Он есть у каждого – у принца и нищего, толстого и тонкого, отцов и детей. Это – то, чего у нас не отнять. Человека снимают с должности за утратой доверия, лишают орденов и званий, а дня рождения – не лишают. В стремительно меняющемся мире день рождения остается оплотом постоянства. Может быть, поэтому мы так любим этот праздник?
Иногда человек выживает в автокатастрофе, и тогда принято говорить о его втором рождении. Теоретически количество таких дней может быть неограниченным – если, скажем, подобные вещи с кем-то происходят регулярно. Все эти дни такой человек вправе отмечать как свои дни рождения.
Известны случаи, когда количество дней рождения увеличивалось без всякого риска для жизни. Так было с гениальным Юрием Валентиновичем Кнорозовым, расшифровавшим письменность майя. В паспорте Юрия Валентиновича значилось, что родился он 19 ноября, но что-то заставляло его считать, что произошло это 31 августа. Большой истории из этого Кнорозов не делал – просто праздновал день рождения дважды в году, и при расшифровке письменности это ему не помешало. Может быть, даже помогло: тот, кто не капризничает, всегда добивается большего. Важно лишь не делать из даты культа.
Движимый примерно этими соображениями, однажды я отмечал свой день рождения в Мюнхене. В середине, если не ошибаюсь, июня я почувствовал настоятельную необходимость отпраздновать этот день со своими друзьями. Мы провели славный вечер, в конце которого одна из гостей посетовала на свою память, потому что отчего-то ей казалось, что я родился в феврале. Я как мог ее успокоил, заверив, что с ее памятью все в порядке и что я действительно родился в феврале.
Я не ожидал, что на моих немецких друзей это произведет такое впечатление. В наступившей тишине кто-то спросил:
– Значит, сегодня ты празднуешь не день рождения?
– Отчего же, – возразил я, – именно этот день я и праздную.
– То есть, у русских это подвижный праздник?
Мои друзья все еще не теряли надежды подвести под происходящее общее правило.
– Неподвижный – если его, конечно, не двигать.
– Так что же ты сегодня празднуешь?
Мы вращались в заколдованном круге.
– День рождения, который у меня, да, в феврале. Какое это имеет значение – когда праздновать? Главное, чтобы он был… Надеюсь, вы не сомневаетесь, что он у меня есть?
Снова возникла пауза. Один из моих научных коллег сообщил присутствующим, что я – автор цикла исследований по хронологии, и это почему-то всех успокоило. Получалось, что у сегодняшнего события имелась какая-то научная основа. Какое-то, возможно, хронологическое открытие, которое позволяло мне сдвигать отмечание на четыре месяца. Кто-то даже добавил, что разница календарей – большое неудобство.
Случалось, однако, что я праздновал свои дни рождения и вовремя. Помню свое двадцатилетие. Пафос возрастал с количеством выпитого. Пили стоя. Бывает так, что кто-то предложит выпить стоя (например, за дам), а потом вроде как уже и не сядешь, потому что все тосты кажутся по-своему важными. Не встанешь – обязательно кого-нибудь обидишь. И тамада уже давно дремлет, и смысл тоста не всегда ясен, а кто-то непременно предлагает: за это нужно пить стоя. Своего рода вечный двигатель, не требующий дополнительного завода.
В какой-то момент прозвучал тост за то, чтобы и через полвека наши подруги любили нас так же, как любят сейчас. Нормальный студенческий тост в духе гаудеамус игитур, хотя сказанное, если вдуматься, оставляло вопросы. Должны ли это быть подруги, сидящие за столом (к тому времени семидесятилетние), или какие-то другие, более молодые подруги. Сомнения разрешил внезапно проснувшийся тамада. Обведя гостей ошеломленным взглядом, он заявил, что за это надо пить лежа.
День рождения – это повод думать и о тех, кто родился в один день с тобой. Для меня таким человеком является замечательная писательница Людмила Евгеньевна Улицкая. Из наших с ней встреч особенно мне запомнилось общение на вручении премии «Большая книга». Мы стояли у пластмассового столика на сцене Дома Пашкова. На столике размещались врученные нам букеты и статуэтки. Под приветственные речи кто-то из нас задел этот столик – и всё врученное нам оказалось на полу. Мы опустились на колени (что могло быть воспринято залом как жест уважения к премии) и, обменявшись несколькими фразами, собрали статуэтки и букеты. Всё было снова тщательно расставлено на столе. Тем временем на авансцене нас продолжали поздравлять.
Свойство пластмассовых столиков таково, что падать с них предметы могут не по одному разу – и они, конечно, упали. Мы снова опустились на пол – и тут Людмила Евгеньевна сказала мне добрые слова о моем романе. Как большой писатель, она поступила единственно возможным образом: при повторяющемся действии текст должен быть другим. Как-то незаметно мы вступили в диалог о романах из шорт-листа и о литературном процессе в целом – что для людей, родившихся в один день, вполне естественно. Зал, а в какой-то момент и ведущие переключились на нашу коленопреклоненную беседу, чуждую пафоса и полную любви к художественному слову.
Очень важно родиться в один день с достойными людьми. При выборе этого дня следует проявлять предельную собранность – по крайней мере, родителям.