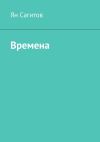Автор книги: Франк Трентманн
Жанр: Экономика, Бизнес-Книги
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 70 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
У каждой страны были своя столица и несколько крупных городов. В Китае были Пекин и Янчжоу, во Франции – Париж, население которого к 1700 году достигло полумиллиона. Отличительной особенностью Нидерландов и Великобритании было количество городских поселений, которое увеличивалось буквально не по дням, а по часам. Если в 1500 году в Англии и Уэльсе каждый тридцатый гражданин проживал в городе с населением более 10 000 человек, то к 1800 году – уже каждый пятый. В Нидерландах это соотношение выросло с 16 % до 29 %. В то же время в низовьях Янцзы, самом развитом регионе Китая того времени, к 1800 году в городах проживало не более 5 % населения; в Латинской Америке и Индии – около 6 %[213]213
Jan De Vries, European Urbanization, 1500–1800 (Cambridge, MA, 1984); Paul Bairoch, De Jéricho à Mexico: Villes et économie dans l’histoire (Paris, 1985); Peter Clark, ed., The Oxford Handbook of Cities in World History (Oxford, 2013). Ли Бочжун в своем недавнем исследовании приходит к выводу, что не менее 20 % населения в регионе Цзяннань жили в городах в эпоху Цин. Меня в данной ситуации больше волнуют степени, а не абсолютные величины. Не стоит говорить, что в Китае не было городов; они были, просто в меньшем количестве.
[Закрыть]. В Германии и Франции значительно преобладало сельское население, а в Италии города переживали застой и упадок. Почему данный фактор так важен? В конце концов, согласно последним историческим исследованиям, торговля в регионе Янцзы прекрасно развивалась и при отсутствии городов. Тем не менее именно городская жизнь являлась необходимым условием роста потребления, и тому есть четыре главные причины.
Во-первых, размер и социальная сложность города создавали благоприятную атмосферу для дифференциации товаров и специализации услуг. Без городов не существовало бы всего этого огромного разнообразия чайных сервизов, обоев, готовых платьев, а с наступлением второй половины XVIII века – стеклянной посуды, фарфора, шелка и бархата. В свою очередь, города росли и усиливали специализацию за счет торговли. Во-вторых, города создавали такую атмосферу, в которой рождались желания и распространялись новые предпочтения. Городские торговцы получали фарфор, занавески и соусники быстрее, чем их коллеги в деревнях[214]214
Weatherill, Consumer Behaviour and Material Culture in Britain, 1660–1760, таблица 4.2. Как она отмечает, исключения составляли менее бросающиеся в глаза предметы, такие как книги.
[Закрыть]. В действительности городская жизнь способствовала увеличению спроса даже больше, чем рост доходов или падение цен. Нельзя сказать, что деревни были полностью отрезаны от мира, но новых товаров в них появлялось ровно столько, сколько уличный торговец мог поместить в свой походный мешок. Сами магазины в городах XVIII века были наполнены атмосферой, благоприятной для потребления: товары выставлялись за стеклянными стенками и зеркалами, покупателям предлагали удобные стулья для отдыха. Шопинг стал частью городской жизни. Местные магазины играли важнейшую роль как в культурном, так и в торговом развитии Великобритании. Например, в 1730-х годах в городе Честер драпировщик Абнер Скоулз устроил в своем заведении две выставочные комнаты идеального дома со стульями и столами, современными драпировками и гравюрами, изображавшими лилипутов, которые после успеха «Путешествий Гулливера» были весьма популярны[215]215
Andrew Hann & Jon Stobart, «Sites of Consumption: The Display of Goods in Provincial Shops in Eighteenth-entury England», Cultural and Social History 2, 2005: 165—87, особенно 177.
[Закрыть]. В-третьих, жизнь в городе препятствовала самообеспечению. И хотя вплоть до XX века французская буржуазия пила вино, приготовленное из собственноручно выращенного винограда, а городские рабочие разводили цыплят, в целом добиться «полного самообеспечения» городскому жителю было сложнее, чем сельскому. Для приготовления пищи нужны были печь, время, навыки и уголь. Многим городским жителям всего этого недоставало. Помимо этого, они также чаще покупали готовую одежду.
Наконец, города становились площадкой для нового общения. Их рост способствовал мобильности населения, в результате которой увеличивалась коммуникация между незнакомыми людьми. Репутация и идентичность становились менее четкими. Одежда превратилась в способ самовыражения, с помощью которого человек демонстрировал, кем он является или кем хочет казаться. Набирала силу новая культура внешности. Английский и голландский философ Бернард де Мандевиль написал в своей «Басне о пчелах» в 1714 году, что «птица красива своими перьями [одежда красит человека], и незнакомым людям обычно оказывают почет в зависимости от их одежды и дополняющих ее деталей внешнего вида; по ее богатству мы судим об их состоянии, а по тому, как они ее носят, мы догадываемся об их уме». В заключение Бернард де Мандевиль написал, что «именно это» заставляет человека «носить одежду, подобающую лицам, стоящим выше его по положению, особенно в больших и густонаселенных городах, где ничем не прославившиеся люди могут ежечасно встретить пятьдесят неизвестных на одного знакомого и, следовательно, получат удовольствие от того, что большинство людей будет считать их не тем, чем они являются, а тем, чем они кажутся по внешнему виду»[216]216
Bernard Mandeville, The Fable of the Bees (1714; London, 1989), Remark (M), 152. Это распространенное наблюдение, например, у Джона Рэя: «В городе Молли Сигрим восхищались бы как самой утонченной леди, но в деревне ей доставались только насмешки»: Statement of Some New Principles on the Subject of Political Economy (Boston, 1834), 280.
[Закрыть]. Из-за анонимности в городе стало проще получить одобрение и сойти за человека с более высоким статусом. «Эта золотая мечта», как ее называл де Мандевиль, заставляла людей подражать и маскировать свое истинное положение, а спрос на вещи – расти.
Нетрудно догадаться, что потребительские товары играли важную роль в формировании индивидуальности. Одежда, аксессуары и манеры составляли систему социального позиционирования. Торговцу, недавно приехавшему в город, труднее было привлечь покупателей, если он был одет как деревенщина, а покупателю, одетому не по моде, труднее было получить кредит. Создать собственный стильный образ было ничуть не менее важно, чем построить доверительные отношения и произвести впечатление на других. Молодые рабочие на свою первую заработную плату покупали приличный комплект одежды: именно одежда говорила о рождении новой, зрелой личности. В то время темп жизни в городе сделал личное пространство особенно ценным, и горожане предпочитали укрываться за задернутыми занавесками и в уединении наслаждаться уютом своего дома и своим имуществом. Как раз в этот период начал формироваться образ своего «я», за три века до появления «Я-концепции»[217]217
Stephen D. Greenblatt, Renaissance Self-fashioning (Chicago, IL, 1960); см. также P. D. Glennie & N. J. Thrift, «Modernity, Urbanism and Modern Consumption», Environment and Planning D: Society and Space 10, 1992: 423—43.
[Закрыть].
Карл Маркс считал, что западный капитализм отделил людей от мира вещей. Возвышение Западной цивилизации, согласно мнению этого влиятельного ученого, создало у людей уникальную способность абстрагироваться от объекта, видеть в нем безжизненную вещь, которую можно обменять на деньги, в то время как в родоплеменных культурах вещи боготворили, приписывая им магические силы. Чем больше вещей приобретали представители западной культуры, тем меньше они о них заботились. Многие обвиняли эпоху Просвещения в том, что жители Запада зациклились на своем «эго». Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера, основателей неомарксистской Франкфуртской школы, это обстоятельство заставило позабыть об «инструментальном рационализме». Согласно некоторым антропологам, Запад проводил более четкую линию между людьми и вещами, в отличие от близких к природе культур Африки и Китая. В Великой Минской империи человек являлся частью мира вещей (wu). А в это время в Европе Рене Декарт «разорвал» человека на две части, заявив в 1640-х годах, что разум существует отдельно от тела и материального мира. Считается, что через 150 лет Иммануил Кант завершил «победу человечества над… вещами»[218]218
По мнению Wim van Binsbergen, из: Wim M. J. van Binsbergen & Peter L. Geschiere, eds., Commodification: Things, Agency and Identities (The Social Life of Things Revisited) (Münster, 2005) цитата со с. 33. См. также: Igor Kopytoff, «The Cultural Biography of Things», in Appadurai, ed., Social Life of Things, особенно 84. Является ли такая трактовка Декарта или Канта убедительной, это уже другой вопрос. То, что картезианское эго было больше, чем просто разум, доказывается в работе: Karen Detlefsen, ed., Descartes’ Meditations: A Critical Guide (Cambridge, 2013).
[Закрыть].
Нам внушают, что восприятие человека как независимого объекта как раз и является причиной современного беспорядка в головах. Модернизм вселил в нас ошибочное убеждение, что человек управляет вещами, и в результате мы позабыли о своей зависимости от них. Вещи стали второстепенными, заменимыми, а мы превратились в общество одноразового потребления. В последние годы Бруно Латур, французский социолог, проводит кампанию по возвращению уважительного отношения к вещам как к важным спутникам нашей жизни. Как считает Латур, для этого достаточно порвать с интеллектуальными принципами модернизма. Продолжая традиции Гоббса и Руссо, политическое мышление осталось «заложником попыток уйти от вещей», и подтверждением тому служат идеи Ролза и Хабермаса. Политическая мысль постоянно вращалась вокруг мечты о «заседаниях без вещей», на которых люди будут встречаться «нагими», имея при себе лишь свои аргументы[219]219
Bruno Latour, «From Realpolitik to Dingpolitik», из: Making Things Public: Atmospheres of Democracy, ed. Bruno Latour & Peter Weibel (Cambridge, MA, 2005); Bruno Latour, We Have Never Been Modern (Cambridge, MA, 1993); см. далее: Frank Trentmann, «Materiality in the Future of History: Things, Practices and Politics», Journal of British Studies 48, no. 2, 2009: 283–307.
[Закрыть].
Было бы глупо полностью отвергать подобные теории, тем более Просвещение действительно способствовало развитию критического мышления, разрушившего народные представления, которые, например, приписывали деревьям и разным предметам способность говорить и действовать. Однако самый сложный вопрос заключается в том, действительно ли отказ от почитания вещей стал ключевым фактором в формировании современного мировоззрения и является ли он причиной несерьезного отношения жителей Запада к материальному миру. В конце концов, тот факт, что китайцы считали человека и окружающие его вещи одним целым, никак не помешал им потреблять все активнее в течение последних десятилетий. Да и современный Запад вырос не из одной-единственной тенденции. Призывы к поиску истинного «я» звучали в унисон, а подчас и перекрывались восхищенными возгласами, восхваляющими вещи как источник знаний и самоопределения. Даже Декарт не верил в однозначный дуализм разума и предмета, субъекта и объекта. Художники и ученые не забывали о существовании материального мира: они думали о вещах, делали их частью политической экономики, философии, литературы и права. Стремясь улучшить мир, деятели XVII и XVIII веков вовсе не отказывались от вещей.
Корни желания приобретать стоит искать в натурфилософии. Культура Ренессанса заставила людей уделять вещам больше внимания. Коллекции книг и экзотических растений отражали опыт и вкус коллекционера. Так возник фундамент, на основе которого голландские и английские ученые и путешественники XVII века разработали новый подход к знанию. Вместо того чтобы отталкиваться от общих принципов, они начали с детального описания предметов. Нельзя понять мир лишь с помощью напряжения мысли, необходимо отправиться в путешествие по нему, нюхать, трогать и описывать вещи, из которых он состоит. После 1598 года голландские корабли постоянно привозили что-нибудь из Ост– и Вест-Индии: ракушки, орехи, броненосцев, кости лосей. В экспедициях на Молуккские острова к этому списку прибавилось оружие туземцев. О выставках экзотических растений и предметов, например, в Энкхейзене или Лейдене, начали писать в путеводителях, и они привлекали и художников, и купцов, и студентов, и королевских особ. Торговля расширялась, и вместе с этим все бо́льшую роль играл хороший вкус[220]220
Harold J. Cook, Matters of Exchange: Commerce, Medicine and Science in the Dutch Golden Age (New Haven, CT, 2007).
[Закрыть]. Как первое, так и второе требовало новых вещей.
Эмпирический материальный подход к знанию сделал торговлю союзницей науки и общения. Товары и добродетели развивались параллельно. Торговля не просто наполняла карманы купцов монетами. Она открывала мир для всеобщего благоденствия. И наука, и торговля учили людей ценить вещи и сотрудничать друг с другом, как говорил Каспар Барлеус, разносторонний ученый эпохи Просвещения, на своих лекциях в амстердамском «Атенее» в 1630-х годах. Это был гораздо более динамичный и открытый взгляд, чем гражданский гуманизм, согласно которому благоденствие является привилегией меньшинства. Торговля придала новое значение домашней обстановке. Китайские тарелки и турецкие ковры, которыми жители Голландии украшали свои дома, символизировали «положительное отношение к многообразию мира», как выразился исследователь Китая Тимоти Брук, согласно которому данный взгляд полностью противоречил принятому в поздней империи Мин, где вещи зарубежного происхождения не представляли ценности[221]221
Brook, Vermeer’s Hat, цитата на с. 82. См. также: Schama, The Embarrassment of Riches.
[Закрыть].
Мнение о том, что пристрастие к вещам опустошает казну нации и развращает индивидуума, было весьма распространено. Эту мысль как нельзя лучше сформулировал английский купец Томас Ман. В 1664 году он написал, что голландцы превосходят англичан, потому что они трудолюбивы, а англичане страдают от:
«проказы, вызванной курением, выпивкой, пирами, модой и тратой времени на безделье и удовольствие (что противоречит закону Божьему и отличается от обычаев других стран), это делает наши тела изнеженными, а знания скудными, уменьшает наши богатства, истощает наше мужество, ухудшает работу наших предприятий и презирается нашими врагами. Я написал о том, что более всего ухудшает наше благосотояние»[222]222
Thomas Mun, England’s Treasure by Forraign Trade (London, 1664), 108.
[Закрыть].
Однако уже в тот момент, когда Ман писал это, у вещей появлялись новые защитники. Как написал Роберт Бойль в 1655 году, возможность желать есть божественный дар. В то время как «другие существа довольствуются… легко достижимыми потребностями», Бог снабдил человека «множеством желаний». Не стоит клеймить «излишества и забавы». «Чрезмерные аппетиты» заставляют любопытного человека классифицировать, анализировать и исследовать природу. Страсть к вещам не только не лишает человека духовного мира, но и дает ему возможность «в полной мере восхититься творениями Создателя»[223]223
Some Considerations Touching the Usefulness of Experimental Natural Philosophy (Oxford, 1663) из: Works of the Honorable Robert Boyle (1744), 56.
[Закрыть]. Бог хотел, чтобы люди были потребителями, а не аскетами.
Традиционное недоверие к богатству стало сдавать свои позиции с появлением культуры устойчивого развития. В Лондонском королевском обществе, основанном в 1660 году, венецианское стекло и другие иностранные предметы роскоши использовались для разработки новых технологий и получения полезных знаний. Росло число патентов. В своей «Истории королевского общества» (1667) епископ Рочестера рассматривал роскошь и новинки в качестве двигателей прогресса. Сначала, писал епископ, общество было поделено на тех, кто имел власть, и на всех остальных; власть наслаждалась удовольствиями и удобствами благодаря своему богатству, другим для этого приходилось работать. В результате возникло изобилие и выросли города. В общем, ничего нового. Однако далее появляется отличие от предыдущих авторов: епископ осмелился предположить, что прогресс может продолжаться благодаря «новым открытиям, дополнительным рабочим рукам» и использованию колоний для производства, например, шелка. «У нас нет причин для отчаяния». Микроскоп, оптическое стекло и другие новые инструменты демонстрируют, что «нас окружает куда больше различных вещей, чем мы предполагали, доверяя лишь тому, что видели собственными глазами в окружающей нас Вселенной». Торговля и новые товары поставляют в Великобританию свежую энергию, а значит, чем больше, тем лучше[224]224
Bishop of Rochester, Thomas Sprat, The History of the Royal Society of London (London, 1667), 381, 384.
[Закрыть].
Торговля не просто наполняла карманы купцов монетами. Она открывала мир для всеобщего благоденствия.
Новинки были самой настоящей новостью, и потому о только что появившихся товарах активно рассказывалось в печатных изданиях. Например, аптекарь Джон Хоутон (John Houghton), член королевского общества, не только продавал чай и кофе, но и выпускал с 1692 по 1703 год еженедельный одностраничный рекламный вестник. Он назывался «Сборник новостей по улучшению хозяйства и торговли», стоил два пенса и содержал информацию о ценах на уголь и акциях компаний вперемешку с рекламой шоколада и анонсами представлений.
Эти тексты не просто сообщали информацию о той или иной новинке. Они возвещали совершенно новый взгляд на человеческую природу. Критика роскошного образа жизни основывалась на учениях античных философов. Аристотель полагал, что у человека не так уж много потребностей. Сократ говорил, что лучший способ удовлетворить их – вести простую жизнь. И вот у людей появляется новое отношение к роскоши. Одним из первых защитников человеческого желания потреблять был Николас Барбон, пионер в области страхования и банковского дела, активная деятельность которого пришлась на 1680-е годы. По мнению Барбона, человек рождается с двумя видами желаний: «желаниями тела и желаниями разума». И последние безграничны. Желание есть «аппетит души», и оно так же естественно, как «голод для тела». «Человек не может не хотеть», и его «желания растут, а хочет он всего, что необычно, что приятно для его органов чувств, что украшает его тело и что делает жизнь удобнее, приятнее и ярче». Ресурсы Англии тоже «безграничны и не могут быть истощены». Потребление не имеет физиологических ограничений. Барбон знал, о чем говорит: превосходный коммерсант, любитель модно одеваться и смекалистый застройщик, он неплохо заработал на стремлении жителей Лондона к большему комфорту после Великого лондонского пожара. Мода не может разорять. Ведь она не что иное, как «желание иметь новинки и редкие вещи, которое становится причиной торговли». Чем активнее торговля страны, тем больше люди зарабатывают, чем больше они потребляют, тем полнее королевская казна[225]225
Nicholas Barbon, A Discourse of Trade (London, 1690), 14–15.
[Закрыть].
В «Басне о пчелах» (1705–1714) де Мандевиль отточил вышеизложенный аргумент и нанес смертельный удар старой морали. В известном отрывке из басни личное зло превращается в общественное благо:
А зависть и тщеславье тут
Облагораживали труд.
К тому ж у этого народа
На все менялась быстро мода;
Сей странный к перемене пыл
Торговли двигателем был.
В еде, в одежде, в развлеченье —
Во всем стремились к перемене;
Именно благодаря порокам держава
добилась процветания.
Покой, комфорт и наслажденья
Сполна вкушало населенье;
И жил теперь бедняк простой
Получше, чем богач былой[226]226
Bernard Mandeville, The Fable of the Bees (1714; London, 1989), 68, 69. 58. As does Clunas, Superfluous Things, 146.
[Закрыть].
(Перевод стихотворения Е. С. Лагутина, А. Л. Субботина, ссылка на книгу: http://bigstend.ru/download/pchely/Mandevil-Basnja_o_pchelah.pdf)
Этот новый взгляд положил конец морали гражданского гуманизма, предполагавшей, что существует прямая взаимосвязь между личной добродетелью и общественным благом. Он отделил общественное благоденствие от заслуг личности. Неважно, были ли порочны намерения, если результат оказался хорош. Чревоугодник становится порядочным гражданином. Сильные нации строились на пороках, а не на добродетелях.
В Китае в XVI веке писатель Лу Цзи уже обратил внимание на то, что излишества могут служить на благо обществу. Расточительный образ жизни развивает торговлю. Однако будет неверным видеть в Лу Цзи предшественника де Мандевиля. В отличие от голландского ученого Лу Цзи еще не представлял себе «двигатель» вечного роста. Для него благополучие – нечто, созданное небесами, и его размеры на Земле ограничены, а убытки одного человека означают прибыль другого. Революционность взгляда де Мандевиля заключалась в том, что он описывал общество как систему, в которой страсть людей к вещам шла на пользу всем, приумножая богатства нации и делая ее сильнее.
Новая оценка потребления была связана и с изменившимся взглядом на зарплаты рабочих. В прошлом бедность большого числа людей считалась чем-то само собой разумеющимся. Это невозможно было исправить. Если повысить зарплаты ткачей, вырастут цены на одежду, сократятся продажи, усилится безработица, и бедных станет еще больше. Однако резкий скачок в развитии торговли и новые практические знания, приобретенные в течение десятилетий после Реставрации (1660), открыли современникам глаза на то, что уже два века было фактом: Великобритания является страной с высокими зарплатами. В 1695 году Джон Кари предположил, что повышение квалификации рабочих и развитие технологий, экономящих время, могут обеспечить одновременно и конкурентоспособность, и высокие зарплаты. Вместо того чтобы бороться за выживание, огромное число людей получит возможность присоединиться к рядам потребителей. Большие расходы – это не страшно. По сути, это даже необходимо, как писал Даниель Дефо в труде «План английской торговли», вышедшем в 1728 году. Ведь целая нация зависит от увеличения числа рабочих и владельцев магазинов, а также «размера их получек»: «благодаря их доходам, на которые они могут существовать, не отказывая себе в изобилии, и благодаря их дорогому, расточительному, свободному образу жизни потребление внутри страны поднимется до таких высот, что в разы возрастет как домашнее, так и зарубежное производство». «Мы – народ, который любит роскошь и дорогие вещи». Жизнь «полна излишков, иногда даже преступного характера», писал Дефо. Но в любом случае, сокращать зарплаты, а вместе с ними и потребление – плохая идея. Плати им меньше, и они начнут меньше тратить. А от этого пострадает все королевство[227]227
Daniel Defoe, A Plan of the English Commerce (Oxford, 1728/1927), 77, 144—6. John Cary, An Essay on the State of England (Bristol, 1695), в особенности 147. См. также: Richard C. Wiles, «The Theory of Wages in Later English Mercantilism», Economic History Review, new series, XXI/1 (April 1968), 113—26; Paul Slack, «The Politics of Consumption and England’s Happiness in the Later Seventeenth Century», English Historical Review CXXII, 2007: 609—31; Cosimo Perrotta, Consumption as an Investment I: The Fear of Goods from Hesiod to Adam Smith (London and New York, 2004).
[Закрыть].
Тем не менее не все разделяли новый взгляд на вещи. Когда в Новой Англии в 1727 году произошло землетрясение, пуританин Коттон Мэзер, выпускник Гарварда, утверждал, что это знак с неба, возвестивший недовольство Господа тщеславием своего стада. Споры о роскоши велись на территории всей Европы. Дебаты в Британии отличались от европейских, скорее, не отсутствием критики, а ее более изменчивым, меркантильным характером. Расширение границ торговли и доводы в пользу потребления поддерживали друг друга. Избавившись в 1688 году от абсолютистского короля Якова II, британцы могли больше не переживать из-за расточительности королевского двора. Отказавшись от строгого разграничения роскоши и потребности, они обнаружили, что роскошь может быть «скромной» и «невинной». То, что когда-то считалось излишеством, однажды может превратиться в потребность, как это случилось с сахаром. К чему попытки ограничить доступ низших слоев общества к разным товарам? В 1776 году, как мы уже могли убедиться, Адам Смит, называя потребление «основой и целью всего производства», не видел в подобном утверждении никаких противоречий.
В континентальной Европе, однако, споры на тему роскоши возобновились вновь в связи с кризисом, переживаемым дворянством, и усилением деспотизма. Критики жаловались, что роскошь, когда-то признак величия и добродетели, развращает испанскую знать, а аристократы занимаются лишь тем, что пытаются превзойти друг друга в расходах на вычурную одежду и устройство богатых садов. Влиятельные, сильные землевладельцы превратились в слабых, изнеженных марионеток. Теперь они подчинялись абсолютному монарху. Во Франции Дени Дидро назвал роскошь причиной коррупции, ветви которой растут из королевского двора. «А посмотрите на церковь!» – добавлял Вольтер. На изысканные пиры и ливреи лакеев идут деньги, которые могли бы пойти в карман эффективным работникам, и в прошлом именно это служило оправданием роскоши. Роскошь больше не помогает бедным, констатирует Поль Анри Гольбах, она их создает[228]228
Berry, The Idea of Luxury; Perrotta, Consumption as Investment; Maxine Berg and Elizabeth Eger, eds., Luxury in the Eighteenth Century: Debates, Desires and Delectable Goods (Basingstoke, 2003).
[Закрыть].
Вовсе не все критики роскоши являлись традиционалистами или противниками торговли. Точно так же не все ее защитники были модернизаторами и уж, конечно, демократами. Англичанин Николас Барбон принадлежал к тори. Во Франции Виктор Рикети де Мирабо, именовавший своих «собратьев»-аристократов развращенными «кровопийцами», выступал за свободную торговлю, развитие сельского хозяйства и не видел смысла в спартанской умеренности[229]229
Michael Kwass, «Consumption and the World of Ideas: Consumer Revolution and the Moral Economy of the Marquis de Mirabeau», Eighteenth-century Studies 37, no. 2, 2004: 187–213. См. также: James Livesey, «Agrarian Ideology and Commercial Republicanism in the French Revolution», Past and Present, no. 157, 1997: 94—121.
[Закрыть]. Расточительство знати, так же как и расточительство сегодняшних банкиров, привлекало внимание общественности, потому что именно в нем современники усматривали причину более серьезных кризисов. Потери французов в Семилетней войне (1756–1763) в разы увеличили продажи «Друга людей», принадлежавшего перу де Мирабо. Потребление по-прежнему оставалось политическим, а не экономическим явлением. Решение о том, когда к нему стоит относиться благосклонно, а когда с недоверием, принимало правительство. Роскошь жизненно необходима для монархии, если богатые поддерживают бедных, писал де Мирабо, но она главное зло для республики, где все равны[230]230
Montesquieu, L’Esprit des lois (1748), bk VII.
[Закрыть].
В эпоху Просвещения спор о роскоши выявил два противоположных и весьма радикальных взгляда на природу человека и социальный порядок. Один ставил во главу угла самобытное «я». Согласно данной точке зрения, «я» появилось до материального мира и продолжает существовать отдельно от него. Как считал Жан-Жак Руссо, пристрастие к вещам превращает людей в рабов. Модная одежда и излишний комфорт отдаляют людей от них самих. Поэтому Руссо носил простой армейский костюм, нередко вызывая насмешки со стороны высшего общества. Главным его достижением было то, что идея о первобытном «я» стала частью политического спора о социальном равенстве. Республике нужны свободные, активные граждане, а для этого необходимо равенство. Роскошь разрушает его, превращая людей в вещи. Деспотизм и рабство растут из одного корня.
Противоположная точка зрения принадлежала Дэвиду Юму, другу Руссо, предоставлявшему ему убежище в Лондоне, пока они не рассорились в 1766 году. Находясь в ссылке, Руссо, известный своей вспыльчивостью, обвинил Юма в том, что тот плетет за его спиной интриги. Юм в своих известных «Моральных и политических очерках» писал о том, что чрезмерная роскошь вредит, однако в общем и целом «рост потребления товаров, которые украшают и улучшают жизнь, можно назвать лишь преимуществом для общества». Разница между двумя философами была ловко подмечена Алланом Рэмзи в его известных портретах 1766 года: Руссо изображен в своем простом армейском кителе, а шотландский философ – в щегольском, украшенном золотой парчой ярко-алом сюртуке, из-под которого выглядывают кружевные рукава сорочки. Роскошь, приходил к выводу Юм, делает нацию сильнее и счастливее. Там, где «нет потребности в излишествах, люди впадают в праздность, теряют интерес к жизни и совершенно бесполезны для общества». «Пассивные люди» – плохие граждане и плохие солдаты. Стремление иметь больше ведет не к деспотизму, а является защитой свободы. Потому что только так можно увеличить «средний класс», который никогда не опустится до рабства (в отличие от бедняков-крестьян) и будет мечтать тиранствовать (как высшие вельможи)[231]231
David Hume, «Of Refinement in the Arts» (1741), repr. из: Political Essays (Cambridge, 1994), 108, 112. См. также: «Of Commerce», 93—104.
[Закрыть].
Свою систему взглядов Юм именовал учением о «природе человека». Его положительное отношение к роскоши было связано с тем, что предметы, по его мнению, играют большую роль в создании «я» и гражданского общества. Если Де Мандевиль оставил дверь открытой для критиков порока и аморальности, Юм захлопнул ее у них перед носом, защитив материальные желания этикой и эмоциями. Страсть к вещам делает людей не только богаче, но и лучше. Она питает торговлю и промышленность, заставляет граждан собираться в клубах, общаться и развлекаться, а это все позволяет им «почувствовать любовь к человеческому роду». «Поэтому, – подводил итог Юм, – трудолюбие, знания и человеколюбие неразрывно связаны друг с другом, и, как нам показывает опыт и подсказывает разум, всегда являются признаками наиболее изысканных и… богатых обществ»[232]232
Hume, «Of Refinement in the Arts», 107.
[Закрыть].
Это интересное наблюдение о том, что вещи могут положительно повлиять на развитие общества, занимало еще голландских натурфилософов. В «Трактате о человеческой природе» (1739) Юм пишет о положительном влиянии вещей на личность. Хотя Юм учился в колле́дже Ла Флеш, где в свое время учился Декарт, идеи его «Трактата…» совершенно далеки от картезианства. Разум, по Юму, не принадлежит сам себе, он не существует отдельно от тела и природы. Напротив, скорее «я» является иллюзией, неким процессом, конечным результатом впечатлений и идей. Неизвестно, читал ли Юм Спинозу, который утверждал, что мысль рождается через чувства и ощущения, а потому есть часть материального мира. Однако в любом случае Юм был знаком с его учениками, Пьером Бейлем и де Мандевилем, кроме того, он частенько заглядывал в «Радужную кофейню» на Флит-стрит – излюбленное место почитателей Спинозы. Юм показал, как боль и удовольствие, которые испытывает тело, оказывают влияние на наш характер и пристрастия. Встреча с доселе невиданным предметом вдохновляет чувства и укрепляет разум. Когда «душа» пытается понять новинку, писал Юм, она сначала сталкивается с трудностями. Эта трудность возбуждает «дух» и вызывает «удивление». Со временем эмоции притупляются[233]233
David Hume, A Treatise of Human Nature (1739), 116. О сторонниках Спинозы см.: Jonathan Israel, Radical Enlightenment (Oxford, 2001). См. также: Annette C. Baier, «David Hume, Spinozist», Hume Studies XIX/2 (Nov. 1993), 237—52.
[Закрыть]. И это совсем неплохо, вторил Юму его друг Лорд Кеймс, рассуждая о значении новинок несколько лет спустя. Ведь если бы эмоции не притуплялись, мы страдали бы от перевозбуждения, и «у нас не было бы возможности ни действовать, ни размышлять»[234]234
«Novelty, and the Unexpected Appearance of Objects», Henry Home/Lord Kames, Elements of Criticism (London, 1762/1805, I, 211—21, цитата со с. 221. Сравните эссе Аддисона об удовольствиях воображения в Spectator, no. 412.
[Закрыть]. Чтобы мы постоянно чему-то удивлялись, мы должны видеть новинки. Психологический эффект новинок буквально заворожил шотландских просветителей, заставил их по-новому взглянуть на моду и роскошь. Новые вещи вовсе не превращают нас в предметы, не отдаляют нас от своего «я», наоборот, они возвращают нас самим себе. Остановите поток новых товаров, и вы увидите, что «я» лишится драгоценных впечатлений, благодаря которым оно ощущает себя живым.
В наше время потребление настолько часто ассоциируется с эгоизмом, что волей-неволей хочется вспомнить, как высоко деятели XVIII столетия ценили страсть человека к вещам за ее пользу для общества. Благополучие, социальный порядок и желание творить добро взаимосвязаны. Как имущество помогает в достижении этих добродетелей? Юм указывал на то, что, пользуясь каким-либо предметом, владелец получает удовольствие, потому что думает о цели, которой этот предмет послужит. О том, что средства для достижения удовольствия иногда оценивались выше, чем само удовольствие, Юм не написал, но за него это сделал Адам Смит в своей книге «Теория нравственных чувств» (1759). Люди набивают свои карманы «маленькими удобствами» и придумывают «новые карманы», чтобы носить еще больше вещей. Они разгуливают, «загруженные разнообразными побрякушками», которые не приносят никакой конкретной пользы и поэтому «уж никак не стоят той усталости, которая появляется в теле от таскания с собой подобной тяжести». И все же люди продолжали покупать еще и еще. Смит писал, что люди влюблены в «бесчисленные искусственные и элегантные побрякушки», потому что они считают их «средствами достижения счастья». Сам по себе футляр для щипчиков выглядит ненужным и незначительным. Однако «в нашем воображении» он является частью гармоничной системы, которая превращает такие мелочи в нечто «грандиозное, красивое и благородное»[235]235
Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments (London, 1759), Part IV, гл. 1. Я цитировал 6-е издание 1976 года (1790), 179—87.
[Закрыть]. Это заблуждение всегда наделяло человеческий род энергией, заставляло его обрабатывать землю, строить города, развивать науку и возможности для обмена информацией.
Корысть теперь была оправданна, ведь она служит на благо всех остальных членов общества. Умение ставить себя на место другого человека активно культивировалось для поддержания общественного порядка. Ведь если бедняк сможет вообразить себе, что когда-нибудь в будущем он станет владельцем особняка, едва ли он захочет избавляться от богачей. В прошлом считалось, что потребление необходимо регулировать, потому что казалось, будто бездумные траты могут пошатнуть общество. Это представление в корне неверно, объявил Смит. К роскоши стремились, желая испытать «удовольствие от момента». Ради нее люди могли «иногда совершать жестокие вещи», однако это было, скорее, «исключением из правила», допустимым в свете куда более страстного желания улучшить окружающий мир, которое, как полагали, свойственно людям всю жизнь. Это желание заставляет человека экономить, чтобы скопить состояние. Обычно тех, кто бережлив, намного больше, чем тех, кто расточителен. Приумножение богатств Англии – прямое тому доказательство. Потребление можно спокойно предоставить самим потребителям. Из всего этого Смит делает следующий вывод: «Огромнейшей глупостью и бесцеремонностью со стороны королей и министров было делать вид, что они следят за экономикой свободных граждан, а также накладывать ограничения на их расходы, используя либо сумптуарные законы, либо запрет на импорт иностранных предметов роскоши. Главными транжирами общества всегда были они, а не их подданные»[236]236
Smith, Wealth of Nations bk II, гл. 3, 362—7.
[Закрыть].