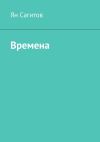Автор книги: Франк Трентманн
Жанр: Экономика, Бизнес-Книги
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 70 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Принятие того факта, что Китай активно развивался экономически в раннее Новое время, привело к жарким спорам о том, действительно ли Голландия и Англия были более процветающими странами. По мнению исследователя Китая Кеннета Померанса, в Нижней Янцзы – наиболее развитой части страны – уровень жизни в 1800 году был сопоставим с уровнем жизни в Англии и Нидерландах того периода. «Великое расхождение» двух регионов случилось, по его мнению, в XIX веке и вовсе не по причине прогрессивности Европы, а скорее, как в случае с Великобританией, благодаря географическому везению и имперской мощи – именно эти факторы стали ключевыми в появлении первой промышленной державы, богатой углем, рабами и дешевой едой[153]153
Pomeranz, Great Divergence; для сравнения Prasannan Parthasarathi, «The Great Divergence», Past & Present 176, 2002: 275—93; Robert Brenner & Christopher Isett, «England’s Divergence from China’s Yangzi Delta: Property Relations, Microeconomics and Patterns of Development», из: Journal of Asian Studies 61, no. 2, 2002: 609—22; а также Kenneth Pomeranz, «Standards of Living in Eighteenth-Century China: Regional Differences, Temporal Trends, and Incomplete Evidence», из: Standards of Living and Mortality in Preindustrial Times, eds. Robert Allen, Tommy Bengtsson & Martin Dribe (Oxford, 2005), 23–54.
[Закрыть].
Недавние исследования подтверждают, что доходы британцев действительно сократились в период между 1740 и 1800 годами, однако они также показывают, что данное снижение было небольшим, особенно если учесть, что в течение четырех веков после «черной смерти» доходы в Британии оставались невероятно высокими. Хотя это считается предпосылкой к экспансии империи, по большому счету высокие доходы были обусловлены небольшой численностью населения и дешевой энергией, которая способствовала развитию инноваций и повышению продуктивности. Именно благодаря этому были сделаны такие великие открытия, как паровая машина Томаса Ньюкомана (1710), а также менее масштабные, но не менее значимые, например, отдельный конденсатор пара Джеймса Уатта, появившийся в 1760-х годах и повысивший эффективность паровой машины Ньюкомана. Уже в XVII веке европейские страны отличались друг от друга по уровню своего развития. Также в это время наметилось отделение Востока от Запада. Рабочие в Дели и Пекине едва сводили концы с концами, их положение было сходно с положением рабочих во Флоренции и Вене. А вот рабочие Лондона и Амстердама оказываются в противоположном лагере, потому что их рацион отличался бо́льшим разнообразием и был более питателен, включал в себя мясо, алкоголь и пшено (вместо овса). Хотя во время Промышленной революции разрыв между достатком английских рабочих и их хозяев активно рос, им, тем не менее, все равно жилось лучше, чем их собратьям в Азии или Восточной Европе[154]154
Robert C. Allen, The British Industrial Revolution in Global Perspective (Cambridge, 2009); Robert C. Allen et al., «Wages, Prices and Living Standards in China, Japan and Europe, 1738–1925», GPIH Working Paper no. 1, (2005); а также Stephen Broadberry & Bishnupriya Gupta, «The Early Modern Great Divergence: Wages, Prices and Economic Development in Europe and Asia, 1500–1800», Economic History Review 59, no. 1, 2006: 2—31. Сравните с: Jane Humphries, «The Lure of Aggregates and the Pitfalls of the Patriarchal Perspective: A Critique of the High Wage Economy Interpretation of the British Industrial Revolution», Economic History Review 66, 2013: 693–714; а также Robert C. Allen, «The High Wage Economy and the Industrial Revolution: A Restatement», Economic History Review 68, no. 1, 2015: 1—22.
[Закрыть].
Можно возразить, что доходы – не самый лучший критерий при сравнении различных сообществ. В Европе год от года рабочих становилось больше, в то время как в Китае пролетариев было мало – это были бедные, изолированные от общества люди, как правило, не имевшие семьи, а вот фермеры-арендаторы, жившие в дельте Янцзы, были более состоятельными.
Разница в уровне жизни

Доходы рабочих по отношению к ценам на продукты питания:
1 – прожиточный минимум
4 – доходы в 4 раза выше прожиточного минимума
Источник: Robert Allen «The British Industrial Revolution in Global Perspective» (2009), стр. 40.
В то же время, например, в Индии ткачи получали питание, жилье и другие льготы в дополнение к своей зарплате, что усложняет возможность прямого сравнения[155]155
Kenneth Pomeranz, «Chinese Development in Longrun Perspective», из: Proceedings of the American Philosophical Society 152, 2008: 83—100; а также Prasannan Parthasarathi, Why Europe Grew Rich and Asia Did Not: Global Economic Divergence, 1600–1850 (Cambridge, 2011), 37–46.
[Закрыть]. Исследование историка Бочжун Ли говорит о том, что в 1820-е годы жизнь в Сунцзяне, находящемся недалеко от Шанхая, была более чем достойной. Крестьяне потребляли 2780 ккал в день – показатель, которого Китаю удалось достичь вновь лишь в 2000 году и который даже несколько превышает дневную норму, рекомендованную экспертами в области здравоохранения. Сунцзянцы пили в два раза больше чая, чем британцы, ели в полтора раза больше сахара и, что самое удивительное, курили табак и опиум – «веселого дружка»[156]156
Bozhong Li, «Xianminmen chi de bucuo», Deng Guangming xian-sheng bainian shouchen jinian wenji (2008). Выражаю благодарность Бочжун Ли за английскую версию этой статьи. Данные по опиуму см.: Zheng Yangwen, The Social Life of Opium in China (Cambridge, 2005).
[Закрыть]. Тем не менее Великобритания значительно опережала Китай по количеству вещей, которые были доступны ее населению. Простые люди могли позволить себе не только хлеб, сыр, льняное белье и свечи, входящие в стандартную потребительскую корзину, которую используют для сравнения уровня жизни в разных регионах в тот период. Что касается китайских фермеров-арендаторов, которые занимались дополнительно выращиванием хлопка, то зачастую им удавалось достичь определенного благополучия. И все же род их занятий не позволял взобраться выше по общественной лестнице, а тот факт, что им приходилось заниматься разными видами деятельности, ограничивал возможность специализации в чем-то одном и, следовательно, снижал шансы на изобретения. В мире, где большинство стран стремительно передвигалось по пути индустриализации, это означало большое отставание.
Дебаты об уровне жизни концентрируются преимущественно на положении рабочих, в то время как для правильного ответа на данный вопрос не менее важно рассматривать и группы с более высоким социальным статусом. Великобритания отличалась многочисленностью среднего класса – купцами, юристами и учеными, военными и промышленниками. Четыре из десяти семей в 1750-х годах имели ежегодный доход £40 или выше, что в два раза больше, чем было необходимо для выживания. Это сословие тратило много средств на комфорт и удобства. Несмотря на то, что в ходе Промышленной революции в Великобритании неравенство усилилось, ее средний класс по сравнению с Китаем, Индией и Южной Европой был огромным, а также весьма самодостаточным[157]157
В Японии в период Эдо было, возможно, больше равенства, однако она была закрыта для международной торговли. Уровень жизни японцев в этот период может недооцениваться историками, так как многие крестьянские семьи получали земельные паи, а также дополнительный доход приносили в семью жены и дети, и кроме того, были возможности заниматься несельскохозяйственными подработками. См.: Osamu Saito, «Growth and Inequality in the Great and Little Divergence Debate: A Japanese Perspective», Economic History Review 68, 2015: 399–419; а также Osamu Saito, «Income Growth and Inequality over the Very Long Run: England, India and Japan Compared», (2010), по ссылке: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/rp/publications/no02/ P1-C1_Saito.pdf.
[Закрыть]. Именно его представители ответственны за ту динамичность, с которой рос мир вещей, ведь с его помощью они завоевывали свое место в обществе. Вместо того чтобы подражать элите, эта многочисленная группа использовала новые товары и модные тенденции, чтобы отличиться, и создала таким образом свою собственную индивидуальную культуру комфорта.
В оригинальной теории о рождении общества потребителей в Великобритании подражание считается матерью спроса, а «повивальной бабкой», по словам МакКендрика, являлась «дочка мельника, которая хотела одеваться, как герцогиня»[158]158
Neil McKendrick, «Home Demand and Economic Growth», из: N. McKendrick, ed., Historical Perspectives (London, 1974), 209.
[Закрыть]. Современники постоянно высмеивали самовлюбленных потребителей. Это вовсе неудивительно. Революция в одежде безжалостно прошлась по древней системе соотнесения одежды со статусом. Вместо того чтобы сообщать о происхождении человека, одежда вдруг стала демонстрировать его личность. Слуги, которые одевались богаче, чем позволяло им их положение в обществе, становились причиной для особого беспокойства. «Невероятно сложно, – жаловался Даниель Дефо в 1725 году, – отличить хозяйку от служанки по платью; более того, очень часто служанка выглядит еще изящнее своей госпожи». Данная тенденция запустила порочный круг трат: «служанка пыталась перещеголять свою хозяйку, жена купца хотела обойти жену джентльмена, жена джентльмена копировала леди, а леди подражали друг другу»[159]159
Daniel Defoe, Everybody’s Business is Nobody’s Business (1725), Defoe’s Works, Vol. II (London, 1854 edn), 499 f., 504.
[Закрыть].
Однако для убедительного исторического аргумента подобных жалоб мало. Во-первых, негативное отношение к подражанию встречается во многих сообществах того времени, в том числе и в Китае, как мы видели выше. Во-вторых, подражание редко было основным мотивом при выборе нового стиля и одежды. Слуги зачастую не имели другого выбора, кроме как носить поношенную одежду своих хозяев. Британские ремесленники и рабочие придавали большое значение своему платью вовсе не потому, что хотели выдать себя за герцога или герцогиню, а из-за того, что хотели не отставать от равных себе по статусу, показать свой возраст и независимость или получить работу получше[160]160
См. Styles, Dress of the People.
[Закрыть]. Если говорить в общем, то распространение модных новинок опровергает теорию «просачивания благ сверху вниз». Женщины из высшего общества, например, начали носить ситец на лицевой стороне своих гаунов только в 1690-х годах, когда повсеместное сумасшествие по нему стало сходить на нет. В действительности вместо того, чтобы повторять за аристократией, средний класс сам зачастую задавал вектор моды.
Схожим образом «революция трудолюбия» представляет собой историческую интерпретацию, появление которой связано с тем, что ее авторы живут в современном мире. В начале XVIII века Даниель Дефо рассказывал о том, что в ткацких семьях работали все: и мужья, и жены, и их дети. Их объединенный доход он назвал «приемлемым». В 1770 году мыслитель эпохи Просвещения Джеймс Стюарт заключил, что если раньше люди работали, потому что они были вынуждены, то «теперь они работают, потому что являются рабами своих собственных желаний». Историк-экономист Ян Де Фрис утверждает, что как раз это и происходило в Голландии и Великобритании в период раннего Нового времени. Отталкиваясь от теорий лауреата Нобелевской премии экономиста Гэри Беккера, Де Фрис изображает семью как экономическую единицу, принимающую рациональные решения о том, как ей наилучшим образом распределить свое время. Вместо того чтобы производить самим то, что им необходимо, члены семьи начинают продавать свой труд на рынке, чтобы получить больше денег и, соответственно, получить возможность купить больше вещей. Желание пить чай, есть сахар и потреблять многие другие товары заставляет семьи целиком вливаться в ряды тех, кто работает за зарплату. Оно же вынуждает их работать дольше и усерднее. Так революция потребностей повлекла за собой Промышленную революцию[161]161
Jan De Vries, «The Industrial Revolution and the Industrious Revolution», Journal of Economic History 54, no. 2, 1994: 249—70.
[Закрыть].
На первый взгляд данная теория выглядит привлекательно. Спрос перестает быть простой реакцией на предложение и превращается в главное звено цепочки. Это также хорошо объясняет тот факт, что потребление в Великобритании во второй половине XVIII века росло, несмотря на то, что зарплаты сокращались. Однако во всем остальном данная теория не выдерживает критики. Основная проблема заключается в том, что она рассматривает середину процесса и путает причину и следствие. То, что в конечном итоге люди стали покупать больше потребительских товаров, вовсе не означает, что именно ради них они решили работать больше. На самом деле все, скорее, было наоборот. Пуритане начали читать проповеди о «трудолюбии» еще в начале XVII века, когда страна переживала не лучшие времена[162]162
Ссылаюсь на: Craig Muldrew, Food, Energy and the Creation of Industriousness: Work and Material Culture in Agrarian England, 1550–1780 (Cambridge, 2011).
[Закрыть]. Люди действительно стали работать дольше и больше, но не для того, чтобы развлечь себя новыми покупками, а чтобы выжить. Условия жизни улучшились спустя столетие после Английской гражданской войны (1642–1651), и когда это произошло, рабочие стали тратить излишек денег на более качественную мебель, на чай, сахар и прочие новинки. Другими словами, их предпочтения по большому счету не изменились. Трудолюбие же было не желанием людей, а, идеалом, моралью, которую общество навязывало человеку, указывая, как ему следует жить. В свою очередь, либерализм и империализм распространили эту идею во все уголки остального мира. Для большинства рабочих сокращение свободного времени в угоду большему объему работы было, скорее всего, необходимостью, а не добровольным выбором. Они поступали так из-за растущих цен на еду, а не ради реализации своих материальных желаний. Рабочие часы возросли на треть[163]163
Hans-Joachim Voth, Time and Work in England, 1750–1830 (Oxford, 2001). Действительно ли у рабочих позднего Средневековья было так много свободного времени, вопрос спорный; см.: Gregory Clark & Ysbrand van der Werf, «Work in Progress? The Industrious Revolution», Journal of Economic History 58, no. 3, 1998: 830—43.
[Закрыть] во второй половине XVIII века, и вновь это было обусловлено галопирующей инфляцией и ужесточением условий труда в течение этих десятилетий.
В исследовании 1790-х годов под названием «Государство бедных» Фредерик Иден приводит годовой бюджет среднестатистического шахтера и его семьи, проживавших в то время в Камберленде. Сам шахтер зарабатывал £26 в год. Его жена и дети приносили дополнительно £18[164]164
Frederic Morton Eden, The State of the Poor: Or, an History of the Labouring Classes in England (London, 1797), Vol. II, 87—8.
[Закрыть]. Из годовых расходов семьи, которые составляли £44, целых £3 и 10 шиллингов тратились на чай и сахар. Значит ли это, что они занимались промыванием руды только для того, чтобы позволить себе чай и сахар? Или они делали это с целью обеспечить плату за аренду жилья (£3) и покрыть убытки, связанные с беременностями жены и ее невозможностью работать в эти периоды (£20 за все годы)? Скорее всего, не мечты о новинках или стремление произвести впечатление вынуждали эту семью покупать чай, сахар и свечи. Они пользовались этими предметами, чтобы иметь возможность работать глубокой ночью, не мерзнуть и не засыпать при этом.
Связь между желанием иметь больше и решением работать усерднее не всегда существует. В Великобритании изначальный спрос на потребительские товары обеспечивал средний класс, который не становился при этом более трудолюбив: жены купцов не работали. В XVII веке фермеры Фрисландии действительно предпочитали специализироваться на каком-либо одном продукте и продавать его в бо́льших количествах, а на вырученные деньги покупать то, что не производили сами, в том числе диковинки и новинки. А вот в Каталонии, переживавшей индустриализацию в течение следующего века, многие по-прежнему брались за дополнительную работу, при этом новинки в их домах были большой редкостью. Тем временем в процветающем Кенте семьи скупали столовые приборы и занавески, однако они чаще по сравнению с другими сами пекли хлеб и варили пиво, а не покупали их[165]165
Julie Marfany, «Consumer Revolution or Industrious Revolution? Consumption and Material Culture in Eighteenthcentury Catalonia»; об ограниченном числе новых предметов см.: J. Torras & B. Yun, eds., Consumo, condi-ciones de vida y comercialización: Catalunˇa y Castilla, siglos XVII–XIX (Castile and León, 1999); Jan De Vries, «Peasant Demand Patterns and Economic Development: Friesland 1550–1750», из: European Peasants and Their Markets, eds. W. N. Parker & E. L. Jones (Princeton, NJ, 1975); а также Mark Overton, Jane Whittle, Darron Dean & Andrew Hann, Production and Con-sumption in English Households, 1600–1750 (London, 2004).
[Закрыть]. Разумеется, никакого прямого пути от желания иметь новое к росту и разделению труда в развивающихся обществах не было, так как, вопреки теории трудолюбия, еще не существовало «искушений», способных поголовно завлекать людей на рынок труда ради приобретения новых товаров. Сами желания людей отличались друг от друга в зависимости от географии их проживания, правил приличия и политики институтов власти, принятой в разных местах. Так что, хотя на севере-западе Европы покупательная способность была высокой, одного этого факта недостаточно для объяснения всех тех изменений, что происходили в потреблении на протяжении XVII–XVIII веков.
Европу от Азии отличала государственная система, нацеленная на экспансию и отвечающая на давление конкурентов инновациями и созданием новых рынков. И, пожалуй, самый яркий тому пример – Великобритания, которая создала трансатлантический рынок и параллельно развивала текстильную промышленность, подражая более умелым индийским ткачам, при этом надежно защитив ее запретом на импорт. Индийским ткачам сначала не хватало мотивации, чтобы совершенствовать свою продукцию, ведь, в конце концов, она действительно была на тот момент самой лучшей, а после, к концу XVIII века, когда они почувствовали серьезную конкуренцию со стороны британских производителей, на их стороне не оказалось сильного государственного аппарата, который мог бы их защитить.
Связь между желанием иметь больше и решением работать усерднее не всегда существует.
А вот различия внутри Европы не так очевидны. Великобритания и Нидерланды смогли обогнать другие страны Европы благодаря своеобразному мышлению и политике государственных институтов, которые подталкивали граждан – и в особенности женщин – присоединяться к рядам рабочих и становиться потребителями. Как мы смогли убедиться, регионы, подобные Вюртембергу, развивались медленнее не потому, что их жительницы не имели материальных желаний, и не потому, что они не хотели работать больше, чтобы больше зарабатывать, а из-за того, что их наказывали, если они потакали этим своим желаниям. В 1742 году, например, жене вязальщика, которая работала независимо от мужа, местный деревенский суд приказал прекратить работу и вернуться к мужу. Владельцы магазинов требовали от городского правления запретить уличных торговцев, а мужья запрещали своим женам покидать дом в поисках работы, и в этом их абсолютно поддерживали власти. Гильдии сводили к минимуму мобильность рабочей силы. Все вместе – мужья, отцы, церкви и гильдии – стояли на страже социальной дисциплины, неведомой в Англии[166]166
Ogilvie, «Consumption, Social Capital, and the «Industrious Revolution» in Early Modern Germany».
[Закрыть]. Сравните это положение дел с Лондоном 1455 года, где женщины, крутившие шелк, заявляли, что таких, как они, «больше тысячи», среди них «много леди», которые живут «в чести» и поддерживают свои семьи[167]167
Цитата из: DuPlessis, Transitions to Capitalism in Early Modern Europe, 36.
[Закрыть].
Благодаря раннему образованию центрального государства Англия была избавлена от изобилия органов местной и региональной власти, которые мешали передвижению потоков товаров на континенте. Английское правительство направляло свою силу на внешний мир. Показательно ее сравнение с Испанской империей. Первой начав импортировать такие экзотические товары, как шоколад и табак, Испания должна была наилучшим образом использовать такой хороший старт для успеха в дальнейшей гонке. Однако в действительности Испания быстро отстала. Ее главная стратегия, которая заключалась в том, чтобы отнимать ресурсы у колоний, а не превращать их в дополнительные рынки для сбыта своих товаров, оказалась проигрышной. Метрополия на Пиренейском полуострове страдала от фрагментации региональной власти, проблем с валютой, налогов, а также от больших расстояний и плохого транспорта. Кастилия и Наварра имели собственные пошлины на импорт и экспорт, и они могли выпускать свои собственные монеты. У многих городов также были свои финансовые полномочия. Обремененные долгами города, такие как Севилья, могли оставаться на плаву благодаря налогам на потребление[168]168
Regina Grafe, Distant Tyranny: Markets, Power and Backwardness in Spain, 1650–1800 (Princeton, NJ, 2012).
[Закрыть]. Все эти препятствия неизбежно ограничивали возможность испанцев выбирать новые товары. К середине XVIII столетия, к примеру, лишь каждая четвертая семья со средним доходом имела специальную тарелку для горячего шоколада. Однако кое-что менялось, конечно, в лучшую сторону, особенно в том, что касалось текстильной промышленности. В городе Паленсия на северо-западе Испании среднестатистической семье удалось расширить свой гардероб с 42 до 71 предмета одежды спустя 80 лет после 1750 года. И все-таки новые товары скорее просачивались, чем текли рекой. За пределами Мадрида, в провинциальных городах вроде Сантандера, салфетки и скатерти – главные показатели изысканного вкуса – стали более-менее распространены лишь в начале XIX века. Неудивительно, что даже во многих урбанизированных регионах Испании хлопок заменил лен только в 1830-х годах[169]169
Fernando Carlos Ramos Palencia, «La demanda de textiles de las familias castellanas a finales del Antiguo Régimen, 1750–1850: ¿Aumento del consumo sin industri-alización?», из: Revista de historia económica 21, no. S1, 2003: 141—78; а также Torras & Yun, eds., Consumo, condiciones de vida y comercialización.
[Закрыть].
В Великобритании правительство и интегрированный рынок создали более благоприятную среду для распространения товаров. Это был важный фактор для роста потребления в этой части мира. Однако наличие благоприятных условий не означает умения извлекать из них максимальную выгоду. Та движущая сила, которая заставляла людей все больше и больше погружаться в мир вещей, все равно остается скрытой. Как мы видели в случае с хлопком, британское правительство защищало свою промышленность от конкуренции иностранных производителей. Однако спрос на сам товар уже существовал: государство не создавало его, а просто направило в нужное русло. Чтобы понять, каким образом вещи стали столь неотъемлемой частью человеческой жизни в современном обществе, нам необходимо рассмотреть культурные факторы, наделившие вещи новым смыслом и значимостью.
2
Расцвет потребления
Первоначальной реакцией было отвращение. Итальянец Джироламо Бенцони первым увидел, как выращивают и перерабатывают какао в Никарагуа в 1550-х годах. Местные жители смешивали воду, немного перца, иногда мед и взбивали эту смесь в пену. В результате получался напиток, который «больше подходил свиньям, чем людям»[170]170
Girolamo Benzoni, La historia del Mondo Nuouo (1572 edn; 1st edn, Venice, 1565), 103, перевод мой.
[Закрыть]. Через 60 лет английский поэт Джордж Сандис во время своего путешествия по Турции заметил, что жители этой страны ходят не в таверны, а в «кофейные дома». Там они общаются друг с другом и небольшими глотками пьют напиток, изготовленный из зерен, «настолько горячий, насколько они только могут вытерпеть: черный, как сажа, и по вкусу очень на нее похожий»[171]171
George Sandys, Travels (1615), цитата в: Anon., The Vertues of Coffee (London, 1663), 8, reprinted in Markman Ellis, ed., Eighteenth-century Coffee-house Culture, Vol. IV (London, 2006).
[Закрыть]. А всего через сто лет и аристократы, и купцы были подсажены на «кофейную» иглу. Пять экзотических продуктов, вызывающих привыкание, покорили Европу: чай из Китая, кофе и тростниковый сахар с Аравийского полуострова, табак и какао из Нового Света. В Габсбургской Испании и Австрии знать проводила шоколадные приемы (las Chocolatadas). По всей Европе уважаемые горожане и образованные господа собирались в кофейных домах. К середине XVIII века слуги и ремесленники также оценили по достоинству вкус чая и кофе. К 1900 году экзотика полностью покорила Европу. Даже шоколад стал массовым продуктом, который употребляли как солдаты с рабочими, так и светские дамы. Когда-то дорогие и экзотические, предметы роскоши превратились в товары ежедневного потребления.
Внедрение и популяризация новых товаров являются основными чертами современной культуры потребления. Прослеживая драматические изменения в судьбе экзотических напитков, мы сможем понять, как появилась и распространилась на них мода, а также увидим, какие исторические личности и события стояли за этим. Судьбы чая, кофе и шоколада связаны с перемещением и обесцениванием. Произошло беспрецедентное глобальное перемещение растений, людей и привычек. В своих колониях европейские империи создавали новые территории производства в тропиках. Во времена ацтеков какао в основном выращивали в Соконуско, вдоль берега Тихого океана Мексики. Голландцы перевезли какао в Венесуэлу, католические миссионеры – на Филиппины. Во время путешествия Сандиса кофе выращивали только в Йемене и перевозили из порта Моха. Позже голландцы начали выращивать кофе в Суринаме (1718), французы – на Мартинике (1723), британцы – на Ямайке (1728). В 1840-х годах британцы разбили колониальные плантации чая в Ассаме и на Цейлоне. Сахарный тростник, который первоначально рос в дикой природе в Юго-Восточной Азии, был привезен в Средиземноморье арабами, а затем европейцы перевезли его с Мадейры и Канарских островов в Вест-Индию. Современники осознавали всю важность этих перемещений. В 1773 году французский писатель Жак-Анри Бернарден де Сен-Пьер признался, что хотя и не знает, в какой степени кофе и сахар повлияют на судьбу Европы, но уверен, что эти два продукта стали причиной ужасной трагедии двух континентов. Коренное население Америки истреблялось, так как европейцам нужна была свободная земля для возделывания; сокращалось и население Африки – европейцы увозили местных жителей, потому что для работы на новой земле им требовались люди[172]172
J. H. Bernadin de Saint-Pierre, Voyage à l’Îsle de France (1773).
[Закрыть].
О каждом из этих продуктов, вызывающем привыкание, написано много книг. Одной из первых стала работа Сидни Минца под названием «Сладость и власть: место сахара в современной истории» (1985), которая считается точкой отсчета для нового литературного жанра – биографии продукта[173]173
Sidney Mintz, Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History (New York, 1985).
[Закрыть]. Привлекательность подобного жанра легко объяснить. Во-первых, прослеживая жизнь продукта, мы видим взаимосвязь между режимами производства и потребления, которые могут находиться по разные стороны океана и иметь свою национальную историю. Теплая чашка сладкого чая в Великобритании непосредственно связана с жестокостью на рабовладельческих плантациях в Карибском бассейне. Во-вторых, товары, как и люди, ведут «социальную жизнь»[174]174
Arjun Appadurai, ed., The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective (Cambridge, 1986). См. также: Robert J. Foster, «Tracking Globalization: Commodities and Value in Motion», из: Handbook of Material Culture, eds. Christopher Tilley, et al. (London, 2006); Felipe Fernández-Armesto, Food: A History (London, 2002).
[Закрыть]. Их характер и ценность меняются с течением времени и в зависимости от места, занимаемого ими в пищевой цепи. Для правителей ацтеков какао-бобы были данью, платежным средством, а также использовались в религиозных ритуалах. Сегодня коробку с чаем можно преподнести в качестве подарка.
Однако биографии продуктов зачастую объясняют слишком много, приписывая каждому растению особый вес в мировой истории. Экзотические продукты породили множество историй и легенд. Согласно одной из них, этикет чаепития и употребления кофе «просочился» из королевских дворов Европы в средний класс, желавший выделиться, а после распространился и среди всего остального населения[175]175
Elias, The Civilizing Process. Габриель Тард сформулировал похожую модель «сверху вниз» еще в 1890-е.
[Закрыть]. Другая история утверждает, что кофейные дома стали местом рождения общественной жизни[176]176
Jürgen Habermas, The Transformation of the Public Sphere (Cambridge, 1989; 1st German edn, Germany, 1976).
[Закрыть]. Некоторые зашли настолько далеко, что увидели в преимуществе кофе перед шоколадом триумф умеренного, современного, протестантского европейского Севера над самовлюбленным, вычурным, католическим европейским Югом[177]177
Wolfgang Schivelbusch, Tastes of Paradise: A Social History of Spices, Stimulants and Intoxicants (New York, 1992).
[Закрыть]. Согласно еще одной точке зрения, британский чай и сахар сковали имперскую цепь между колониальным рабством и фабричным трудом в метрополии[178]178
Mintz, Sweetness and Power.
[Закрыть]. Проблема здесь кроется в том, что уникальность и важность одного напитка в одном месте начинают меркнуть, если сравнивать его с другими напитками в других условиях. В протестантской Европе, например, рабочим на фабриках давали пиво, джин и бодрящий кофе. Великие страны с развитыми традициями чаепития, включая Россию и Китай, имевшие также сильную имперскую власть и рабочий класс, все же совершенно не похожи на Великобританию. Тем не менее рассмотреть каждый из экзотических напитков мы все-таки должны. В конечном счете они остались в выигрыше именно потому, что оказались необычайно универсальными, смогли приспособиться к различным социальным группам, культурам и экономическим режимам. Это касается и колоний, и небольших стран, и имперских метрополий.
С точки зрения мировой истории культивирование продуктов, которые вызывают привыкание, открыли вовсе не европейцы – наоборот, им пришлось «наверстывать упущенное»[179]179
Сравните с более евроцентрической трактовкой: Fernand Braudel, The Structures of Everyday Life (New York, 1979/1981), 249—60.
[Закрыть]. Напитки с кофеином или теобромином (следы которого также найдены в какао) были долгое время связаны с другими цивилизациями. Размельченный зеленый чай был распространен в империи Мин, в то время как черный чай с молоком пили маньчжуры во Внутренней Азии. Кофе употребляли на Среднем Востоке с XV века, когда суфиты открыли технику обжарки зерен и распространили новый горячий напиток в Каире и Мекке. В Восточной Африке был кат, а чуть западнее – орех кола, который жевали в большом количестве по утрам, чтобы «забыть злобу от сдержанности», как говорили в народе хауса[180]180
Heinrich Barth, Reisen und Entdeckungen in Nord– und Zentralafrika in den Jahren 1849—55 (Wiesbaden, 1858/1980), 238, перевод мой.
[Закрыть].
Власть оказывала значительное влияние на привычки и традиции как в Новом, так и в Старом Свете. В конце XVI века испанские иезуиты перевезли плантации какао из традиционных мест в Мексике в Каракас (Венесуэла) и Гуаяс (Эквадор). Шоколад распространился по всей Центральной Америке. Большое количество какао-бобов, выращиваемых в Венесуэле, потреблялось здесь же. В Лиме шоколад пила колониальная элита. В Гватемале и Никарагуа шоколад пили все. На Филиппинах этот популярный напиток готовили по-своему, добавляя к нему нерафинированный сахар, иногда орех пили и жареный рис. В 1898 году ситуацию изменили американцы, которые предпочитали кофе.
Вторым напитком потребительской революции в Латинской Америке, о котором зачастую забывают, является мате – парагвайский кофеиносодержащий чай, изготовленный из вечнозеленого растения падуба парагвайского (Ilex paraguariensis). Изначально падуб парагвайский рос в дикой природе, но миссионеры начали выращивать его на плантациях. Его продавали по всему субконтиненту, от Чили и Перу до Монтевидео (Уругвай). В действительности мате был таким же экзотическим напитком в Буэнос-Айресе, как кофе в Лондоне и Париже. В итоге мате стал даже более социальным напитком, чем чай или кофе. Те, кто пил мате, передавали калабас по кругу вместе с бомбильей или соломинкой. Культура вспомогательных принадлежностей, которая ассоциируется с европейскими чайными церемониями, на самом деле была распространенным мировым феноменом. Серебряные соломинки и калабасы в серебряных оправах добрались даже до высокогорий Эквадора. Как и в случае с европейскими чайными церемониями и посиделками за чашкой кофе (Kaffeekränzchen), ритуалы с мате превращали женщин в самых главных потребителей, как хранительниц домашнего очага, и вместе с этим в потенциальных расточительниц. В 1780-х годах один исследователь писал, что «нет такого дома, бедного или богатого, где мате не стоял бы на столе, и не существует более приятного занятия, чем рассматривать богато украшенную посуду, предназначенную для этого напитка»[181]181
Antonio de Alcedo, 1786, цитата из: Ross W. Jamieson, «The Essence of Commodification: Caffeine Dependencies in the Early Modern World», Journal of Social History, 2001: 269—94, 278. См. также: William Gervase Clarence-Smith, Cocoa and Chocolate, 1765–1914 (London, 2000); а также William Gervase Clarence-Smith & Steven Topik, eds., The Global Coffee Economy in Africa, Asia and Latin America, 1500–1989 (Cambridge, 2003).
[Закрыть].
Почему же европейцы так пристрастились к экзотическим напиткам? Тот факт, что они содержат алкалоиды, способные вызывать привычку, сыграл свою роль, но едва ли этого было достаточно. Для начала нужно было преодолеть вкусовые барьеры. К тому же не стоит преувеличивать силу привыкания к этим напиткам. Многие пили их разбавленными. Например, к 1780-м годам фермеры, жившие в горах, полюбили кофе, однако в их исполнении этот напиток был «настолько разбавленным, что едва передавал цвет зерен»[182]182
Johann Kaspar Riesbeck, 1780, цитата в: Christian Hochmuth, Globale Güter – lokale Aneignung: Kaffee, Tee, Schokolade und Tabak im frühneuzeitlichen Dresden (Konstanz, 2008), 64, перевод мой.
[Закрыть]. В Австрии текстильщики в это время регулярно пили кофе[183]183
Roman Sandgruber, Bittersüße Genüße: Kulturgeschichte der Genußmittel (Vienna, 1986), 80f.
[Закрыть]. Чаще всего привычка становилась важнее вещества, вызывающего привыкание. В 1900 году большинство жителей континентальной Европы продолжали пить «заменитель» кофе, изготовленный из цикория или желудей, в котором совсем не было кофеина; настоящий кофе заменил молоко в деревнях Австрии только спустя несколько десятилетий. Разумеется, то, что европейцы были достаточно сильны, чтобы бороздить океаны, завоевывать государства и порабощать Африку, имеет значение, но, с другой стороны, система плантаций в Атлантическом океане пала бы, если бы не их аппетит к сахару и кофе. Так что главным по-прежнему остается вопрос, как и почему изменились вкусы и привычки европейцев. И на этот вопрос не так-то просто дать ответ.

Маршруты перевозки товаров и рабов в 1770 году
В отличие от изменений индивидуальных вкусовых привычек, например, внезапного пристрастия ребенка к кислому или горькому, изменение вкусовых привычек целой нации проходит очень медленно. В рамках этого процесса меняются и вкусовые критерии, и группы людей, которых в разное время считали знатоками вкусов. Во время первой фазы распространения экзотических напитков в Европе – с XVI до начала XVIII века – этим занимались лишь единицы. В 1724 году потребление кофе по всей Англии составляло лишь 660 тонн. Из расчета на единицу населения эта цифра превращается в одну чашку кофе раз в три недели. И это еще довольно удачный год. Потребление чая было немногим больше[184]184
Специальный импорт чая составил 540 тонн в 1724 году, однако при одинаковом весе чайные листья производят в четыре раза больше напитка. При подсчете я учитывал потерю веса при обжарке. Подсчеты основываются на данных по специальному импорту из: Elizabeth Boody Schumpeter, English Overseas Trade Statistics 1697–1808 (Oxford, 1960), таблица XVIII.
[Закрыть]. Какао начали продавать начиная с 1590-х годов, но даже 100 лет спустя из Венесуэлы в Испанию привозили лишь 65 тонн бобов ежегодно. Кофе и шоколад считались предметами роскоши, которые могло себе позволить очень небольшое число людей. Кроме того, это были редкие товары, требующие определенного подхода, знаний и умений.
Первыми, кто знакомился с новыми вкусами, изначально были миссионеры, торговцы и ученые. Именно их интерес к экзотическим вещам и контакт с другими культурами обеспечили появление в Европе новых продуктов вместе с информацией об их приготовлении, потреблении и медицинских свойствах – обо всем, что они узнавали в процессе своих наблюдений в Аравии и Новой Испании. Первыми европейцами в Новом Свете, кто распробовал вкус шоколада, стали иезуиты и доминиканцы. Они имели прислугу из местных жителей, они ходили на местные рынки, а также пользовались местными изобретениями. Индейцы показали им, как готовить и наслаждаться пенным напитком, который употребляют местные жители, приправляя его медом и окрашивая его семенами дерева ашиот в ярко-красный цвет. В Мезоамерике предпочитали употреблять этот напиток горячим, добавляя красный перец, кукурузу и фасоль и превращая его таким образом в суп. К началу XVII века церкви и монастыри стали главными распространителями какао, поставляя этот продукт из Веракруса своим братьям в Рим[185]185
Здесь и далее см. Jamieson, «Essence of Commodification», Marcy Norton, «Tasting Empire: Chocolate and the European Internalization of Mesoamerican Aesthetics», American Historial Review 111, no. 3, 2006: 660—91; Michael D. Coe & Sophie D. Coe, The True History of Chocolate (London, 1996); а также Kenneth F. Kiple & Kriemhild Ornelas, eds., The Cambridge World History of Food, 2 vols. (Cambridge, 2000).
[Закрыть].
Однако в самой метрополии популярный в колониях напиток был воспринят неоднозначно. С одной стороны, высокий статус какао-бобов в культуре ацтеков делал их чем-то элитным в глазах европейцев, отделяя их от плебейских напитков вроде мате, которому так и не удалось закрепиться по другую сторону Атлантического океана. С другой стороны, попивать горячий шоколад, уподобившись жителям колоний, означало спуститься вниз по общественной лестнице и превратиться из цивилизованного человека в дикаря. Когда вернувшиеся в Испанию колонисты продолжили следовать своей привычке пить шоколад, общество начинало опасаться, что европейцы могут перенять образ жизни жителей завоеванных территорий. Именно знать помогла реабилитировать напиток. Благодаря Дому Габсбургов и аристократическим семействам, соединявшим Мадрид, Париж и Вену, какао удалось завоевать любовь и остального населения. Приготовление напитка осталось примерно таким же, но кое-что поменялось на «европейский лад»: к нему стали добавлять корицу и сахар. Потребление какао оправдывали, ссылаясь на идеи о человеческих темпераментах, сформулированные Гиппократом (предположительно 460–370 гг. до н. э.) и древнегреческим врачом Галеном (131–201 гг. н. э.). Согласно данной теории, напитки и определенная диета способны влиять на здоровый баланс между четырьмя субстанциями, составляющими тело, – между кровью, желтой желчью, черной желчью и лимфой. Чилийский перец постепенно перестали использовать в качестве приправы к шоколаду. Козимо III Медичи добавлял в новый напиток жасмин, а знать на севере Европы – яйца. Какао теперь пили не из калебасов, а из изящных фарфоровых чашечек; его подавали на завтрак и во время специальных шоколадных вечеринок.