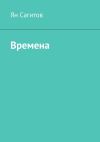Автор книги: Франк Трентманн
Жанр: Экономика, Бизнес-Книги
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 70 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Наиболее яркой представительницей потребительского бунта как на феминистической, так и на социалистической сцене была Тереса Биллингтон-Грейг, британская суфражистка, которая ударила хлыстом организатора встречи Либеральной партии за то, что он выгнал ее, и поэтому оказалась в тюрьме Холлоуэй. Глупо, говорила она, жаловаться на капиталистов-мошенников. «Мы сами такие же мошенники, кто-то больше, а кто-то меньше». Любовь потребителей к дешевым товарам приводит к тому, что они получают низкие зарплаты, а кругом царит социальная несправедливость: «Мы – плохой народ». Женщины в особенности склонны к дурному вкусу и консервативному бездействию, так как они заперты в своих домах. Капитализм сделал производителем мужчину, и он же контролирует общественную жизнь. К этому времени – то есть к 1912 году – уровень жизни, буквально взлетевший за последние три десятилетия, стал расти медленнее. Биллингтон-Грейг приходила к выводу, что это происходит из-за недостаточного количества профсоюзов, в которых, в свою очередь, остро ощущается нехватка женщин. Будучи одной из немногих женщин, выступавших от Независимой рабочей партии, Биллингтон-Грейг знала, о чем говорит. Эмансипация женщин и реформирование капитализма в угоду потребителям – то были битвы на одном и том же поле. Превратившись в организованных потребителей, женщины перестанут деградировать и избавятся от культа дешевых вещей. Кооперативного движения было теперь недостаточно. Потребители должны были осуществлять конкретные политические действия, развивать партнерские отношения с профсоюзами и основать совет потребителей, который боролся бы за более высокое качество продукции и за улучшение условий труда[364]364
Teresa Billington Greig, The Consumer in Revolt (London, 1912), цитата на с. 4, 52.
[Закрыть].
Открытие потребителя стало катализатором развития идеи гражданской ответственности перед обществом. Политические права требуют право на свободное время, подчеркивал Саймон Паттен. Дальнейшие экономические споры доказали, что это далеко не пустая фраза. Раз современные государства превратились из обществ с ограниченными ресурсами в общества изобилия, это означает, что они производят некий «излишек». Но откуда взялся этот излишек и на что он пойдет? Достойный ответ на этот вопрос был дан Дж. А. Гобсоном, плодотворным деятелем нового поколения британских радикалов. Еще в 1889 году он и его друг, бизнесмен и альпинист А. Ф. Маммери, усомнились в правильности традиционного представления о том, что производство всегда создает спрос (знаменитый закон Сэя). Богатые, считали они оба, не в состоянии использовать весь свой доход. Результатом подобного «недостаточного потребления» являются избыточные инвестиции, пресыщение и депрессии. Спустя шесть лет Маммери погиб – пропал в Гималаях. Втайне от правительства Гобсон продолжил работу в одиночку. В 1899 году он отправился в Южную Африку в качестве специального корреспондента от газеты «Манчестер Гардиан», чтобы освещать вторую англо-бурскую войну. Он вернулся оттуда с книгой под названием «Империализм» (1902), которая в буквальном смысле революционизировала понятия политических дебатов – «в буквальном», так как его книгу неоднократно цитировал Ленин.
Главная идея Гобсона заключалась в том, что корни агрессии за рубежом следует искать в «недостаточном потреблении» на родине. Бедность продолжает существовать не из-за какого-то естественного мальтузианского давления, а потому что богатства в обществе распределены неравномерно. Продуктивность постоянно растет. Однако прибыль возвращается лишь небольшой кучке инвесторов. Финансы «управляют машиной империи», постоянно находятся новые объекты для инвестирования, при котором иногда даже используется сила, как это было с англо-бурской войной. Средство от этой дурной болезни, полагал Гобсон, спрятано на родине. «Если бы в нашей стране уровень жизни потребителей повышался с такой же скоростью, с какой растут продуктивные мощности, не было бы никакого излишка товаров и капиталистам не пришлось бы использовать империализм для поиска новых рынков»[365]365
J. A. Hobson, Imperialism: A Study (London, 1902), 86.
[Закрыть]. Ведь огромный нетронутый рынок существовал внутри страны, где британцы мечтали о более качественных продуктах, добротно построенных домах и ухоженных городах.
Мыслители эпохи Просвещения смотрели на купца как на посланника мира. Гобсон же видел его в потребителе. Как и Маршалл, Гобсон считал, что главное не увеличение потребления, а рост качества продуктов, которые потребляли люди. Азартные игры, скачки и казино являются культурными побочными продуктами империализма и неравенства. Низшие сословия копируют манеры финансистов и аристократов. Гобсон восхищался американским экономистом Торстейном Вебленом, который видел в роскошном образе жизни американских богачей один из видов общественного расточительства. В 1925 году они встретились в Вашингтоне. Гобсон надеялся, что вместе социальное обеспечение и свободная торговля смогут изменить ситуацию к лучшему. Обыкновенные британцы «захотят более качественных товаров, более утонченных, совершенных и гармоничных». Люди будут больше радоваться жизни, но при этом им не придется «истощать ресурсы природы». Больший интерес к качеству в свою очередь приведет к тому, что люди будут задавать вопросы о том, как именно были сделаны товары, и это положит конец «антиобщественной конкуренции». «Чем качественнее станет потребление и чем настойчивее будет человек в удовлетворении своих индивидуальных желаний, тем меньше вероятность, что столкнутся интересы двух потребителей и что они будут бороться за обладание одним и тем же товаром». Таков был его главный контраргумент для консерваторов и марксистов, утверждавших, что свободная торговля в ответе за порочный круг из дешевизны, материализма и безразличия. Наоборот, говорил Гобсон, в более равном обществе потребители будут «больше ценить высокий уровень жизни», интересоваться тем, какие люди изготовили то, что они купили, и как эти люди живут. Гобсон объединил два понятия, до сих пор существовавшие отдельно, – так появился «гражданин-потребитель»[366]366
J. A. Hobson, Evolution of Modern Capitalism (London, 1897), 368—77; Work and Wealth (London, 1914).
[Закрыть].
Впрочем, правительства продолжали обращать мало внимания на проблемы потребителей, за исключением, пожалуй, пищевой безопасности и системы здравоохранения. Хотя на заре нового века определенный сдвиг все же наметился. Концепция достойного уровня жизни расширила политическую арену: теперь миллионы людей выступали против налоговых тарифов и высоких цен на продукты. Это явление имело по-настоящему международный характер – протесты были везде, начиная с Вены и заканчивая Сантьяго[367]367
См. библиографию ниже, а также: Benjamin S. Orlove, «Meat and Strength: The Moral Economy of a Chilean Food Riot,» Cultural Anthropology 12, no. 2, 1997: 234—68.
[Закрыть], что указывало на глобальную интеграцию продовольственной системы. С тех пор как пароходы стали пересекать океаны с пшеницей и говядиной на борту, люди привыкли, что хорошего мяса становится все больше и больше, а кофе дешевеет. В 1890-х годах этой тенденции пришел конец. Многие производители и фермеры посчитали, что глобализация – прямая угроза для их существования. За исключением Великобритании, все страны ввели торговые ограничения, а вместе с ними выросли и цены. Таким образом, торговая политика поставила вопрос об уровне жизни на повестку дня.
Место, которое отводилось в этих битвах потребителю, зависело от традиций страны, а также от ее социально-экономических особенностей. В Германии Социально-демократическая партия (SPD) запустила кампанию против «тарифа голода». Сам язык подсказывает, кого собирались защищать социал-демократы. Высокие налоги отнимали с трудом заработанный кусок мяса у рабочих, а вовсе не у потребителей. Немцы, наоборот, выступали против Nurkonsumentenstandpunkt, то есть точки зрения лишь с позиции потребителя[368]368
Christoph Nonn, Verbraucherprotest und Parteiensystem im wilhelminischen Deutschland (Düsseldorf, 1996), 78.
[Закрыть]. В стране, где люди привыкли отождествлять себя с профессией, потребитель мало кого интересовал и представлялся в лучшем случае клерком, а в худшем – праздным рантье. Во Франции особенная социальная иерархия и большое количество мелких производителей способствовали тому, что потребитель также воспринимался как некто посторонний.
Генриетта Брюнес из Лиги социальных покупателей (Ligue Sociale d’Acheteurs) считала ремесленников и продавщиц рабочими, а не потребителями[369]369
Marie-Emmanuelle Chessel, Consommateurs engagés à la Belle Époque: La Ligue sociale d’acheteurs (Paris, 2012); а также Marie-Emmanuelle Chessel, «Women and the Ethics of Consumption in France at the Turn of the Twentieth Century», из: The Making of the Consumer: Knowledge, Power and Identity in the Modern World, ed. Frank Trentmann, (Oxford, 2006), 81–98.
[Закрыть]. В Соединенных Штатах, однако, увеличение числа тех, кто получает жалованье, и параллельное развитие массового производства привели к тому, что люди чаще ассоциировали себя с потребителем. Почти каждый американец полностью одевался на собственную зарплату. Прогрессисты обратились к потребителям как к силе, способной сплотиться против трастовых компаний и плутократии. Именно потребители должны были «заменить существующую беззаботную плутократию и неэффективное правительство на простую, доступную всем, умную, добродетельную и всепобеждающую демократию», заявлял Уолтер Уэйл, студент Паттена и один из основателей журнала «Новая республика»[370]370
Walter E. Weyl, The New Democracy (New York, 1912), 254.
[Закрыть].
Но настоящее возвеличивание потребителя произошло в Великобритании. Она, в отличие от Америки с ее высокими налогами, была страной со свободной торговлей с 1846 года. Викторианские политики делали все, чтобы заручиться поддержкой потребителей; потребитель как налогоплательщик был представлен в городских советах и парламенте. Ожесточенная борьба за свободную торговлю, развернувшаяся после 1903 года, подняла гражданина-потребителя на новые высоты. Изначально фокусируясь лишь на «дешевом хлебе», кампания добавляла все новые и новые товары в политическую «потребительскую корзину». На центральных улицах в витринах выставлялись товары, доказывающие высокий уровень жизни британцев: британские брендовые продукты и изделия, например, горчица «Колман», шляпы с жакетами противопоставлялись таким же, но более дорогим товарам из протекционистской Германии. Тот факт, что сравнение это было предвзятым – за своими торговыми барьерами американцы и австралийцы жили даже лучше, чем британцы, – нисколько не умалял мощности послания. Высокий уровень жизни Великобритании объясняли господством либеральных институтов, которые защищают потребителя. Промышленники объединялись для защиты «самого важного гражданина», и их примеру следовали участники кооперативов, профсоюзы, феминистки и министерство финансов. Потребитель стал входить в сферу национальных интересов Великобритании[371]371
Слова принадлежат Альфреду Монду (Alfred Mond), магнату химической промышленности. См.: Frank Trentmann, Free Trade Nation: Commerce, Consumption and Civil Society in Modern Britain (Oxford, 2008).
[Закрыть].
Защита интересов потребителя и критика империализма означали одно и то же для таких радикалов, как Дж. А. Гобсон. С тех самых пор споры о недостатках и преимуществах империи представляли собой своеобразные математические уравнения: сколько же капитала Британия отправляет в колонии, к чему приводят эти инвестиции и за счет чего достигается благополучие метрополии? Ученые подсчитали инвестиции в железнодорожные пути и ценные бумаги и пришли к выводу, что больше, чем в собственную экономику, Британия инвестирует даже не в колонии, а в нейтральные рынки за океаном – в Соединенные Штаты и Латинскую Америку[372]372
Michael Edelstein, Overseas Investment in the Age of High Imperialism (New York, 1982); Lance E. Davis & Robert A. Huttenback, Mammon and the Pursuit of Empire (Cambridge, 1986); Avner Offer, «Costs and Benefits, Prosperity and Security, 1870–1914», из: The Oxford History of the British Empire, ed. Andrew Porter (Oxford, 1999), 690–711.
[Закрыть]. Империя, другими словами, тратила деньги, которые могли быть вложены в британские школы, дороги и электростанции. Однако доход от инвестиций внутри страны был слишком ничтожен по сравнению с их возможностями за рубежом. То была эра финансового империализма, и было непонятно, сможет ли Британия сохранить функционирующий капитализм. Тем не менее не существовало причины, по которой споры нужно было ограничивать рассмотрением капиталистических инвестиций. Великобритания влияла на поток вещей и в более широком смысле. Будучи культурными маркерами, «видимые» товары значили больше, чем «невидимый» экспорт фунтов и ценных бумаг. В точности так же, как существовали условия торговли, должны были существовать определенные условия потребления, которые отличаются в зависимости от групп населения, продуктов и регионов. Мы уже видели, как Британия поменяла статус потребителя. Таким же образом она по-новому определила ценность места производства товаров.
Богатые и бедные не исчезли после отмены рабства и высоких налоговых тарифов.
По иронии судьбы Гобсон выступил с критикой колониальной державы в самый расцвет свободной торговли, когда за всю историю своего существования империализм оказывал наименьшее влияние на благополучие британцев. Произошла либерализация торговли – где-то добровольная, где-то принудительная, – и пароходы открыли целый мир для потребителей Викторианской эпохи. Они могли наслаждаться мясом из Аргентины, хересом из Португалии и сахаром из Бразилии. Вторая волна промышленных революций во Франции, Германии и Соединенных Штатах привела к созданию новых рынков готовой продукции, которые опять же лежали за пределами Великобритании. Экономика большинства колоний продолжала расти, однако их доля на британском рынке сокращалась: в 1805 году четверть всего британского импорта поставлялась из Вест-Индии; в 1855 году эта доля сократилась до 5 %. Только в период между двумя мировыми войнами, когда глобальная экономика внезапно окажется в свободном падении, британцы начнут заново учиться ценить свои колонии: будут проводить распродажи, кричать на каждом углу «Покупай британское!», показывать, как обжаривают кенийский кофе, и устраивать конкурсы на самый большой рождественский пудинг[373]373
Stephen Constantine, «Bringing the Empire Alive»: The Empire Marketing Board and Imperial Propaganda, 1926—33», из: Imperialism and Popular Culture, ed. John M. MacKenzie (Manchester, 1986), 192–231; а также Trentmann, Free Trade Nation.
[Закрыть]. При свободной торговле колонии в тропиках зависели от метрополии, а не наоборот. Накануне Первой мировой войны доля британских товаров в импорте Ямайки составляла 44 %, а в импорте Голд-Коста – 89 %.
Радикалов в особенности беспокоило негативное влияние империализма на социальное равенство. На этот вопрос нам тоже следует взглянуть в долгосрочном развитии. Все империи оказывали влияние на статус и доход, но у некоторых это влияние было сильнее, чем у других. Меркантилистская политика обогатила аристократов, плантаторов и владельцев монополий. Действительно, некоторые участники региональных рынков, связанные с имперской торговлей, улучшили свое положение – например, торговцы шерстью в Уэст-Йоркшире или рабочие, изготавливающие стеклянную и медную посуду в Ливерпуле. Тем не менее в общем и целом в выигрыше оказалась лишь одна сторона. Потребители платили за морской флот; элита получала всю прибыль. В XVIII веке в Британии процветало неравенство, но еще более удручающих масштабов оно достигало в колониях. Ямайские плантаторы сосредоточили в своих руках огромные богатства. К 1800 году среднестатистический белый мужчина на Ямайке был в 50 раз состоятельнее свободного белого в Соединенных Штатах. Потребление объединило класс белых хозяев. Колониальные плантаторы были известны своими дорогими развлечениями и гостеприимством, танцами и чайными вечеринками, французским бренди и маринованными крабами[374]374
Trevor Burnard, Mastery, Tyranny and Desire: Thomas Thistlewood and His Slaves in the Anglo-Jamaican World (Jamaica, 2004).
[Закрыть]. Богатые и бедные не исчезли после отмены рабства и высоких налоговых тарифов, однако после 1846 года расходы империи стали распределяться более честно, так как правительство освободило британских потребителей от большого налогового бремени.
Все более открытая международная система торговли после 1850 года преобразовала имперскую структуру потребления. Пристрастие британцев к сладкому чаю служило условным обозначением связи империи и потребления. Будучи сосудом, в который кладут сахар, чашка чая связала потребителей в Лондоне и Шотландском высокогорье с рабовладельческими плантациями на Ямайке и Барбадосе. После 1840-х годов чай стал ассоциироваться не с Китаем, а с британской колонией в Индии. Чай являлся существенной частью британской культуры начиная с домашних обычаев и чайных магазинов, появившихся в 1880-е годы, и заканчивая Вдовой Твенки – персонажем пьесы «Аладдин» (использована игра слов: «twankay» – сорт зеленого чая, который собирают после того, как он созревает). Чай и другие экзотические продукты «сделали колониальные понятия и колониальную торговлю частью жизни обыкновенных людей», по словам одного историка[375]375
Joanna de Groot, «Metropolitan Desires and Colonial Connections», из: Catherine Hall & Sonya Rose, eds., At Home with the Empire (Cambridge, 2006), 186.
[Закрыть]. Сахар, как заметил Сидни Минц, отражал «растущую силу и сплоченность империи и классов, преданных ее политике»[376]376
Mintz, Sweetness and Power, 157.
[Закрыть]. Все это, впрочем, верно характеризует положение дел в XVIII столетии, а вот в XIX веке происходило нечто совершенно противоположное. Британская империя становилась все мощнее, в то время как плоды ее тропических колоний все меньше что-либо значили для потребителей метрополии.
В XVII–XVIII веках империи проложили путь к экзотическим продуктам, но за это пришлось заплатить свою цену. Из-за высоких налогов и налоговых инспекторов появились контрабандисты. Когда пошлины на чай сократили в 1745 году, легальная торговля чаем в Британии резко увеличилась в три раза[377]377
С 731 000 фунтов в 1745 до 2 359 000 в следующем году; Ashworth, Customs and Excise: Trade, Production and Consumption in England. 1640–1845, 178.
[Закрыть]. Во Франции контрабанда также несколько смягчила влияние налогового режима и ограничений на потребление. Чтобы обойти «Французское хозяйство» – монополию по сбору налогов на импортный табак, – контрабандисты привозили его из Вирджинии во Францию через нидерландские порты и Эльзас, где он терялся среди табака, выращенного на родине[378]378
Kwass, Contraband.
[Закрыть]. И все же даже контрабанда не могла полностью удовлетворить огромный спрос. Либеральные просветы случались в политике и других империй, например, можно вспомнить, как Испания уменьшила пошлины в Гуаякиле, Эквадор, и ввела колониальную таможенную зону в 1770-х годах. Эти меры приводили к настоящему потребительскому буму, который, однако, был временным. Если учитывать долгосрочную перспективу, станет ясно, что распад Испанской империи после Наполеоновских войн оказался для нее шагом назад: Венесуэла и другие ставшие независимыми государства подняли собственные торговые барьеры и увеличили налоги на экспорт, чтобы начать себя финансировать. Очевидно, что при «забеге на длинные дистанции» меркантилизм не способствует массовому потреблению. В действительности массовое потребление является историческим достижением свободной торговли после 1840 года.
Феноменальное распространение тропических товаров во второй половине XIX столетия было обусловлено двумя факторами – либерализацией торговли и значительным ростом производства товарных зерновых культур. В отличие от сахара какао трудно было выращивать в промышленных масштабах. Оно хорошо росло лишь в тени и нуждалось в компании других растений, которые защищали бы его от ветра и болезней. Крупных производителей какао было очень мало. Рабство никуда не исчезло. Португальцы использовали невольников на Сан-Томе и Принсипи – островах в Западной Африке, где они выращивали какао. Немцы заставляли работать на своих плантациях жителей Камеруна, правда, особого успеха это не приносило. В общем и целом производить какао лучше всего получалось у мелких землевладельцев, которые использовали поденщиков наряду с рабами во время сбора урожая. Данная отрасль была одной из тех, которые напрямую выигрывали от отмены рабства, так как благодаря этому огромное количество мелких производителей отправилось на поиски земельных участков. В Амазонии, Бразилия, мелким фермерам смешанного расового происхождения и фермерам-америнидам удалось обогнать крупных плантаторов после восстания кабанажен в 1835–1840 годах. В Колумбии после отмены рабства в 1851 году землю раздали освободившимся рабам. Кофейная же отрасль, в отличие от какао, процветала именно на рабовладельческих плантациях. Девственные леса, железнодорожные магистрали и труд рабов (до отмены рабства в 1888 году) делали Бразилию главным поставщиком кофе. В 1914 году мир потреблял в 50 раз больше кофе, чем век назад. И колонии производили лишь небольшую долю от общего объема[379]379
Clarence-Smith, Cocoa and Chocolate, 1765–1914; W. G. Clarence-Smith & Steven Topik, The Global Coffee Economy in Africa, Asia and Latin America, 1500–1989 (Cambridge, 2003).
[Закрыть].
Меркантилистские империи никогда не были полностью закрыты от внешней торговли. Большая доля британского сахара и кофе из колоний экспортировалась в центральную Европу по Рейну и Дунаю. И все-таки именно свободная торговля Британской империи сыграла важную роль в повышении скорости передвижения глобального (а не колониального) потока товаров. Важна была дешевизна, а не происхождение. К 1880-м годам, если говорить образно, лишь несколько сахаринок в британской ложке сахара было привезено из колоний. Бо́льшая часть поставлялась из Бразилии, где выращивали сахарный тростник, и из Восточной Европы, где сахар делали из сахарной свеклы. С глобальной точки зрения связь между чаем, империализмом и массовым потреблением, существовавшая в Британии, была скорее исключением, чем правилом. Это видно на примере второго крупнейшего потребителя чая в Европе – России. Кроме того, к 1914 году европейцы буквально весь свой кофе привозили из Бразилии. Кофейные урожаи в немецких колониях были скудны, и даже французская Вест-Индия поставляла лишь 3 % всего кофе для парижских кофеен[380]380
Ernst Neumann, Der Kaffee: Seine geographische Verbreitung, Gesamtproduktion und Konsumtion (Berlin, 1930), 141—3; данные по Франции за 1927 год.
[Закрыть]. Шоколад тоже все реже и реже привозили из колоний. Колесо фортуны закрутилось в другую сторону.
Таким образом, искать прямое влияние колониального производства на жителей метрополии означает не замечать леса за деревьями. Либеральная империя потребления вовсе не была улицей с односторонним движением. Существовали различные потоки, направленные в мир колоний, а некоторые товары достигали общества и без колоний. Сила империи, проводящей политику свободной торговли, заключалась в том, что она заставила всех производителей, в том числе и колониальных, следить за мировым спросом. Продукция из колоний все больше смешивалась с потоком неколониальных товаров и потому становилась буквально незаметной. Иногда эти товары даже полностью теряли связь с метрополией. К 1880-м годам крупнейшие потребители сахара британской Ямайки сидели в Чикаго и Бостоне, а не в Лондоне и Ливерпуле. У голландцев была Ява, однако производителям какао, таким как Ван Хаутен, не нравился пресный вкус бобов с этого острова. Поэтому бо́льшую часть какао-бобов с Явы поставляли в США. Немецкие специализированные магазины колониальных товаров эффективно продавали продукцию более успешных соседних империй. Если в мире меркантилистской политики колонии были главной предпосылкой роста потребления, то в либеральной экономике массовое потребление больше не беспокоилось о цвете флага парохода, везущего товары. Рассмотрим, к примеру, кто больше всего пил кофе накануне Первой мировой войны. Голландцы по-прежнему пили кофе (в основном бразильский) больше, чем кто-либо другой, однако за ними по пятам следовали норвежцы, датчане, шведы и швейцарцы. Потребление не было сконцентрировано в метрополиях колониальных держав. Кубинцы пили больше кофе (из Коста-Рики), чем французы и немцы; среднестатистический чилиец пил в два раза больше кофе, чем испанец или итальянец[381]381
Neumann, Kaffee, 69, 151. У Дании были небольшие колонии на Виргинских островах, и оттуда страна привозила ром, однако кофе в основном импортировала из Бразилии и Гватемалы.
[Закрыть]. На «Юге», о чем очень часто забывают, жили не только производители. Здесь было и много потребителей.
Потребление кофе в мире в 1913 году

Источник: Ernst Neumann «Der Kaff ee: Seine geografi sche Verbreitung, Gesamtproduction und Konsumption» (1930), стр. 69, 151
Национальная политика и культура класса определяли, кто пил, что и где. После провозглашения независимости Британия отрезала Соединенные Штаты от своих колоний в Вест-Индии и запретила американским пароходам возить колониальные товары. Это был удар для торговли Соединенных Штатов, которая сильно зависела от повторного экспорта. В результате Томас Джефферсон предложил переключиться на Францию и ее колонии в Карибском регионе. Торговля кофе и его употребление превратились в жест патриотизма. После 1820-х годов Соединенные Штаты начали вести торговлю еще южнее – с Бразилией. К 1880 году американцы потребляли почти полмиллиарда фунтов кофе в год[382]382
Michelle Craig McDonald & Steven Topik, «Americanizing Coffee», из: Alexander Nützenadel & Frank Trentmann, eds., Food and Globalization: Consumption, Markets and Politics in the Modern World (Oxford, 2008), 109—28.
[Закрыть]. Однако нужно быть осторожным и не доводить дело до карикатуры. Нации никогда не являлись потребителями какой-либо одной-единственной культуры. Да, американские революционеры бойкотировали британский чай, тем не менее в XIX столетии чай был почти так же популярен, как и кофе. Японцы по традиции пили чай, однако мигранты, побывавшие в Бразилии, открывали для себя кофе; первая бразильская кофейня была открыта в Токио в 1908 году. Британцы известны как нация, которая предпочитает чай всем остальным напиткам, но она же не полностью отказалась от них. К 1900 году британцы пили столько же горячего шоколада, сколько испанцы, таким образом совершенно не укладываясь в представление о трезвом, рациональном протестантском Севере и несдержанном католическом Юге.
Биографии товаров очень часто рассказывают о каком-нибудь экзотическом продукте, который смог покорить весь мир. История, написанная победителем, зачастую упускает из виду серьезное сопротивление продукту, обусловленное местными и классовыми особенностями. Стремление подражать уравновешивается не менее мощным представлением о том, что каждый класс должен есть свою еду и пить свои напитки. Такие нормы служили серьезным препятствием национальной однородности и глобализации. За средними показателями частенько прячутся огромные различия между классами и регионами. Во Франции, к примеру, потребление сахара возросло, однако больше всего сахара ели буржуа. По некоторым оценкам, в 1873 году парижский рабочий потреблял всего лишь 10 грамм сахара в день, то есть две ложки – это крупица по сравнению с тем, сколько сахара ел сладкоежка-британец. В других частях страны рабочие, горняки и фермеры вообще не ели сахар. Если им и приходилось иметь дело с сахаром, то либо как с приправой (вроде перца или соли), либо как с лекарством. Исследование 1906 года, проведенное в парижской больнице, выявило, что большинству рабочих не нравится сладкая пища: сахар портит аппетит и забирает энергию. Сладости и выпечка – пища изнеженной элиты, а не рабочих, которые едят красное мясо, сыр и пьют вино для поддержания физической силы. Именно поэтому неправильным будет считать, что распространению экзотических товаров способствовало врожденное пристрастие европейцев к сахару. Кофе тоже не сразу завоевал рабочих. В Париже санкюлоты уже пристрастились к кофе на момент Французской революции, и он успел появиться в столовых, где питались представители рабочего класса. За пределами Парижа, однако, к кофе относились с большим недоверием. К примеру, через одну столовую в Лионе в 1896 году ежедневно проходила тысяча посетителей, однако лишь 37 из них заказывали кофе[383]383
Martin Bruegel, «A Bourgeois Good? Sugar, Norms of Consumption and the Labouring Classes in Nineteenth-сentury France», из: Peter Scholliers, Food, Drink and Identity: Cooking, Eating and Drinking in Europe since the Middle Ages (Oxford, 2001), 99—118.
[Закрыть].
Чай и сахар получили наиболее широкое распространение в первой промышленной нации – в Великобритании, но видеть здесь причину и следствие было бы ошибкой. Индустриализации не нужны были именно сахароза и кофеин. Она с тем же успехом осуществилась бы и с пивом, и с вином. Бельгия, Франция и Германия тоже прошли путь индустриализации, однако фабричные рабочие в этих странах по-прежнему почти не употребляли сахар. В действительности главные потребители сахара конца XIX века жили в менее развитых регионах: в аграрном Квинсленде на душу населения приходилось до 60 кг сахара в год. Кофе прославился как отрезвляющий и повышающий работоспособность напиток благодаря индустриализации, а не наоборот.
В континентальной Европе настоящий кофейный бум пришелся на 1870–1880 годы. Чем больше лесов вырубали в Бразилии под плантации кофе, тем ниже становились цены. Один инспектор из Дюссельдорфа заметил, что «рабочий теперь пьет кофе три раза на дню»[384]384
Hamburger Staatsarchiv, 3141/B VIII 8, «Berichte von Anges-tellten der Deputation über Konsumverhältnisse in ihnen bekannten Orten», 20 May 1878, перевод мой.
[Закрыть]. Промышленные компании и социальные реформаторы открывали столовые и ларьки с кофе. При этом не стоит преувеличивать значимость именно кофеина. В 1909 году, спустя двадцать лет своего существования, Союз народных кофеен налил гамбургским рабочим 75 000 чашек обычного кофе и 2 миллиона чашек кофе без кофеина. Дома многие семьи добавляли к кофейным зернам более дешевый цикорий[385]385
Julia Laura Rischbieter, «Kaffee im Kaiserreich», PhD thesis, Frankfurt (Oder), 2009, 283; см. также ее книгу: Mikro-Ökonomie der Globalisierung (Cologne, 2011). Hamburger Staatsarchiv, 3141/B VIII 8, 12 May 1878 (on Magdeburg). По бренди и кофе во Франции см.: W. Scott Haine, The World of the Paris Café: Sociability among the French Working Class, 1789–1914 (Baltimore, 1998).
[Закрыть]. Трезвенники восхваляли кофе как противоядие от алкоголя, хотя едва ли это работало. Портовые города наподобие Гамбурга не трезвели никогда. Союз кофеен подавал алкогольные напитки. Во Франции рабочие пили кофе вместе с бренди, а в Нидерландах и Германии – с ромом или шнапсом. Расцвет промышленного сообщества привел к росту потребления не только кофе, но и выпивки тоже. В столовых компании «Крупп», крупнейшего немецкого производителя стали и оружия, рабочим в 70 раз чаще наливали пиво, чем кофе[386]386
В Эссене давать пиво в рабочие часы перестали лишь в 1910 году.
[Закрыть].
К 1914 году сахар, кофе и шоколад завоевали и те части света, куда им удалось попасть далеко не сразу. Особенности национальной кухни и привычки в разных странах становились все более похожими друг на друга. В отличие от первой волны экзотических продуктов, которую возглавляли миссионеры-иезуиты, купцы и ученые, за этот поздний этап отвечали бизнес, государство и наука о правильном питании. Теперь экзотические напитки считались незаменимой частью рациона жителей сильных промышленных держав: они больше не были отличительным признаком утонченного вкуса. Промышленные компании старались составлять расписание таким образом, чтобы максимизировать энергию и усилить концентрацию рабочих. На место одного долгого обеденного перерыва в середине дня пришли более короткие перерывы и перекуры. Некоторые компании выдавали бесплатный кофе наряду с водой. Дополнительный вклад внесли правительство и наука. В 1870-х годах немецкие тюрьмы включили кофе в список обязательных продуктов питания[387]387
К примеру, в госпитале Святого Георгия в Гамбурге в 1875 году: Hamburger Staatsarchiv, HH 3141, B VIII, no. 19.
[Закрыть]. Неожиданно союзниками экзотических продуктов оказались военные и эксперты по питанию. Калорийность сахара, утверждали они, жизненно необходима для национальной мощи. В 1876 году во французской армии сахар и кофе ввели в ежедневный рацион солдата. Примерно в это время голландская технология выделения масла из какао-бобов позволила полностью раскрыть потенциал шоколада как товара массового потребления. Так родились какао-порошок и плитка шоколада. В отличие от чая или кофе шоколад обладал большой пищевой ценностью. Его окончательно перестали ассоциировать с неторопливыми леди и праздными священниками и начали говорить о нем как о «сытном» и «согревающем» энергетическом напитке, подходящем для исследователей Северного полюса, атлетов, рабочих и хлопотливых домохозяек. На рекламных листовках Cadbury профессор Кэвилл клялся, что какао – «это единственный питательный напиток, который я взял с собой, когда переплывал пролив Па-де-Кале»[388]388
Illustrated London News, August 1885; Graphic, 19 Sept. 1896; а также Penny Illustrated Paper, 1 Aug. 1896, 66, and 26 Oct. 1901, 272.
[Закрыть]. Преобразившись в «помощника здоровья», заручившись одобрением докторов и медицинского журнала The Lancet, какао стало неотъемлемым атрибутом детского питания. Судьба детских вкусовых рецепторов была решена.
К 1900 году национализм стал, по крайней мере, настолько же важен для культуры массового потребления, как и империализм. Многие небольшие страны без колоний знакомили свой народ с шоколадом через свои армии. В 1870-е в Швейцарии шоколадная фабрика Филиппа Сушарда отправляла «военный шоколад» солдатам в казармы и продавала шоколад в форме патронов (Schokoladenpatronen). Когда солдаты впервые попробовали шоколад, они с отвращением выплюнули его, однако вскоре сладкая плитка стала обязательной частью их дневного рациона. Некоторые солдаты ели даже просто сухой какао-порошок[389]389
Roman Rossfeld, Schweizer Schokolade: Industrielle Produktion und kulturelle Konstruktion eines nationalen Symbols, 1860–1920 (Baden, 2007).
[Закрыть]. Некогда «пища богов» ацтеков, какао превратилось в товар массового производства – в пищу народа.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!