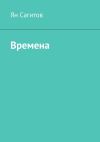Автор книги: Франк Трентманн
Жанр: Экономика, Бизнес-Книги
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 70 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
В «Исследовании о природе и причинах богатства народов» (1776) Адам Смит указал на процессы, способствовавшие упадку феодализма и развитию торговли в Европе. По мнению Смита, именно ненасытный аппетит вельмож к пряжкам с алмазами и «побрякушкам с безделушками» заставил их постепенно распрощаться со своим авторитетом. Они буквально «израсходовали» свою власть. Чтобы насытить растущий аппетит к товарам, они начали сокращать число слуг. Затем «требующее вложений тщеславие» вельмож предоставило оставшимся слугам возможность занимать участки земли в течение более долгих периодов в обмен на более высокую ренту, что предоставило последним бо́льшую независимость. Что до купцов и ремесленников, то они были только рады поставлять товары, которые пользовались столь высоким спросом. В итоге произошла «революция, крайне значимая для общественного счастья», – неожиданный результат «безумства» одних и «трудолюбия» других. Рыночные отношения делают обладание доступным всем, и вместе с этим общественные настроения становятся более мирными. «Человек горд и потому любит возвышаться над другими», – одно из наблюдений Смита[237]237
Adam Smith, Wealth of Nations, 412 (bk III, гл. 2) и 437—40 (bk III, гл. 4). См. далее: Albert O. Hirschman, The Passions and the Interests: Political Arguments for Capitalism before Its Triumph (Princeton, NJ, 1977).
[Закрыть]. Гораздо лучше, если он будет реализовывать это желание, приобретая табакерки и шляпы, а не других людей. Наличие имущества укрощает агрессию человека, снимает напряжение в обществе. Люди оказываются слишком заняты покупками, и им некогда убивать друг друга.
Уильям Блэкстон, один из основоположников англосаксонского права, посвятил свой самый объемный труд «Комментарии к английским законам» (1765–1769)«правам вещей». Он разделил абсолютно все вещи на юридические категории – начиная с движимого имущества и земли и заканчивая домашними и дикими животными – и заявил, что право наследования лишний раз доказывает, что вещи – это благо для общества. Право наследования, писал Блэкстон, «заставило страсти встать на службу долга, а человека стать полезным обществу, потому что теперь он знал, что его заслуги не умрут вместе с ним», а будут переданы тем, кому «принадлежит его сердце»; Блэкстон предположил, что право наследования родилось из того обстоятельства, что в последние часы своей жизни человек обычно находится в окружении семьи[238]238
William Blackstone, Commentaries on the Laws of England (1765—9; 18th edn, 1829, London), II, гл. 1/11.
[Закрыть].
Блэкстон хорошо чувствовал веяния, носившиеся в воздухе. Все чаще и чаще личность человека и история семьи находили выражение через имущество. На тарелках и столовых приборах стали помещать инициалы владельцев. Иногда их даже вырезали на мебели, как это, например, было с буфетами и комодами в Америке XVIII века: владелицы «подписывали» их своими именами. Фамильные ценности служили памятью о семье, с помощью них можно было рассказать о себе будущим поколениям. В 1756 году одна английская леди так постановила в своем завещании: «Старая фарфоровая чашка с позолоченной крышкой и блюдцем, к которой прилагается столовый прибор в золоте, остается Мэри, и она должна передать их своей дочери в качестве семейной реликвии». «Каждый раз, когда она будет смотреть на эти безделушки, она будет вспоминать о нежной любви своей матери»[239]239
Anne Granville Dewes, quoted in Keith Thomas, The Ends of Life: Roads to Fulfilment in Early Modern England (Oxford, 2009), 127. Также см.: Vickery, Gentleman’s Daughter, 183—94; Laurel Thatcher Ulrich, «Hannah Barnard’s Cupboard: Female Property and Identity in Eighteenth-Century New England», из: Through a Glass Darkly: Reflections on Personal Identity in Early America, eds. Ronald Hoffman, Mechal Sobel & Fredrika J. Teute (Chapel Hill, NC, 1997), 238—73; Sandra Cavallo, «What Did Women Transmit? Ownership and Control of Household Goods and Personal Effects in Early Modern Italy», из: Moira Donald & Linda Hurcombe, eds., Gender and Material Culture in Historical Perspective (Basingstoke, 2000), 38–53.
[Закрыть]. Вещи помогали растущему числу купеческих и дворянских семей, оказывавшихся по другую сторону Атлантики или на берегах Индийского океана, хранить память о родных в Европе. В семьях раннего Нового времени придавали огромное значение детям, и подобное отношение, что неудивительно, способствовало популярности семейных реликвий. Также оно объясняет то, почему женщины играли столь важную роль в этом процессе. Персонификация предметов оказалась одновременно и способом служить идеалу семьи, и возможностью завоевать себе место в ее сердце.
Тем не менее материальная культура личности никогда не являлась простой темой. Границы между личностью и предметом постепенно стирались, становилось трудно сказать, где заканчивается первое и начинается второе. Вещи помогают обрести себя, но что, если потребление уничтожает эго? В Шотландии хвалебные песни Юма и Смита торговле и безобидной роскоши были далеко не всеми восприняты на ура. Например, судью и философа лорда Монбоддо беспокоил тот факт, что современный комфорт лишит силы защитников Хайленда и это приведет к уменьшению численности населения[240]240
Fredrik Albritton Jonsson, Enlightenment’s Frontier: The Scottish Highlands and the Origins of Environmentalism (New Haven, CT, 2013), 18–26, 237—9.
[Закрыть]. Растущее количество товаров тоже не могло не пугать современников: а что, если вещи забирают у человека душу? Труды Даниеля Дефо хорошо отражают это двойственное отношение к вещам. С одной стороны, он указывал на положительную взаимосвязь между потребительскими товарами, трудолюбием и более высоким уровнем жизни. С другой стороны, в романе «Молль Флендерс» (1722) он рассказал историю молодой женщины, которая так любила шелковые платки и золотые бусы, что научилась воровать, заниматься проституцией, а в итоге оказалась в тюрьме: чем больше вещей она хотела иметь, тем больше она сама превращалась в вещь, которую можно продать.
Тема переселения души из человеческого тела в вещь стала популярной в литературе XVIII века. «Души модников скрываются в их одежде», – написал великий сатирик Джонатан Свифт. Все чаще появлялись рассказы, в которых повествование велось от имени часов, монет и декоративных собачек. Для античного философа Пифагора вера в переселение душ означала умение сочувствовать другим существам. Однако в XVIII веке истории, рассказанные от имени предметов, очень часто изображали мрачную картину человеческого порока и безрассудства. Владельцы вещей оказывались эгоистичными и беззаботными рабами своей страсти к потреблению – образ, совершенно противоположный философскому идеалу сопереживания и служения на благо обществу. В «Приключениях черного пальто» (1760) (Adventures of a Black Coat) одежда рассказывает о падении Сьюзан Сирлоин, дочери простого купца, которую страсть к вещам довела до проституции. Если кто-то в этом рассказе и обладал моральными принципами, то это было пальто, утверждавшее, что люди потеряли рассудок – ведь они игнорируют путь к истинному счастью, стремясь к постоянным удовольствиям. Впрочем, циничный тон авторов подобных рассказов отчасти объясняет тот факт, что они были вынуждены бороться за место под солнцем на литературном рынке. Тем не менее многих беспокоила зацикленность женщин на моде и чаепитиях. Еще за целое столетие до того, как Карло Коллоди вложил в уста Пиноккио речь, а в его голову – смекалку (1883), современников XVIII века завораживало сходство людей с марионетками. И первые, и вторые оказывались на сцене кукольного театра, и зрителям оставалось только догадываться, где находится кукла величиной с человеческий рост, а где актер с деревянной ногой (и говорящей фамилией) Самюэль Фут[241]241
Jonathan Lamb, «The Crying of Lost Things», English Literary History 71, no. 4: 949—67; Mark Blackwell, ed., The Secret Life of Things: Animals, Objects and It-Narratives in Eighteenth-сentury England (Lewisburg, 2007); Julie Park, The Self and It: Novel Objects in Eighteenth-century England (Stan-ford, 2010).
[Закрыть].
Еще в период существования бартера человечество столкнулось с трудностями, которые привнесло появление новых вещей, предпочтений и желаний. Быстрый рост потребления в конце XVII – начале XVIII века был связан с мощью колониальных держав, техническим прогрессом и увеличением численности городского населения, которое зарабатывало деньги и, соответственно, получало возможность их тратить. Однако все это не имело бы такого влияния, если бы общество само не выбрало жизнь в быстро меняющемся мире вещей. Товары не появились из ниоткуда. Сначала на них должен был появиться спрос. На первых порах общество относилось к вещам с недоверием. Однако ситуация стала меняться в XVII веке в Нидерландах и еще больше в Великобритании в XVIII веке. Идеи о безвредной роскоши способствовали этим изменениям. В конечном счете потребление оказывалось настоящим жизненным опытом, и именно это стало решающим фактором наряду с ценностями и привычками, оправдывающими стремление иметь больше. Несмотря на все опасения общества, которые ни на минуту не были забыты, потребление превращалось в неотъемлемую часть личностного и общественного развития. Потребление отныне было надежно защищено.
Лишь немногие привычки могли продемонстрировать опасность роскоши лучше, чем переедание. Чревоугодие – один из смертных грехов, и лекарство от него – самоограничение. В XVIII веке врачи изменили как диагноз, так и лечение. В то время меланхолию и депрессию называли «ипохондрией» и считали болезнью богатых, являвшейся результатом чрезмерного потребления пищи и вина вкупе с сидячим образом жизни. Пациент был подавлен, у него наблюдалась апатия. Врач Джордж Чейн назвал такое состояние «английской болезнью» и относил его к разряду нервных расстройств. В отличие от устаревшей теории четырех темпераментов, согласно которой причиной меланхолии является черная желчь, данный диагноз вытекал из нового представления о том, что органы соединены нервами. Желудок подает сигналы в мозг. Когда желудок наполняется чаем, бренди, шоколадом и табаком, разум затуманивается. Ипохондрия вызывала особое беспокойство у элиты, многие представители которой обладали чрезмерной чувствительностью, а ее, в свою очередь, врачи объясняли хрупкой нервной системой. Роскошная жизнь, стало быть, угрожала их возможности управлять страной. Ведь невозможно руководить страной – не говоря уже об империи, – если вы лежите в подавленном состоянии, страдаете от расстройства желудка и корчитесь от приступов боли. Утверждалось, что одной из причин падения Римской империи стала болезнь элиты.
Обычно ипохондрию лечили с помощью соблюдения диеты, промываний и кровопускания. В XVIII веке британцы вдруг почувствовали, что могут справиться с этой болезнью и без таких радикальных мер. Ипохондрия, с одной стороны, превратила излишество в болезнь, но с другой – сделала его нормой. В медицине и социологии все чаще слышались рассуждения о том, что чрезмерное потребление не должно приводить к разрушению. Уже упомянутый нами автор «Басни о пчелах» Бернард де Мандевиль также был врачом и получил образование в Лейдене. В 1711 году он опубликовал работу «Трактат об ипохондрических и истерических страстях» в форме диалога. «Твоя болезнь неправильно диагностирована», – объясняет зарубежный врач Филопирио пациенту Мисомедону, который когда-то был «весел, даже чертовски весел», а теперь стал «сварлив, капризен, придирчив и мнителен». «Ипо», как именовали эту болезнь, располагалась в нервной оболочке желудка. В качестве лечения доктор прописал Мисомедону временное воздержание от плотных ужинов, чтобы дать желудку время восстановить силы, а также езду верхом для возвращения физического и психического здоровья. «А потом вы будете ужинать с таким удовольствием, с каким никогда прежде не ели», – говорит врач. В подтверждение своих слов Филопирио упомянул случай беременной женщины из Нидерландов, которая «до беспамятства любила соленую сельдь и каждый день съедала ее в огромных количествах, и на то, чтобы окончательно насытить свой аппетит, ей потребовалось несколько недель, в результате женщина съела 14 сотен рыб, но ничего плохого с ней не было». «Очень ценное наблюдение для голландца», – с почтением ответил Мисомедон[242]242
Bernard Mandeville, A Treatise of the Hypochondriack and Hysterick Diseases (New York, 1976 repr. of 1730 edn; 1st edn 1711), 233.
[Закрыть]. Суть сводилась к тому, что редкие переедания не имели опасных последствий. Тем не менее там, где Мандевиль выбирал самоконтроль, другие врачи выбирали лекарства. Началась активная торговля рецептами и медикаментами[243]243
Fredrik Albritton Jonsson, «The Physiology of Hypochondria in Eighteenth-century Britain», из: Cultures of the Abdomen: Dietetics, Obesity and Digestion in the Modern World, eds. Christopher Forth & Ana CardinCoyne (New York, 2010). Roy Porter, «Consumption: Disease of the Consumer Society?» из: Consumption and the World of Goods, eds. John Brewer & Roy Porter (London and New York, 1993), 58–81.
[Закрыть]. Некоторые врачи прописывали не уменьшить потребление чая, кофе и бренди, а наоборот, увеличить его. Таким образом, излишество так или иначе продолжало приумножаться.
Как мы уже знаем, первоначально слово «потребление» в английском языке имело два значения: «изнуряющая болезнь» (чахотка) и «расход товаров». Шекспир даже использовал это двойное значение для игры слов в остроумном высказывании Фальстафа в пьесе «Генрих IV»: «Никак не найду лекарства от карманной чахотки. Займы только затягивают эту болезнь – она неизлечима». Потребление является циклическим процессом, в котором расточительство неизбежно. Потреблять и быть потребленным (с физиологической точки зрения) – неотделимые друг от друга фазы, и особенно отчетливо это видно на примере пищи, ее поглощении и переваривании. Однако споры в отношении переедания если и не разорвали эту связь в сознании людей, то уж точно ослабили ее. Ведь вместо того чтобы в связи с расстройством пищеварения умерить свой аппетит, люди начинали лечить последствия роскошного образа жизни, покупая лекарства и тем самым расширяя формы потребления.
Культура вежливости также способствовала росту и развитию рынков. Кофейни и пристрастие к экзотическим напиткам были не чем иным, как новыми составляющими расширяющегося социального пространства. Клубы и рестораны, набережные и парки – все они стали местами проведения свободного времени; именно там можно было показать всему миру, что вы – достойный и воспитанный гражданин. Модная одежда, чайные сервизы, недавно вышедший роман, красивые обои и стильная мебель – вот из чего складывался изысканный образ жизни, с помощью которого средний класс пытался самоопределиться и обрести свое место в нестабильном постаристократическом обществе. Благовоспитанность нашла материальное воплощение для идей Просвещения о сопереживании и человеколюбии. Изысканные манеры демонстрировали, когда соглашались с собеседником и показывали ему свое уважение. Для этой социальной игры потребительские товары были крайне важны, потому что они указывали на чувство стиля своего хозяина, которое помогало последнему вести изящные беседы в обществе и вместе с тем позволяло ему возвыситься над грубым рабочим людом.
Как одеваться, что есть на ужин, а главное как – всему этому можно было научиться. Искусство беседы тоже можно было освоить. В этот период наблюдался настоящий бум справочников по хорошим манерам. Вот, например, цитата из «Нового справочника» 1684 года:
«одевайтесь так же, как люди вашего окружения… учитывайте время и место, и единственное, в чем вы можете не знать меры, – это искренность и уравновешенность… Не стоит есть мясо с ножа, словно деревенские простофили… Не стоит вытирать руки… о хлеб или о скатерть, для этого подойдет уголок вашей салфетки… не носите платок в руке… или подмышке, носите его так, чтобы его не было видно… Каждый ваш жест… должен выражать уважение к тем, кто в данный момент находится рядом с вами»[244]244
William Winstanley, The New Help to Discourse (London, 1684, 3rd edn), 272, 282, 293—4.
[Закрыть].
Чтобы показать свою воспитанность, важно было не только говорить верные слова, но и следить за своими жестами, а также правильно использовать окружающие предметы – начиная с аксессуаров и заканчивая зубочистками и салфетками. Хорошие манеры делали потребление общественно продуктивным. Авторы подобных справочников несомненно черпали вдохновение в литературе эпохи Ренессанса, посвященной этикету, однако теперь их аудитория была значительно шире и включала в себя «граждан всех рангов и любого положения». И продавались такие пособия всего за один шиллинг, так что даже простые клерки могли позволить себе их приобрести[245]245
Lawrence E. Klein, «Politeness for Plebes», из: John Brewer & Ann Bermingham, eds., The Consumption of Culture, 1600–1800 (London, 1995), 362—82.
[Закрыть].
В Японии в течение периода Эдо (1600–1867) также повысился уровень жизни и купцов, и обыкновенных потребителей, правда, деньги прежде всего тратились на установку более качественных стен, прокладку деревянных полов, проведение канализации и очистку воды. Интерьер оставался скромным, самые ценные вещи хранились в сундуке, и лишь какая-нибудь одна ваза стояла у всех на виду. Основное же имущество хранили в кладовых, подальше от посторонних глаз[246]246
See Susan Hanley, Everyday Things in Premodern Japan (Berkeley, CA, 1997).
[Закрыть]. Культура простого комфорта, отчасти наследие дзен-буддизма, имела важнейшее значение для страны с ограниченными природными ресурсами. Возможно, именно благодаря ей сегодня уровень жизни в Японии выше, чем в Европе.
В Великобритании и Нидерландах, напротив, домашний интерьер стал главной площадкой для демонстрации благовоспитанности и своей индивидуальности; качество самого дома имело второстепенное значение. Мебель, обои, фарфоровые сервизы и другие вещи указывали на наличие изысканного вкуса у владельца. Их необходимо было регулярно заменять более новыми вещами. В 1713 году в Англии было продано 197 000 ярдов обоев. Спустя семьдесят лет эта цифра превысила 2 миллиона[247]247
Roy Porter, English Society in the Eighteenth Century (London, 1990), 222.
[Закрыть]. К тому времени было принято оклеивать комнаты новыми обоями раз в несколько лет. Существовала сильная взаимосвязь между ростом потребления, культурой вежливости и философским отношением к понятию личности. Личность постоянно изменялась и подстраивалась – в точности так же, как и воспитанный человек, обязанный быть любезным и демонстрировать хорошие манеры с помощью моды и аксессуаров.
Вкус – или, по словам Фрэнсис Рейнольдс, сестры художника Джошуа Рейнольдса, «наведение лоска» – заставлял относиться к потреблению с уважением. Но что именно представлял из себя вкус? «На сегодняшний день хороший вкус – это главный идол мира воспитанных людей», – заметил один критик в 1756 году. «Изящные леди и джентльмены одеваются со вкусом… музыканты, актеры, танцоры и даже мастеровые – все они поклоняются вкусу. Однако несмотря на это невероятное повсеместное присутствие вкуса, мало кто может объяснить, что он означает»[248]248
The Connoisseur, 1756, цитата из: Robert W. Jones, Gender and the Formation of Taste in Eighteenth-сentury Britain (Cambridge, 1998), 13–14. О культуре вкуса и утонченности см.: John Brewer, The Pleasures of the Imagination (New York, 1997).
[Закрыть]. В действительности огромному числу людей казалось, что они точно знают, что такое хороший вкус. Как бы ни расстраивали философа десятки соперничающих определений вкуса, историку подобный расклад более чем интересен. Фрэнсис Рейнольдс называла добродетель, честь и гордость тремя опорами вкуса, однако вряд ли подобное определение могло как-то помочь леди, в раздумьях стоящей перед чашками с различными классическими и китайскими мотивами и не знающей, какие же ей выбрать.
Историки привыкли утверждать, что все было очень просто: монархи и знать задавали тон, а средний класс старался повторять за ними. Некоторые и сегодня верят в эту теорию. Однако на самом деле все происходило намного интересней. То, что считалось хорошим вкусом в избранном кругу высшего света, вовсе не считалось таковым в домах среднестатистического коммерсанта или юриста. Мало кто мог позволить себе целый год делать ремонт, как, например, графиня Страффорд в 1712 году, которой для дома на площади Сент-Джеймс понадобилось изготовить точно такие же дверцы лакированных шкафчиков, как у герцога Мальборо. Интерьер в доме представителя среднего класса ни в коем случае не должен быть броским или кричащим, считалось, что это смотрится дешево. Стиль должен был соответствовать положению человека в обществе. Хороший вкус означал скромную элегантность, а не крикливое хвастовство. Мастера-мебельщики и продавцы фарфора считались лучшими советчиками по вопросам стиля. А если «какой-нибудь джентльмен столь тщеславен и честолюбив, что заказывает такую мебель для своего дома, которая по стилю не соответствует его состоянию и положению, – советовал один справочник, – то драпировщику стоит с помощью пары ненавязчивых подсказок направить намерения заказчика в более скромное русло»[249]249
Thomas Sheraton, Cabinet Dictionary, 1803, цитата из: Amanda Vickery, «Neat and Not Too Showey»: Words and Wallpaper in Regency England», из: Gender, Taste and Material Culture in Britain and North America, 1700–1830, eds. John Styles & Amanda Vickery (New Haven. CT, 2006), 201—24, 216. См. также: Hannah Greig, «Leading the Fashion: The Material Culture of London’s Beau Monde», 293–313.
[Закрыть]. Классификация хорошего вкуса росла и ширилась, предлагая каждому рангу, кошельку и социальной группе свой вариант.
Стоит отметить, что в озабоченности одеждой и декором некоторые видели опасную тенденцию ставить украшения выше индивидуальности и характера. Говорили, что мода высасывает силу из британцев, превращая их в изнеженных щеголей и, что еще хуже, во французов. То были предшественники современных критиков «потребительства», уничтожающего индивидуальность и общественную жизнь. Однако подобная точка зрения чересчур примитивна. Действительно, желание понравиться другим людям оказывает давление на индивидуума. В то же время хорошие манеры и определенные предметы, связанные с ними, создают некое пространство для общественного взаимодействия, свободное от жестокости и конфликтов. Великобритания, переживавшая стремительные экономические перемены, ставшая свидетельницей прекрасной, но все-таки кровавой революции, измученная гражданской войной, крайне нуждалась в подобном социальном пространстве. Без него невозможно представить распространение в XVIII веке клубов, салонов и других социальных форм общения. Потребление и гражданское общество развивались рука об руку.
Вежливое поведение требовалось от всякого, но от женщин в особенности. Считалось, что женщины обладают более развитой чуткостью, которая позволяет им стоять на страже морали и общества в целом. Культ общения сделал женщин потребителями и утвердил широко распространенный взгляд на разделение труда среди полов: женщины потребляют, мужчины производят. В Китае распространение опиума от чиновников императоров Цин и евнухов вниз по общественной лестнице спровоцировало появление мужской культуры коллекционеров табачных пузырьков с красивыми изображениями небесных птиц и персиковых деревьев в цвету[250]250
Zheng Yangwen, The Social Life of Opium in China.
[Закрыть]. Тот факт, что европейские мужчины тоже ходили по магазинам и покупали пальто, диваны и сигары, был почти полностью предан забвению. Одним из последствий этих социальных изменений стало то, что теперь вред потребления иллюстрировали историями развращения и падения «слабого пола» – стоит лишь вспомнить Молль Флендерс или мадам Бовари. В XVIII веке многие жаловались, что мода и чаепития отрывают матерей от их домашних обязанностей. Приходящее в упадок хозяйство являлось микрокосмом целого экономического порядка. Вместо того чтобы шить и вязать дома, женщины тратили деньги на чай.
Однако в целом эпоха Просвещения представляла женщину как потребителя в выгодном свете. В этот период не только появилось осознание экономических преимуществ умеренной роскоши, но и на женщин стали смотреть с восхищением, считая их социальные навыки признаком человеческого прогресса и утонченности. Варвары относились к женщинам как к рабочей силе или рабам. Частная собственность и торговля смягчили воинственную позицию мужчин и научили их ценить вкус женщин и их умение приумножать комфорт. «Женщины стали не рабами или идолами, а друзьями и компаньонами», – писал в 1771 году протеже Адама Смита Джон Миллар в «Происхождении различия в социальных рангах». В отличие от Древней Греции современные «утонченные и изысканные» общества в Великобритании и Франции высоко ценили умение женщин не только вести хозяйство, но и общаться. «Они решительно отказываются от той тихой жизни, которая, казалось раньше, наиболее соответствует их характеру… теперь они появляются в различных обществах, участвуют в развлечениях. Они откладывают в сторону веретено и прялку и занимаются другими делами, которые больше связаны с модой». В свою очередь, их «успехи в благовоспитанности» делают и мужчин более утонченными. Все же любовь к удовольствиям может выйти за пределы разумного, предупреждал Миллар, имея в виду любвеобильность восточных народов, у которых преобладает полигамия. Впрочем, в обществах с развитой торговлей и женщины, и удовольствия находились под надежной защитой. Комфорт и беседа стали школами цивилизованности, считал Миллар. Любопытно, что в его собственной семье «женскую карту» разыграли не особенно удачно – четыре из шести дочерей Миллара так и не вышли замуж[251]251
John Millar, The Origin of the Distinction of Ranks (Edinburgh, 1771/1806), 89, 100–102. См. далее: Mary Catharine Moran, «The Commerce of the Sexes», из: Paradoxes of Civil Society, ed. F. Trentmann (New York, 2000), 61–84, а также: Karen O’Brien, Women and Enlightenment in 18th-century Britain (Cambridge, 2009).
[Закрыть].