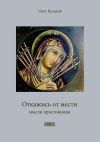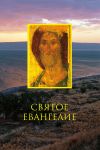Текст книги "Сквозь мрак к свету или На рассвете христианства"

Автор книги: Фредерик Фаррар
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Маран-афа! – как один человек крикнуло в ответ все собрание.
Охваченный благоговейным страхом и каким-то новым, никогда еще не изведанным им чувством, Британник находился, как бы в экстазе, не сознавая, где он, что с ним. Неровное, учащенное дыхание вздымало его грудь, восторженный взгляд был напряженно устремлен в одну точку, блаженная улыбка светилась на его лице, и вдруг он сделал усилие, словно хотел что-то сказать, но тут же упал без чувств на руки не отходившему от него Пуденсу.
Было ли юноше виденье, слышал ли он голос с неба – осталось тайной для всех.
Встревоженный Пуденс поспешил с помощью Нирея вынести Британника из житницы на свежий воздух, и потом, дав ему прийти в чувство, они проводили его в дом Плавтия, где его ожидала в обществе Помпонии его сестра. Заметив страшную бледность, покрывшую лицо брата, и странно блуждающий взгляд его необычайно блестевших глаз, Октавия испугалась.
– Что с тобой, Британник? – спросила она его.
– Ничего. Я себя чувствую прекрасно, но я немножко устал и хотел бы поскорее остаться один. Вернемся домой, Октавия.
И, простившись с Помпонией, брат и сестра в сопровождении своего эскорта вернулись во дворец.
– О, Помпония, – начала Клавдия, как только они удалились, – если б только ты видела, в каком он находился состоянии во время молитвы и речи Лина! Я уверена, что на него снизошел Дух, и ему был дан дар языка, и если б не этот обморок, он, наверно, заговорил бы на незнакомом языке.
Помпония набожно склонила голову и сотворила в душе горячую молитву.

Глава XII
Замысел братоубийства
После достопамятной ночной прогулки по Риму, Нерон в продолжение нескольких дней сохранил на лице явные следы своего неудачного столкновения с Пуденсом; следы, которые на следующее же утро подали повод к одной из тех бурных сцен, какими за последнее время всегда почти кончались его ежедневные свидания с матерью.
Когда Нерон, явился к Агриппине, она обратила внимание на его распухший нос глаз и ссадину на щеке, причина которых, благодаря усердию ее верных шпионов, была уже ей известна.
– Какой воинственный вид сегодня у цезаря, – с нескрываемой насмешкой заметила она сыну, не дав ему времени даже поздороваться с ней, – словно у какого-то неуклюжего гладиатора после неудачного упражнения в кулачном бою.
Нерон насупился, однако промолчал. Агриппина же продолжала в том же ироническом тоне:
– Надо полагать, что такие ночные шатания по улицам и драки с разным сбродом достойны римского императора не менее, чем его пение и кривляние на театральных подмостках.
– Почему ты считаешь, что я бродил по улицам?
– Кому же неизвестны доблестные подвиги твоего друга Отона, а также и прочих веселых твоих приятелей? И чем же объяснить тогда твой вид?
– Лучше скажи, что тебе о каждом моем шаге докладывают твои шпионы, – сердито проговорил Нерон.
– А хотя бы и докладывали, что же из того? – запальчиво возразила Агриппина.
– А то, что пора было бы понять, наконец, что я не мальчишка, а император и намерен им быть в полном значении этого слова, что не раз уже и объяснял тебе, – отвечал Нерон, – если же тебе будет не угодно понять это добром, то, клянусь всеми богами, я заставлю силой тебя на деле убедиться в этом.
– Клянусь всеми богами! – воскликнула Агриппина, – несчастный! и ты не боишься их гнева?
На лице Нерона мелькнула саркастическая улыбка.
– Нисколько! – сказал он. – Что мне боги и зачем буду я бояться их, если сам могу их создавать?
Самолюбивая и гордая Агриппина была глубоко уязвлена как обращением с ней сына, так и сознанием собственного бессилия, однако отказаться от дальнейшей борьбы с Нероном было выше ее сил.
– Ты не боишься всесильных богов, но зато передо мной ты еще будешь трепетать, – сказала она. – Не забывай, что сын Клавдия не ты, а Британник, который на днях вступит в возраст зрелости, и если уж тебя я сумела сделать императором, то отчего бы с моей помощью не вступить на престол и ему? В нем Рим и вся империя будет, по крайней мере, иметь правителем мужчину, а не жалкого фигляра и неженку.
Взбешенный такой угрозой, Нерон вскочил и, с поднятой рукой, подступил к матери, как бы собираясь ударить ее.
Агриппина встала и, гордо закинув голову назад и гневно сверкнув глазами, насмешливо спросила:
– Уж не хочешь ли ударить меня? Попробуй только, и кинжал этот, клянусь небом, пронзит тебе сердце.
Нерон отскочил; Агриппина, взглянув на него с презрительною жалостью, выронила оружие из руки.
– Из тебя могла бы выйти бесподобная трагическая актриса, – с горькой иронией заметил ей Нерон.
Злоба, казалось, душила Агриппину.
– Еще одну надежду, – задыхающимся голосом начала она как только совладала с собой настолько, что смогла говорить, – одну еще надежду оставили мне боги: Британник еще не умер, и ничто мне не может помешать пойти вместе с ним в лагерь храбрых преторианцев. А там мы уж посмотрим, останется ли гвардия глуха к просьбам и увещаниям дочери доблестного Германика, к воззванию Бурра с его искалеченной в бою рукой, к убедительным речам красноречивого Сенеки?
– Надоели мне все эти глупые угрозы, – с видом глубокой скуки проговорил Нерон и тотчас прибавил, – все-таки, я должен тебя предупредить, что когда-нибудь ты ими непременно выведешь меня из терпения. Ты помни, что у нас есть такие лица, как доносчики, и такое нарушение закона, как оскорбление величества.
С этими словами император ушел от матери, сильно разгневанный ее угрозами, хотя был и не особенно встревожен ими. Он так давно привык смотреть на себя, как на существо, во всех отношениях стоявшее неизмеримо выше добродушного и безответного Британника, что не допускал и мысли встретить в нем опасного для себя соперника. Сама Агриппина своими внушениями в немалой мере содействовала развитию в нем такого сомнения, к тому же и сам Британник никогда еще не подавал ему повода заподозрить его в каких-либо честолюбивых поползновениях. Все это было так, но тем не менее, ему были крайне неприятны эти постоянные угрозы со стороны Агриппины сыном Клавдия и законными правами этого последнего, а вдобавок и Тигеллин не упускал случая наговаривать ему, внушая, каким опасным для него орудием может оказаться Британник в руках такой честолюбивой женщины, как Агриппина.
Спустя несколько дней после этой сцены с матерью, Нерон, убедившись, что лицо его приняло свой натуральный вид, решил отпраздновать времени праздник Сатурналий и, по этому случаю, созвал к себе многолюдное общество, преимущественно из молодежи. В числе гостей, приглашенных на это празднество, были, между прочими, Нерва, в то время еще молодой человек лет двадцати трех, Веспасиан с двумя своими сыновьями Титом и Домицианом; Пизон Лициан, юноша очень строгих нравов и вовсе не походивший на Нероновых любимцев. Гальба, человек уже средних лет, и Вителлий, уже и тогда успевший упрочить за собой, несмотря на сравнительно еще не старый возраст, репутацию великого подлеца и не менее великого обжоры.
Любопытный случай произошел перед началом ужина. Среди толпы рабов, прислуживавших в триклиниуме, был один раб-христианин по имени Геродион, в высокой степени обладавший даром ясновидения. Когда гости почти все собрались, к Геродиону вдруг обратился один из его товарищей-рабов, по имени Апеллес, и, указывая ему на Нерву и на Гальбу, сообщил, что первому предсказал какой-то астролог, что он вступит на престол, а второму, когда он был еще ребенком, император Август, положив руку на голову, сказал однажды: «И тебе тоже, мое дитя, придется вкусить сладость быть императором».
– Я не придаю никакого значения гороскопам и верить им не могу, – серьезно ответил ему Геродион.
– Не веришь в халдеев! – изумился Апеллес. – Ах, да, я совсем позабыл, что ты из числа тех сумасбродов, что поклоняются… ну, не сердись; впрочем, не в этом дело. Но скажи мне по совести, неужели ты и в самом деле отвергаешь ту истину, что предсказания наших оракулов и авгуров, по большей части, оправдываются?
– С этим я не буду спорить, – ответил Геродион, – так как верю, что демонам дается иногда сила входить в иных людей, и тогда эти люди гадают и предсказывают будущее. Однако, я все-таки думаю… – но здесь речь его круто оборвалась, и в немом ужасе он вперил свой взгляд на группу собравшихся гостей.
– Что с тобой, Геродион? – спросил его Апеллес.
– Я знаю, ты мне предан, Апеллес, любишь меня и не пожелаешь погубить, – шепотом проговорил Геродион, – а потому знай, что пока я так смотрю на всех этих весело пирующих гостей, мне представляется, будто я вижу их как бы окутанными кровавой мглой.
– А еще что видишь? Говори! Ты меня не опасайся: не выдам же я друга и доброго товарища, так заботливо ухаживавшего за мной во все время моей прошлогодней болезни, – сказал заинтересованный Апеллес.
Но Геродион ничего больше не сказал, лишь лицо его, по мере того, как он все пристальнее вглядывался в, принимало выражение все более и более мрачное и тревожное. Но какова бы ни была картина, которая в эту минуту пронеслась перед духовным ясно видевшим оком бедного раба, а между собравшимися гостями было действительно восемь будущих римских императоров: Гальба, Отон, Вителлий, Веспасиан, Тит, Домициан, Нерва и Траян (в то время еще ребенок), из которых шестерым, равно как и Британнику, Пизону и самому амфитриону Нерону была суждена насильственная кончина. Этот маленький эпизод припомнил Апеллес много лет спустя, когда, в свою очередь, познал истину христианского учения.
Пир был очень оживлен и весел, хотя на этот раз и не переходил в виду присутствия юношей и даже детей границ благопристойности. Гости долго забавлялись различными играми и, наконец, предложили жребием избрать царя празднества. Жребий пал на Нерона, и он восторженными криками веселой молодежи был провозглашен симпосиархом.
– А теперь, все вы обязаны беспрекословно повиноваться вашему симпосиарху, – сказал император, – и поочередно исполнять мои приказания.
Начав с Отона, Нерон приказал ему снять с себя венок и возложить его на голову того, кого он любит больше всех. Венок, понятно, был возложен на голову самого Нерона. Затем, император, обратясь к поэту Лукану, повелел ему в продолжение одной минуты рассказать целую законченную историю, и Лукан прочел по-гречески две строки: «А., поднимая найденное им на дороге золото, позабыл тут свою веревку. Б., не находя своего золота, употребил в дело найденную им веревку».
– Ну, а теперь твоя очередь, Петроний, и так как ты поэт, то тебе я намерен дать задачу нелегкую, – сказал Нерон. – Пять минут и не секунды более я даю тебе на сочинение такого стиха, который можно было бы читать одинаково как справа налево, так и слева направо.
– Это невозможно, цезарь, – сказал Петроний.
– Все равно, я требую от тебя исполнения даже невозможного, в противном случае, ты у меня выпьешь в виде штрафа, по меньшей мере, девять кубков полных чистого фалернского вина.
Петроний покорился и, взяв свои дощечки, менее чем через пять минут прочел вслух строку, тут же придуманную.
– В этом стихе смысла мало, а еще менее правильности языка, – заметил Нерон. – Но так и быть, я тебе прощаю и избавляю от штрафа за плохо исполненное приказание. Теперь ты, Сенеций, скажи нам тот девиз, в котором всего вернее сказался бы твой взгляд на жизнь.
«Ешь, пей и веселись, прочее все вздор и суета», – не задумываясь, прочел Сенеций.
– Что бы сказал на это наш маленький друг, Эпиктет? – вполголоса при этом заметил Тит, наклоняясь к Британнику.
Таким образом, с большим или меньшим успехом исполнялись задачи, задававшиеся Нероном поочередно всем гостям, которые, между тем, ждали не без любопытства, что именно прикажет император Британнику, хотя сам Британник, почти уверенный, что приказание это будет так же шутливо, как и те, с которыми он обращался к другим гостям, очень мало тревожился этим вопросом. Вот почему он был чрезвычайно озадачен и оскорблен как тоном, так и самим приказанием Нерона, который, обратясь к нему, надменно проговорил:
– Ты же, Британник, встань, выйдя на средину залы и спой нам что-нибудь.
По зале пробежал глухой, еле слышный шепот неодобрения. Требование, чтобы принц крови разыграл из себя, в присутствии многочисленного собрания гостей и рабов, певца, было неприлично и крайне оскорбительно для юноши. Британник вспыхнул и в порыве негодования уже хотел было ответить императору отказом, но, к его счастью, Тит, сидевший с ним рядом, успел его удержать, шепнув ему на ухо: «Лучше не возражай, а исполни его приказание, как бы ни было оно обидно для тебя, во избежание худшего».
Британник последовал совету друга и, встав со своего места, вышел на средину триклиниума. Тут он обратился к стоявшему немного поодаль арфисту Рериносу и, попросив его ударить в струны, запел мягким и благозвучным голосом одну из патетических песней из «Андромахи» Еппия, старинного римского поэта, в которой поэт описывает отчаяние пленной Андромахи после разрушения Трои. «Я видела, – говорит безутешная вдова Гектора, – дворец Приама, с его величавыми колоннадами и портиками, в огне и дыму, видела самого Приама, изнемогающим под ударами дико торжествовавшего врага, видела алтарь всесильного царя богов, обагренным потоками крови. – У кого искать мне себе защиты? Куда бежать? Где, в какой чужбине будет место изгнания? Жертвенники родного края разбиты вдребезги и разметаны! Храмы моей отчизны стоят черные, обугленные, их стены и колонны виднеются спаленные и светочи на алтарях меркнут и гаснут в ярком пламени и дыме».
Не веря своим ушам, слушал Нерон стройное пение Британника. Откуда этот серебристый, мягкий голос? откуда у него это умение владеть им? Но скоро изумление сменилось в душе Нерона завистью к красивому юноше, – завистью, которая затем уступила место и злобе, и ненависти, когда по окончании пения раздался взрыв восторженных рукоплесканий гостей. Он с удовольствием разогнал бы ударами бича дерзких гостей, дерзнувших рукоплескать ему.
– Глупая и очень скучная вещь, – не скрывая своего гнева, проговорил он лениво и зевнул, – и кто бы мог ожидать услышать такую плаксивую дребедень в день праздника веселых Сатурналий!
И, говоря это, император, поднявшись со своего ложа и, махнув небрежно рукой, проговорил скучающим тоном:
– Довольно! Надоело! Гости могут уходить.
Гости поняли, что император, чем-то, видимо, недовольный, был сильно разгневан; переглядываясь, и пожимая плечами, они поспешили молча удалиться. С Нероном остался один Тигеллин.
– Какого теперь мнения цезарь о Британнике? – со злорадной усмешкой, спросил коварный интриган.
– Такого, что лебеди всего лучше поют перед тем, как им умереть.
– Ага! – с торжеством подумал про себя Тигеллин, убедившись, наконец, что первый шаг в задуманном им перевороте, в роде сеяновского, сделан.
А между тем Британник, покинув вместе с другими Неронов триклиниум, отправился прямо с пира к своей сестре, которую нашел в обществе рабыни-христианки Трифены. Императрица сидела за прялкой и прилежно работала, а Трифена читала ей вслух отдельные отрывки из одного письма св. Апостола Петра к христианам. «Наконец, будьте все единомысленны», – читала Трифена, когда в комнату вошел Британник. Ласково улыбнувшись брату и приложив палец к губам, Октавия знаком пригласила его сесть возле себя и послушать чтение.

Трифена, между тем, продолжала: «Сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудры; не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему».
– Кто писал эти прекрасные наставления? – вполголоса спросил восхищенный Британник. – Не Хризиин: это не его слог и язык не его времени. Уж не Корнут ли, или Музоний?
– Послушай дальше и, может быть, ты сам угадаешь, – с улыбкой ответила императрица и, обратясь к молодой рабе, прибавила:
– Продолжай, Трифена. Трифена продолжала:
«И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога святите в сердцах своих».
– Писал эти слова христианин, – шепотом проговорил юноша, между тем, как Трифена продолжала читать:
«Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели злые; потому что и Христос, чтобы провести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных…»
– Благодарю, Трифена. Довольно пока. Ступай теперь и отдохни, к тому же я желаю поговорить с братом наедине, – сказала Октавия, отпуская рабу.
– Это пишет христианин, несомненно, – сказал Британник, – но кто именно, не знаешь ли?
– Трифена говорила мне, что это отрывки из одного письма писанного в назидание христианам, которые, как ты знаешь, всюду рассеяны, одним галлилейским рыбаком, Петром, который был одним из числа двенадцати учеников, сопровождавших Христа в его хождениях по Галилее.
– Не знаю и не понимаю я, Октавия, что такое происходит во мне, – в каком-то раздумьи проговорил Британник, – но мне все кажется, будто меня зовут какие-то неземные голоса, и я чувствую, что меня влечет к себе с неотразимою силою этот Незримый Христос. Уж не предвещает ли это близкой моей смерти?
– Твоей смерти, Британник! – воскликнула в ужасе Октавия и вся побледнела. – О, какие зловещие слова!
– Перестань, Октавия, не придавай ты суеверного значения глупым приметам, а лучше послушай, что случилось сегодня со мною на пиру.
– Сегодня!.. Что же такое особенное могло случиться с тобой сегодня? – спросила изумленно Октавия. – Ты сейчас с сатурналийского празднества. Но, может быть, Нерон на этом празднике объявил тебе, что на днях он разрешит тебе сменить золотую баллу и претексту на togam verilem? Ну, что же, я уверена, – прибавила молодая женщина, не без гордости любуясь красотой брата, – что красная туника с белой тогой поверх очень пойдет тебе.
– Может статься, но слушая тебя, я почему-то вспомнил Гомера: «То смерть кровавая», – говорит у него Александр Великий про…
– Замолчи; откуда у тебя такие мрачные мысли сегодня, Британник? – перебила его сестра и, откинув ему со лба золотистую прядь волос, ласково заглянула в глаза.
Тогда Британник подробно рассказал сестре о выходке Нерона во время пира, и Октавия поняла все роковое значение случившегося.
– О, как жестоко несправедливы к нам боги! – в отчаянии воскликнула бедная Октавия. – Какое же особенное преступление совершили мы, за которое могли бы они так беспощадно карать нас!
– Полно, Октавия, взывать к лживым и бездушным кумирам, вера в которых с каждым днем становится в моих глазах все бессмысленнее, – строго остановил сестру Британник. – Впрочем, какие бы они ни были, эти боги, они воплощают собою идею божества, а все то, на что есть воля божества, не может не иметь своей благой цели. Нам же с тобой, римлянам и потомкам цезаря, следует уметь не бледнеть и не трепетать перед борьбой с житейскими бурями, хотя бы даже и не была дана нам благодать того душевного мира, о котором говорит этот бедный рыбак, ученик Христа.
– Мать – опозорена и убита, отец был отравлен, твоей жизни грозит опасность, на престоле сидит Нерон… О, бедный мой Британник, за что, за какое преступление такое жестокое наказание!
– Успокойся, Октавия; вспомни, что говорила нам Помпония, не одним преступникам ниспосылаются страдания, напротив, ими часто испытываются добрые и через них становятся лучше.
– Я не вынесу разлуки с тобой, о, мой брат, о, мой Британник, – с рыданиями продолжала Октавия. – Ты у меня один, и кроме тебя у меня никого нет. Что будет со мной, несчастной, если тебя не станет!
– Не плачь, сестра, и заранее не убивайся, – сказал Британник, и, поцеловав сестру, прибавил: – А теперь мне пора и удалиться, прощай, надеюсь, однако ж, не навсегда, хотя я и замечаю, что недоброе замышляет Нерон. Недаром же удалил он моего друга Пуденса, назначив на его место какого-то центуриона, который, признаюсь, мне вовсе не по душе. Впрочем, я не боюсь: есть что-то внутри меня – точно голос какой – постоянно мне твердит, что для меня лучше умереть, чем остаться жить.
После ухода Тигеллина, Нерон, оставшись один, впервые в этот вечер понял, как близок он к совершению страшного преступления, и при этом невольно содрогнулся. Враг одиночества, Нерон в продолжение целого дня, начиная с той минуты, как просыпался, и до поздней ночи, видел себя постоянно окруженным или своими приятелями, или толпой иных льстецов, и лишь очень редко оставался, как в этот вечер, наедине со своими размышлениями, что, может быть, и было одной из главных причин, почему он так плохо знал самого себя. Но, когда он вспомнил, какой страшный удар был нанесен в этот вечер пением Британника его самолюбию великого артиста, минутный ужас перед задуманным злодеянием быстро сменился в нем новым приливом зависти, смешанной с ненавистью и злобой к бедному юноше, и из уст его уже вылетели грозные слова «он умрет», взгляд его случайно остановился на двух давно ему знакомых мраморных бюстах, из которых один изображал Британника шестилетним ребенком, а другой был его собственный и относился к тому счастливому периоду отрочества, когда душа его еще пребывала в блаженном неведении порока и преступления.
Он встал и, подойдя к бюсту Британника, остановился перед ним в глубоком раздумьи. Давно ли детьми играли они вместе? Давно ли он смотрел на него, как на товарища, которого готов был даже полюбить за его кротость и постоянную готовность уступать ему? О, если б не черные замыслы Агриппины со всеми их последствиями! Если б не ее теперешние угрозы! – «Убей его!» – твердили в нем злоба и зависть. – «Не обагряй своих рук в крови невинного», – молил другой голос, – «крови уже и так было пролито довольно: вспомни, какою смертью умер Клавдий, вспомни, кто был его убийца и для кого было совершено это преступление. Опасаться Британника нет основания: он кроток и незлобив, и теперь еще не ушло время сделать из него друга».
Нерон вздохнул и задумался, но скоро, отвернувшись сердито от бюста Британника, он подошел к своему собственному.
– Я был очень красивым ребенком, – сказал он и, подойдя к зеркалу, начал пристально разглядывать свое лицо. – О, боги! Но как же изменился я! – прошептал он и закрыл лицо руками.
Горькое сожаление, почти раскаяние, на минуту проснулось в душе Нерона. Покинутый им путь добра и славы показался ему в эту минуту таким заманчиво-прекрасным. Он как бы видел его перед собой во всем обаянии его тихо-ласкающего света, душевного мира и спокойствия, и с горечью подумал о потерянном. Но неужели же нет для него возврата? Неужели он больше не в силах, порвав со своими приятелями, удалить от себя Тигеллина и, выбросив из головы всякие преступные помыслы о любви Поппеи, вернуться к Октавии, оставить все кутежи и зажить строгой и простой жизнью настоящего римлянина? Неужели ему суждено стать новым Тиберием или Калигулой, – ему еще так недавно приходившему в ужас от необходимости подписать смертный приговор какому-то злодею – и оставить по себе на страницах истории память императора, ознаменовавшего начало своего царствования братоубийством?
– О, горе мне! Тиран и убийца, я лечу вниз, лечу стремглав в черную пропасть! – с отчаянием воскликнул несчастный юноша, – и нет у меня никого, кто бы протянул мне руку, кто бы остановил меня на опасно скользком скате! Музоний? Карнут? но эти оба презирают меня давно. Сенека? но что мне в его словах, если я потерял всякую веру в них! Мог бы этот самый Сенека преподать мне советы другие и наставления хотя бы тогда, когда я так безумно был влюблен в бедняжку Актею.
В уме Нерона невольно промелькнуло сравнение между его образом жизни и благонравного и скромного Британника, при этом сравнении злоба и зависть к брату снова заклокотали в его полубольной душе.
– Нет, он должен умереть! – задыхаясь, как бы про себя, проговорил Нерон.
Таким образом, загасив в себе искру минутного раскаяния, Нерон, отвергнув доброе, избрал злое, и враг души его широко распахнул перед ним двери мрачной обители порока и злодеяний, быстрые кони его страстей, помчавшись без удержа по роковому склону, скоро опрокинули безумного седока, который, казалось, был одно время не прочь укоротить им повода и сдержать их бешеный бег.
* * *
Около этого времени в судьбе Онисима произошла довольно крупная перемена, которую вызвали следующие обстоятельства.
Нерону были очень не по сердцу дружеские отношения, замечавшиеся им с некоторых пор между Британником и центурионом дворцовой гвардии Пуденсом, почему он и поспешил сместить этого последнего с занимаемой им при дворе должности, назначив его на очень, впрочем, почетный пост в самом лагере преторианцев. Вскоре после своего удаления из дворца, Пуденсу случилось как-то послать туда Онисима с приказанием взять из дежурной комнаты офицеров некоторые его книги и оружие, которые он по обыкновению оставлял там, в виду своих ежедневных дежурств во дворце.
Онисим отправился во дворец и там, проходя в сопровождении одного из императорских рабов по длинному коридору, ведущему в комнату, отведенную для начальников дворцовых караулов, услыхал вдруг за одной из дверей чей-то нежный голос, тихо напевавший одну знакомую ему с самого детства фригийскую народную песню. Он приостановился и потом, под впечатлением минуты, подхватил знакомый напев. Тогда дверь слегка приотворилась, и на пороге показалась красивая молодая девушка, которая с нескрываемым изумлением спросила на фригийском наречии, кто это пел?
Онисим слегка смутился, но ответил, хотя и не без некоторой робости, что песня эта ему знакома с тех пор, как он еще ребенком слышал ее в Тиатире, сидя на коленях у своей матери.
– Тиатире! – повторила черноокая красавица и задумалась, потом вскинув на него свои большие глаза, она начала пристально вглядываться и, наконец, всплеснув руками, воскликнула: – Возможно ли, чтоб это был Онисим!
– От кого узнала госпожа мое имя? – изумился Онисим.
– Взгляни на меня хорошенько и, может быть, ты припомнишь меня, хотя и прошло целых двенадцать лет с того времени, как мы в последний раз виделись с тобой…
Онисим посмотрел на молодую девушку и затем как-то боязливо проговорил:
– Что-то в лице госпожи напоминает мне дочь сестры моей матери маленькую Евнику, которая росла в доме отца моего и…
– Тсс!.. – остановила его молодая женщина и затем вполголоса прибавила: – Подойди ко мне поближе, Онисим.
Онисим приблизился к ней.
– Да, действительно, я Евника, – сказала она, – хотя уже давно отвыкла откликаться на это имя. И я тоже после разорения нашей семьи была продана в рабство купцу, у которого через некоторое время меня перекупил один из вольноотпущенников императора Клавдия, для императрицы Мессалины, и вот он-то и приказал мне переменить мое настоящее имя на имя Актеи.
– Актея! – с невольным изумлением воскликнул Онисим, – ты, следовательно… – начал было он, но не договорил, заметив выступившую на лице молодой женщины яркую краску.
– Раба не может не подчиняться воле своего господина, – смущенно проговорила она. – Впрочем, Нерон любил меня искренно, и так же любила и я его. Кроме того я была тогда очень молода и многого не понимала. Теперь же это уже прошло. Нерон меня разлюбил, его сердце занято в настоящее время другой. Но какая бы я ни была, никто не может сказать про меня, чтобы я когда-либо пользовалась своим влиянием кому бы то ни было во зло.
– Я тебя не упрекаю, Актея. слишком много нехороших поступков было в моей собственной жизни, – сказал Онисим.
– Приходи сюда часа через два после полудня, – сказала ему Актея, – и тогда ты мне расскажешь откровенно все, что было с тобой, и мы подумаем, не смогу ли я чем-либо быть тебе полезной.
Таким образом, благодаря протекции Актеи, которая, несмотря на видимое охлаждение к ней Нерона, все еще занимала в качестве особы, к которой одно время пылал император такой сильной любовью, довольно высокое положение среди дворцового персонала, Онисим перешел вскоре из числа домочадцев Пуденса в число рабов императрицы Октавии. Спустя немного времени после такой перемены в его положении, он был однажды вечером призван к Актее.
– Послушай, Онисим, – начала молодая женщина, – я имею возможность, как ты уже и видел, оказывать тебе некоторую протекцию и всегда буду содействовать, сколько могу, твоему возвышению, но для этого ты должен сначала зарекомендовать себя с самой хорошей стороны, как человек вполне надежный, и, сверх того, быть мне предан. Скажи, могу ли я довериться тебе?
– Смело можешь, Актея! Никогда я не выдам тебя.
– Я верю тебе и потому открою тебе одну очень важную тайну. Ты уже имел, вероятно, случай видеть Британника?
– Да, я его видел. Какой благородный и добрый юноша!
– А тем не менее, его жизни, боюсь, грозит большая опасность, – сказала Актея. – Мне жаль его, очень жаль, и я готова чуть ли не плакать всякий раз как задумаюсь о его горькой участи. При твоей настоящей должности при гардеробе императрицы Октавии тебе нередко будет представляться случай его видеть. Я же часто видеться с тобой не могу, но я даю тебе монету с изображением Британника, и помни, что если мне случится прислать тебе с кем бы то ни было другую такую же монету, то это будет означать, что Британнику грозит несчастье, и тогда ты немедленно приходи ко мне.
Онисим обещал. Действительно, очень скоро сказалась необходимость в неусыпной бдительности ибо Нерон на другое же утро после того дня, как он справлял у себя праздник сатурналий, съедаемый злой завистью, потребовал к себе Юлия Поллиона, нового центуриона, назначенного на место Пуденса, чтобы дать ему поручение к Локусте.
– Мне нужен какой-нибудь сильный яд, – сказал он ему, – Локуста под твоим надзором. Пусть изготовит, а ты принеси его сюда.
Казалось странным такое быстрое превращение юноши, в характере которого врожденной жестокости в сущности не было и который не более как два-три года назад был еще робким, застенчивым отроком, склонным преимущественно к искусству и удовольствиям, в бессердечного убийцу и жестокого деспота-самодура. Однако, такое превращение было вполне естественным действием безграничной власти на природу мелкую, низкую и малодушную. Вступив на престол, Нерон очень скоро убедился, что в его власти делать все, что ему только вздумается и, привыкнув смотреть на себя не иначе, как на земное божество, которого желания и фантазии должны быть выше всяких законов, начал предаваться без удержа разврату и влечению пылких страстей.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?