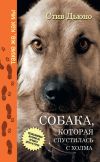Текст книги "История Тома Джонса, найденыша. Том 1"
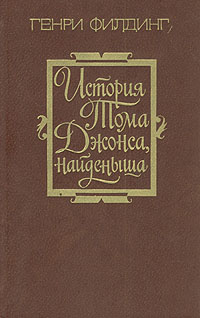
Автор книги: Генри Филдинг
Жанр: Литература 18 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 37 страниц)
Прибытие хирурга. Его мероприятия и длинный разговор Софьи со своей горничной
Когда они вошли в дом мистера Вестерна, Софья, которая еле передвигала ноги, повалилась в кресло; однако с помощью нюхательной соли и воды удалось предотвратить обморок, и к приходу хирурга, за которым было послано для Джонса, она совсем оправилась. Мистер Вестерн, приписывавший все эти болезненные явления ее падению, посоветовал ей в качестве меры предосторожности пустить кровь. В этом мнении его поддержал и хирург, который привел столько доводов в пользу кровопускания и столько примеров несчастий вследствие пренебрежения этим средством, что сквайр проявил еще большую настойчивость и решительно потребовал от дочери, чтобы она согласилась.
Софья уступила требованиям отца, хотя и совершенно против своей воли, ибо не ожидала, кажется, тех опасных последствий от испуга, каких боялись сквайр или хирург. Она протянула свою прекрасную руку, и хирург начал приготовления к операции.
Пока слуги приносили все необходимое, хирург, объяснявший нежелание Софьи подвергнуться операции ее страхом, стал ее успокаивать, уверяя, что тут нет никакой опасности и что несчастье при кровопускании может быть лишь следствием какого-нибудь чудовищного невежества шарлатана, берущегося за хирургию, – ясный намек, что в настоящем случае ей бояться нечего. Софья ответила, что она ничуть не боится, добавив:
– Если даже вы откроете мне артерию, я охотно прощу вам.
– Простишь?! – загремел Вестерн. – Да я-то, черт возьми, не прощу! Если этот негодяй сделает тебе больно, так я ему самому всю кровь выпущу!
Хирург согласился на эти условия и приступил к своей операции, которую сделал искусно и быстро, как обещал: он выпустил крови самую малость, сказав, что лучше повторить операцию раза два или три, чем отнять сразу слишком много крови.
После перевязки Софья удалилась; она не хотела (да этого, пожалуй, не позволяли и приличия) присутствовать при операции Джонса. Одним из ее возражений против кровопускания (хотя и не высказанным вслух) было то, что оно задержало бы вправку сломанной кости, ибо Вестерн, когда дело касалось дочери, не обращал никакого внимания на других, а сам Джонс «сидел, как статуя терпения на надгробном памятнике, с улыбкой переносящая горе». Правду сказать, при виде крови, брызнувшей из прелестной руки Софьи, он совершенно позабыл обо всем, что случилось с ним самим.
Хирург первым делом приказал пациенту раздеться до рубашки, после чего, засучив ему рукав до плеча, принялся тянуть и ощупывать обнаженную руку с таким усердием, что Джонс от нестерпимой боли начал делать гримасы. Увидя это, хирург с большим удивлением спросил:
– Что с вами, сэр? Быть не может, чтобы я причинил вам боль, – и, продолжая держать сломанную руку, начал читать длинную и очень ученую лекцию по анатомии, в которой обстоятельно описал все простые и сложные переломы и подверг обсуждению, сколькими разными способами Джонс мог сломать себе руку, с надлежащим пояснением, какие из них были бы лучше и какие хуже настоящего случая.
Окончив наконец свою ученую речь, из которой слушатели, несмотря на благоговейное внимание, вынесли немного, потому что ничего не поняли, он приступил к делу и окончил его гораздо скорее, чем начал.
После этого Джонсу приказали лечь в постель, которую мистер Вестерн предложил ему в своем доме, и приговорили его к кашке.
В числе присутствовавших при вправке кости в зале была и миссис Гонора. Сейчас же по окончании операции ее позвали к госпоже, и на вопрос последней, как себя чувствует молодой джентльмен, она начала изо всех сил расхваливать великодушие, как она выражалась, с которым он держался и которое «уж так было к лицу такому красавчику!». И Гонора разразилась пламенным панегириком красоте Джонса, перечислив все его прелести и закончив описанием белизны его кожи.
Речь эта вызвала изменения на лице Софьи, которые не укрылись бы, может быть, от внимания проницательной горничной, если бы в продолжение своего рассказа она хоть раз взглянула на свою госпожу; но очень удобно стоявшее напротив зеркало предоставило ей случай созерцать черты, которые доставляли ей самое большое наслаждение на свете, так что она ни на минуту не отводила глаз от этого любезного ее сердцу предмета.
Увлечение миссис Гоноры темой своей речи и предметом, находившимся перед ее глазами, позволило госпоже ее оправиться от смущения; она улыбнулась и сказала горничной, что та, «верно, влюблена в этого молодого человека».
– Я влюблена, сударыня? – отвечала Гонора. – Господь с вами, сударыня! Уверяю вас, сударыня, ей-богу, сударыня, я не влюблена.
– А если бы ты и влюбилась, – продолжала Софья, – не понимаю, чего тут стыдиться. Ведь он молодец хоть куда!
– Да, сударыня, – отвечала горничная, – истинная правда, я в жизнь свою не видела мужчины красивее его, верьте слову, не видела; и, правду говорит ваша милость, не знаю, чего мне стыдиться, если 6 я полюбила его, хотя он и неровня мне. Ведь господа из такого же мяса и крови, как и слуги. А потом, хоть сквайр Олверти и сделал из мистера Джонса барина, он стоит ниже меня по рождению; я хоть и бедная, а дочь честной женщины: мои батюшка и матушка были повенчаны, а этого иные не могут сказать о своих родителях, хоть и высоко нос задирают. Вот какие дела, доложу вам! Хоть у него и белая кожа – верьте слову, белее я никогда не видывала, – да я такая же христианка, как и он, и никто не смеет сказать, что я подлого звания: дед мой был священник и рассерчал бы на внучку, если б та польстилась на грязные обноски Молли Сигрим.
Может быть, Софья позволила бы миссис Гоноре продолжать в таком же роде, ибо у нее не хватало духу остановить ее расходившийся язычок, что, как может судить читатель, вообще было делом нелегким. Но кое-что в ее речах было столь неприятно для слуха госпожи, что она не вытерпела и остановила поток, которому, казалось, конца не будет.
– Удивляюсь, – сказала она, – откуда это у тебя столько дерзости говорить так о приятеле моего отца! Что же касается девчонки, то приказываю никогда не произносить при мне ее имени. А кому нечем больше попрекнуть молодого джентльмена, кроме его происхождения, пусть лучше молчит, что и тебе советую на будущее.
– Прошу прощения, что прогневила вашу милость, – отвечала миссис Гонора. – Верьте слову, и я терпеть не могу Молли Сигрим, как и ваша милость. А что я нехорошо сказала о сквайре Джонсе, так призываю всех слуг в свидетели, что, когда заходит между ними речь о незаконнорожденных, я всегда держу его сторону. Кто из вас, говорю я лакеям, не захотел бы быть незаконнорожденным, если б мог через то стать барином? А чем, говорю, он не барин? Таких белых рук ни у кого на свете не сыщешь, верьте слову, не сыщешь! И такой, говорю, он ласковый, такой добрый; все слуги, говорю, и все соседи кругом любят его. Вот, верьте слову, рассказала бы вашей милости кое-что, да, боюсь, прогневаетесь.
– Что ты рассказала бы, Гонора? – спросила Софья.
– Нет, сударыня, верьте слову, это он без всякого умысла, – так я не хотела бы гневить вашу милость.
– Пожалуйста, расскажи, – настаивала Софья, – я хочу знать сию минуту.
– Извольте, сударыня, – отвечала миссис Гонора. – Вошел он однажды в комнату на прошлой неделе, когда я сидела за шитьем, а на стуле муфта вашей милости лежала, и верьте слову, засунул в нее руки, – та самая муфта, что ваша милость вчера только мне подарили. «Оставьте, говорю, мистер Джонс, вы растянете барышнину муфту, да и попортите». А он все держит в ней руки, а потом взял да и поцеловал, – верьте слову, отроду такого горячего поцелуя не видывала!
– Должно быть, он не знал, что это моя муфта, – – заметила Софья.
– Прошу вашу милость выслушать дальше. Он все целовал да целовал и сказал, что красивее муфты на свете нет. «Полноте, сэр, говорю, вы ее сто раз видели». – «Да, миссис Гонора, говорит, но разве можно заметить что-нибудь прекрасное, когда перед тобой сама красавица?..» Нет, это еще не все, но, я надеюсь, ваша милость не прогневается, ведь, верьте слову, он это только так… Раз ваша милость играли для барина на клавикордах, а мистер Джонс сидел рядом в комнате, грустный такой. «Послушайте, говорю, мистер Джонс, что с вами? О чем так призадумались?» – «Плутовка, – говорит он, очнувшись, – можно ли о чем-нибудь думать, когда ваш ангел барышня играет?» А потом, стиснув мне руку: «Ах, миссис Гонора, говорит, кто-то будет счастливец!..» – и вздохнул. А вздох, вот побожусь, душистый, что твой букет! Но, верьте слову, это без всякого умысла. Только, пожалуйста, ваша милость, не проговоритесь: он дал мне крону, чтоб я никому не говорила, и заставил поклясться на книге, – да, кажется, это была не Библия.
Пока не открыли ничего прекраснее алого цвета, я не скажу ни слова о румянце, выступившем на щеках Софьи при этом рассказе.
– Го… но… ра… – проговорила она, – я… если ты не будешь больше говорить об этом мне… и другим тоже, я тебя не выдам… то есть не буду сердиться. Боюсь только твоего языка… Зачем, милая, ты даешь ему столько воли?
– Нет, нет, сударыня, – отвечала Гонора, – скорее я дам его отрезать, чем прогневаю вашу милость. Верьте, словечка не скажу, неугодного вашей милости.
– Так, пожалуйста, больше об этом не рассказывай, – сказала Софья, – а то дойдет до ушей батюшки, и он рассердится на мистера Джонса, хоть я и уверена, что тот, как ты говоришь, делает это без всякого умысла. Я сама рассердилась бы, если бы…
– Нет, нет, ручаюсь вам, сударыня, у него не было никакого умысла. Мне показалось, он словно не в своем уме, да и сам он признался, что себя не помнил, когда говорил эти слова. «Да, сэр, говорю, я тоже так думаю». – «Да, да, Гонора», говорит… Прошу прощения у вашей милости. Скорее вырву себе язык, чем прогневаю вас.
– Ничего, продолжай, – отвечала Софья, – если ты еще не все рассказала.
– «Да, говорит, Гонора (это было уже после того, как он дал мне крону), я не хлыщ и не негодяй, чтоб думать о ней иначе, как о богине, которой я буду поклоняться и молиться до последнего моего издыхания». Вот и все, сударыня. Ей-богу, все, больше ничего не припомню. Я сама была на него сердита, пока не убедилась, что у него нет никакого дурного умысла.
– Теперь, Гонора, я верю, что ты действительно меня любишь, – сказала Софья. – Намедни я в сердцах отказала тебе, но если ты хочешь оставаться при мне, так оставайся.
– Верьте слову, сударыня, – отвечала миссис Гонора, – я ввек не пожелаю расстаться с вашей милостью. Верьте слову, я все глаза проплакала, когда вы мне отказали. Нужно быть очень неблагодарной, чтобы пожелать уйти от вашей милости: такого хорошего места мне нигде не найти. Всю жизнь прожить и умереть готова при вашей милости. Правду сказал мистер Джонс, бедняжка: счастливец тот…
Обеденный колокол прервал на этом месте разговор, который произвел столь сильное впечатление на Софью, что утреннее кровопускание оказалось для нее, пожалуй, полезнее, чем думала она во время операции. Что же касается теперешнего состояния души ее, то я придерживаюсь правила Горация: не покушаться на описание чего бы то ни было, если нет надежды на успех. Большая часть читателей легко представит его и собственными силами, а те немногие, которые не могут этого сделать, все равно не поймут его или сочтут неестественным, как бы хорошо я ни изобразил его.
КНИГА ПЯТАЯ
охватывающая период времени немного больше полугода
ГЛАВА 1О серьезном в литературе и с какой целью оно нами вводится
Весьма возможно, что наименьшее удовольствие доставят читателю те части этого объемистого произведения, которые стоили автору наибольшего труда.
К ним, вероятно, будут причислены вступительные очерки, помещенные нами перед повествовательной частью каждой книги и являющиеся, согласно принятому нами решению, существенно необходимым элементом этого созидаемого нами литературного жанра.
Почему мы пришли к такому решению, этого, строго говоря, объяснять мы не обязаны; довольно будет сказать, что мы положили это необходимым правилом для всякого прозаико-комико-эпического сочинения. Разве кто-нибудь спрашивал, на чем основано строгое единство времени и места, которое признается столь существенным для драматической поэзии? Разве кому-нибудь из критиков задавали когда-нибудь вопрос, почему действие не может продолжаться два дня, а только один, или почему зрители (предполагая, что они, подобно избирателям, путешествуют даром) не могут переноситься за пятьдесят миль, а только за пять? Разве хоть один из комментаторов растолковал, почему древний критик поставил драме границы, объявив, что она должна иметь не больше и не меньше пяти действий? Разве пыталась хоть одна живая душа понять, что разумеют наши нынешние театральные судьи под словом низкое, с помощью которого им так счастливо удалось изгнать со сцены всякий юмор и сделать театр скучнее гостиной? Во всех этих случаях люди следуют, по-видимому, правилу нашей юриспруденции, гласящему: cuicunque in arte sua perito credendum est[27]27
Всякому, опытному в искусстве своем, надлежит верить (лат.).
[Закрыть]; ведь трудно себе представить, чтобы у кого-нибудь хватило бесстыдства устанавливать непреложные законы в какой-либо области науки или искусства без всякого на то основания. Вот почему мы склонны думать, что в основе всех этих законов лежат здравые и разумные причины, хотя мы, к несчастью, не способны проникать взором в такую глубину.
Правду сказать, свет чересчур почтителен к критикам и вообразил их людьми гораздо более глубокими, чем они есть на самом деле. Избалованные такой любезностью, критики бесцеремонно присвоили себе диктаторскую власть, стали господами и имеют дерзость предписывать законы писателям, от предшественников которых сами их получили.
Критик, говоря по совести, – не более чем писец, обязанность которого переписывать правила и законы, устанавливаемые великими судьями, силой гения вознесенными в степень законодателей в различных областях знания. Это все, к чему стремились критики прежнего времени; они не осмеливались высказать ни одного утверждения, не подкрепив его авторитетом судьи, от которого оно позаимствовано.
Но мало-помалу, с наступлением эпохи невежества, писец начал посягать на власть и присваивать права своего господина. Законы литературного произведения стали устанавливаться не творчеством писателя, а предписаниями критика. Писец сделался законодателем; люди, которые первоначально только записывали законы, начали повелительно давать их.
Отсюда проистекло одно очевидное и, может быть, неизбежное недоразумение: названные критики, будучи людьми не блестящих способностей, часто принимали голую форму за сущность. Они действовали подобно судье, который стал бы держаться мертвой буквы закона, совершенно не считаясь с духом его. Незначительные мелочи, может быть, совершенно случайные у великого писателя, рассматривались этими критиками как его главная заслуга и передавались в качестве основных правил, соблюдение которых обязательно для всех последующих писателей. Время и невежество, два великих покровителя обманщиков, придали всем их утверждениям авторитетность, и, таким образом, было установлено множество правил, как следует писать, нисколько не основанных ни на истине, ни на природе и служащих исключительно лишь для того, чтобы стеснять и обуздывать гений, вроде того как стеснили бы балетмейстера самые великолепные трактаты по его искусству, если бы в них выставлялось главным требованием, чтобы каждый человек танцевал в кандалах.
И вот, во избежание всяких упреков в том, что мы устанавливаем для потомства закон, основанный единственно на авторитете ipse dixit[28]28
Сам сказал (лат.).
[Закрыть], – к коему, по правде говоря, мы не питаем особенно глубокого уважения, – мы отказываемся от вышеназванной привилегии и представим читателю причины, побудившие нас уснастить последовательное изложение нашей истории некоторым числом отступлений.
Для этого нам поневоле придется вскрыть новую жилу знания, которая хотя давно уже известна, однако, насколько мы припоминаем, еще не разрабатывалась никем из древних или новых писателей. Жила эта – не что иное, как закон контраста; она проходит по всем творениям и, вероятно, немало способствует образованию в нас идеи красоты как естественной, так и искусственной; ибо что лучше раскрывает красоту и достоинство вещи, как не ее противоположность? Так, красота дня и лета оттеняется ужасами ночи и зимы. И я думаю, что если бы нашелся на свете человек, никогда их не видевший, то он имел бы весьма несовершенное представление об их красоте.
Но не будем пускаться в слишком серьезные материи и возьмем пример из другой области: можно ли сомневаться, что самая красивая женщина на свете лишится всего своего очарования в глазах мужчины, который никогда не видел женщин иной наружности? Дамы и сами, по-видимому, прекрасно это чувствуют, постоянно заботясь о создании выгодного для себя фона; они доходят даже до того, что в такой фон обращают себя самих. Я замечал (особенно в Бате), что по утрам они стараются казаться как можно безобразнее, чтобы тем сильнее поразить вас своей красотой вечером.
Многие художники придерживаются этого правила на практике, хотя, может быть, и редко изучали его в теории. Ювелиры знают, что самый лучший брильянт требует фольги, а живописцы часто стяжают себе похвалы изображением контрастных фигур.
Один великий отечественный гений поможет нам исчерпывающе объяснить это явление. Я не могу, правда, причислить его ни к одной из категорий обыкновенных художников, так как он имеет право занять место среди тех, Inventas qui vitam excoluere per artes – «которые украсили жизнь изобретенными ими искусствами», – я разумею изобретателя изысканнейшего развлечения, известного под названием Английской Пантомимы.
Развлечение это состояло из двух частей: первую изобретатель называл серьезной, вторую – комической. В серьезной части показывалось некоторое количество языческих богов и героев, – вероятно, самое дурное и тупоумное общество, в какое когда-либо попадали зрители, – и все это (тайна, известная лишь немногим) делалось умышленно, для того чтобы выгоднее оттенить комическую часть представления и придать больше яркости проделкам арлекина.
Это было, может быть, не очень учтивым обращением с такими важными особами, но выдумка все же была остроумной, и желательный эффект достигался. Объяснить его легко, стоит только слова «комическое» и «серьезное» заменить словами «глупейшее» и «самое глупое»: комическая часть была, несомненно, глупее всего, что до сих пор показывалось на сцене, и могла вызывать смех только по контрасту с непроходимо глупой серьезной частью. Боги и герои были так нестерпимо серьезны, что арлекину (хотя английский джентльмен, носящий это имя, не имеет ничего общего со своим французским тезкой, будучи гораздо более серьезного нрава) всегда оказывался самый радушный прием, потому что он избавлял зрителей от гораздо худшей компании.
Умные писатели всегда с большим успехом пользовались приемом контраста. Меня очень удивляет, что Гораций придирается за это к Гомеру; правда, в следующей же строке он противоречит себе: Indignor, quandoque bonus dermitat Homerus, Verum opere in longo fas est obrepere somnum. – «Досадно мне, когда засыпает великий Гомер, хоть и позволительно вздремнуть над длинным трудом». Ведь этого не должно понимать так, как понимают, быть может, иные, будто писателю случается заснуть в то время, как он пишет. Читатели – те действительно весьма подвержены сонливости, но сам автор, хотя бы произведение его было такой же длины, как произведения Олд-миксона, бывает обыкновенно слишком увлечен своим трудом для того, чтобы им могла овладеть даже легкая дремота. Как говорит мистер Поп: Не дремлет он, читателям чтоб спалось.
Правду сказать, такими снотворными частями нашего произведения являются серьезные места, искусно в него вплетенные с той целью, чтобы по контрасту выгоднее оттенить остальное; в этом и заключается истинный смысл слов одного покойного писателя-шутника, который просил публику помнить, что всякий раз, когда она будет находить его скучным, – это значит, что он умышленно стремится к этому.
В этом свете, или, вернее в этой темноте, я желал бы, чтобы читатель рассматривал мои вступительные очерки. Если же он и после этого предупреждения будет находить, что серьезного и без того довольно в других частях моей истории, то может пропускать эти введения, в которых мы умышленно стремимся быть скучными, и начинать следующие книги прямо со второй главы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.