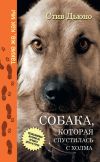Текст книги "История Тома Джонса, найденыша. Том 1"
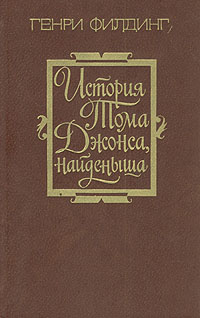
Автор книги: Генри Филдинг
Жанр: Литература 18 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 37 страниц)
в которой мистер Олверти является на одре болезни
Мистер Вестерн так полюбил Джонса, что не желал с ним расстаться и после того, как рука молодого человека давно зажила. Джонс тоже, из любви ли к охоте, или по другой какой причине, любезно соглашался проживать в его доме недели по две, не наведываясь ни разу к мистеру Олверти и даже не получая от него никаких вестей.
Мистер Олверти простудился и уже несколько дней чувствовал недомогание, сопровождавшееся легким жаром. Однако он не обращал на него внимания, как обыкновенно это делал, когда болезнь не заставляла его слечь и не мешала его способностям нормально функционировать – поведение, которого мы ни в коем случае не одобряем и не советуем ему подражать, ибо правы господа, занимающиеся искусством Эскулапа, говоря, что если болезнь вошла в одну дверь, то врач должен войти в другую. Иначе что значила бы старинная пословица: «Venienti occurrite morbo» – «Противоборствуйте болезни с самого ее появления»? При этих условиях доктор и болезнь встречаются в честном поединке, одинаково вооруженные; тогда как, давши недугу время, мы позволяем ему укрепиться и окопаться, подобно французской армии, и для ученого мужа бывает очень трудно, а подчас и невозможно подступиться к нему. Порой даже, выиграв время, болезнь применяет французскую военную тактику, подкупая самое природу, и тогда все медицинские средства оказываются запоздалыми. Так, помнится, знаменитый доктор Мизобен любил патетически жаловаться, что к его искусству обращаются слишком поздно, говоря: «Мои пациенты, должно быть, принимают меня за гробовщика, потому что посылают за мной только уже после того, как врач убил их».
Вследствие такой небрежности недомогание мистера Олверти настолько усилилось, что, когда нестерпимый жар заставил его наконец обратиться к медицинской помощи, доктор, войдя к больному, покачал головой, выразив сожаление, что за ним не послали раньше, и объявил, что, по его мнению, пациент в большой опасности. Мистер Олверти, все дела которого в этом мире были устроены и который вполне приготовился к переходу в мир иной, выслушал это сообщение с величайшим спокойствием и невозмутимостью. Он мог бы каждый день, отходя ко сну, говорить вместе с Катоном в известной трагедии:
Пускай вина иль страх
Тревожит вас, – не знает их Катон,
И для него равны и сон и смерть.
И он мог говорить это даже с гораздо большим основанием и уверенностью, чем Катон или любой из надменных героев древности или современности, ибо он не только был чужд страха, но имел полное право, как добросовестный работник по окончании жатвы, рассчитывать на получение награды из рук щедрого хозяина.
Мистер Олверти немедленно распорядился созвать всех своих домочадцев. Все были налицо, за исключением миссис Блайфил, несколько времени тому назад уехавшей в Лондон, и мистера Джонса, с которым читатель только что расстался в доме мистера Вестерна и которого пришли звать в ту самую минуту, когда его покинула Софья.
Известие об опасности, угрожающей мистеру Олверти (слуга сказал, что он умирает), прогнало из головы Джонса всякую мысль о любви. Он тотчас же бросился в присланную за ним коляску и приказал кучеру гнать во весь опор; дорогой, я убежден, он ни разу, не вспомнил о Софье.
Когда вся семья, именно: мистер Блайфил, мистер Джонс, мистер Тваком, мистер Сквейр и некоторые из слуг (так приказал мистер Олверти), собралась вокруг постели, больной сел и начал было говорить, но ему помешали громкие рыдания и горькие жалобы Блайфила. Мистер Олверти пожал ему руку и сказал:
– Не кручинься так, дорогой племянник, по случаю самого обыкновенного события, выпадающего на долю человека. Когда друзей наших постигают несчастья, мы справедливо огорчаемся, потому что часто эти несчастья можно было бы предотвратить и они делают участь одного человека более тяжелой, чем участь других; но смерти избежать невозможно, это наш общий удел, который один только равняет всех людей, а приходит ли она раньше или позже – это несущественно. Если мудрейший из людей сравнивал продолжительность жизни с мгновеньем, то уж, конечно, нам позволительно смотреть на нее, как на один день. Мне суждено покинуть ее вечером; но те, что были взяты раньше, потеряли лишь несколько часов, в самом лучшем случае мало стоящих сожаления, а гораздо чаще – это часы изнурительного труда, страданий и горя. Один римский поэт, помнится, сравнивает нашу кончину с окончанием празднества, – мысль эта часто приходила мне в голову, когда я видел, как люди изо всех сил стараются продлить развлечение и насладиться обществом своих друзей несколько лишних минут. Увы, как кратки самые продолжительные из этих удовольствий! Как ничтожна разница между уходящим прежде всех и уходящим последним! Но такой взгляд на жизнь еще самый благоприятный, и это нежелание расстаться с друзьями еще прекраснейшее из побуждений, заставляющих нас бояться смерти; и все же самое продолжительное, на какое мы можем рассчитывать, удовольствие этого рода так быстротечно, что не имеет никакой цены в глазах мудреца. Немногие, должен сознаться, так думают, ибо немногие думают о смерти до того, как попадут в ее пасть. Как ни чудовищно грозна она для них при своем приближении, все-таки они не в состоянии видеть ее издали; больше того, несмотря на весь страх и трепет, охватывающие их в предсмертный час, всякая память об этом у них исчезает, как только опасность смерти миновала. Но, увы, ускользнуть от смерти – не значит быть пощаженным ею; это только отсрочка, и притом отсрочка недолгая.
Не печалься же, друг мой. Событие, которое может случиться каждый час, которое может быть вызвано каждой стихией, больше того – почти каждой частицей окружающей нас материи, и которое совершенно неизбежно для всех нас, не должно ни удивлять, ни огорчать нас.
Так как доктор сообщил мне (и я очень ему благодарен за это), что мне угрожает опасность скоро с вами расстаться, то я решил сказать вам на прощанье несколько слов, пока болезнь, которая, чувствую я, быстро берет власть надо мной, еще не лишила меня способности говорить.
Но мне приходится слишком напрягать свои силы. Я намерен поговорить относительно моего завещания. Хотя оно давно уже мной составлено, но мне хочется сообщить его пункты, касающиеся каждого из вас, чтобы увериться, все ли вы довольны теми распоряжениями, которые я в нем сделал.
Вам, племянник Блайфил, я отказываю все свое состояние, за исключением пятисот фунтов годового дохода, которые перейдут вам после смерти вашей матери, и за исключением поместья с пятьюстами фунтами годового дохода и капитала в шесть тысяч фунтов, которые я разделил следующим образом:
Вам, мистер Джонс, я завещаю поместье с пятьюстами фунтами годового дохода; и так как я знаю, как неудобно оставаться без наличных денег, то прибавил к ним еще тысячу фунтов звонкой монетой. Не знаю, превзошел ли я или обманул ваши ожидания. Может быть, вам покажется этого мало, а свет не замедлит осудить меня, сказав, что я дал слишком много; но суждение света я презираю, а что касается вашего мнения, то, если вы не разделяете общераспространенного заблуждения, которое мне не раз доводилось слышать на своем веку в качестве оправдания скаредности, – именно, будто благодеяния, вместо того чтобы делать людей благодарными, делают их только бевгранично требовательными и вечно недовольными… Извините меня, что я об этом заговорил; я не подозреваю вас в таких чувствах.
Джонс припал к ногам своего благодетеля и, горячо пожав ему руку, сказал, что доброта его, и в настоящем случае и прежде, настолько им не заслужена и настолько превосходит все его ожидания, что никакие слова не могут выразить его благодарности.
– И смею вас уверить, сэр, ваше великодушие тронуло меня до глубины души, и если бы не эта печальная минута… О друг мой, отец мой!
От волнения он не мог больше говорить и отвернулся, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы.
Олверти дружески пожал ему руку и продолжал!
– Я убежден, друг мой, что ты добр, великодушен, благороден; если к этим качествам ты присоединишь еще благоразумие и благочестие, ты будешь счастлив. Первые три качества, я признаю, делают человека достойным счастья, но только последние два сделают действительно счастливым.
Тысячу фунтов даю я вам, мистер Тваком. Сумма эта, я уверен, намного превосходит ваши желания и ваши потребности. Однако примите ее на память о моих дружеских чувствах к вам; и если что окажется лишним, то ваше благочестие, которого вы держитесь так строго, научит вас, как распорядиться остатком.
Такую же сумму даю я и вам, мистер Сквейр. Она, я надеюсь, даст вам возможность продолжать ваши занятия с большим успехом, чем до сих пор. Я не раз замечал с прискорбием, что нужда чаще возбуждает презрение, чем сострадание, особенно в людях деловых, для которых бедность есть свидетельство недостатка практических способностей. Те небольшие деньги, которые я могу предложить вам, освободят вас, однако, от затруднений, стоявших прежде на вашем пути, и я не сомневаюсь, что доставшиеся вам средства позволят удовлетворить все скромные потребности вашей философской натуры.
Я чувствую, что силы покидают меня, и потому не упоминаю об остальных: все это вы найдете в моем завещании. Там помянуты и слуги мои; кое-что оставлено и на дела благотворения; я уверен, что душеприказчики исполнят волю мою в точности. Да благословит всех вас господь! Я отправляюсь в путь немножко раньше вас…
Тут в комнату поспешно вошел лакей и доложил, что приехал стряпчий из Солсбери с важным поручением, которое, по его словам, он должен передать лично мистеру Олверти. Человек этот, сказал лакей, по-видимому, очень торопится и заявляет, что у него столько дел, что, разорвись он на четыре части, и то с ними не справится.
– Ступай, друг мой, и узнай, что нужно этому джентльмену, – обратился Олверти к Блайфилу. – Сейчас я не в состоянии заниматься делами, и притом это дело касается теперь больше тебя, чем меня. Я же решительно не в состоянии принять кого-нибудь в эту минуту и сосредоточить на чем-нибудь свое внимание.
После этого он простился со всеми, сказав, что, может быть, будет в силах снова свидеться со своими родными, но теперь ему хочется немного отдохнуть, так как произнесенная только что речь сильно его утомила.
Некоторые из собравшихся горько плакали, уходя из комнаты, и даже философ Сквейр отирал глаза, давно Отвыкшие наполняться слезами. Что же касается миссис Вилкинс, то она роняла капли слез, как аравийские деревья целительную камедь – церемония, без которой эта дама никогда не обходилась в подобающих случаях.
После этого мистер Олверти снова опустился на подушки и расположился поудобнее, чтобы соснуть.
ГЛАВА VIII,содержащая предметы скорее естественные, чем приятные
Помимо сокрушения по случаю болезни хозяина, был еще другой источник соленых ключей, так обильно забивших над холмоподобными скулами домоправительницы. Не успела она выйти из комнаты, как завела себе под нос такую приятную песню:
– Кажется, хозяин мог бы сделать некоторое различие между мной и остальными слугами. На траур-то, я думаю, он мне оставил, но если это все, так пусть дьявол его носит по нем вместо меня! Надо бы его милости знать, что я ведь не нищая. Пять сотенок прикопила у него на службе, а он вот как со мной поступает… Славное поощрение для честных слуг! Если подчас я и брала кое-что лишнее, так другие брали в десять раз больше; а теперь все в одну кучу свалены! Коли так, пусть все завещанное идет к черту вместе с самим завещателем! Впрочем, нет – от своего я не откажусь, а то уж слишком обрадуется кое-кто. Куплю себе платье поярче, да и пропляшу в нем на могиле этого скряги. Так вот какая мне награда за то, что постоянно вступалась за него, когда, бывало, все соседи примутся на чем свет ругать его за то, что так нянчится со своим ублюдком! Но теперь он идет туда, где за все придется расплачиваться. Лучше бы покаялся перед смертью в своих грехах, а он ими еще хвастает, отдает семейное добро незаконнорожденному. Нашел его, видите ли, у себя в постели! Хорошенькое дело! Кто спрятал, тот знает, где найти. Господи, прости ему! Бьюсь об заклад, ему не за одного такого отвечать придется. Хоть то утешение, что там, куда он идет, ни одного не скроешь. «Помянуты и слуги мои» – вот его собственные слова; тысячу лет проживу, а их не забуду. Припомню вам, сударь, что в одну кучу со всей челядью свалена! Мог бы, кажется, упомянуть меня отдельно, как, скажем, Сквейра; да тот, видите ли, джентльмен, хоть и пришел сюда в одних опорках! Черт бы побрал таких джентльменов! Сколько лет в доме прожил, а никто из слуг не видел даже, какого цвета его деньги. Пусть черт прислуживает такому джентльмену, а меня увольте!
Долго она еще приговаривала в таком роде, но для читателя довольно будет и этого образчика.
Тваком и Сквейр остались немногим более довольны завещанной им долей. Правда, они не высказывали своего недовольства так явно, но по их кислым лицам, а также на основании нижеприведенного разговора мы заключаем, что они не были в большом восторге.
Через час после ухода из комнаты больного Сквейр встретил Твакома в зале и обратился к нему с вопросом:
– Вы не получали никаких вестей, сэр, о состоянии вашего друга, после того как мы расстались с ним?
– Если вы подразумеваете мистера Олверти, – отвечал Тваком, – то, мне кажется, вы скорее вправе называть его вашим другом; он это вполне заслужил.
– Так же, как и название вашего друга, – возразил Сквейр, – ведь он оделил нас в своем завещании одинаково.
– Я не стал бы об этом заговаривать первый, – сказал повышенным тоном Тваком, – но раз уж вы начали, то должен вам заявить, что не разделяю вашего мнения. Существует огромная разница между добровольным даром и вознаграждением за труд. Обязанности, которые я исполнял в семье, заботы по воспитанию двух мальчиков, казалось бы, дают право на большую награду. Не вздумайте, однако, заключить из моих слов, что я недоволен: апостол Павел научил меня довольствоваться тем малым, что у меня есть; и если бы полученная мною безделица была еще меньше, я не забыл бы своего долга. Но если Писание требует от меня оставаться довольным, то оно не обязывает закрывать глаза на собственные заслуги и не возбраняет чувствовать обиду при несправедливом сравнении с другими.
– Уж если на то пошло, – возразил Сквейр, – так обида нанесена мне. Я никогда не предполагал, что мистер Олверти ценит мою дружбу так мало, чтобы ставить меня на одну доску с человеком, работающим за жалованье. Но я знаю, откуда это идет: это все следствие тех узких правил, которые вы так усердно старались внедрить в него, наперекор всему великому и благородному. Красота и изящество дружбы ослепляют слабое зрение и могут быть восприняты не иначе как посредством непогрешимого закона справедливости, который вы так часто осмеивали, что совсем сбили о толку вашего друга.
– Я желаю только, – в ярости воскликнул Тваком, – я желаю только, ради спасения его души, чтобы ваше проклятое учение не подорвало в нем веры! Вот чему я приписываю его теперешнее поведение, столь неприличное для христианина. Кто, кроме атеиста, мог бы помыслить уйти из этого мира, не представив отчета в делах своих, не исповедавшись в грехах и не получив отпущения, тогда как хорошо известно, что в доме есть человек, имеющий право дать это отпущение? Он почувствует потребность в этих необходимых вещах, когда будет уже поздно, когда он окажется уже там, где раздаются плач и скрежет зубовный. Лишь тогда увнает он, много ли может помочь ему эта языческая богиня, вта добродетель, которой поклоняетесь вы и все другие деисты нашего века. Тогда потребует он священника, которого там не сыскать, и воскорбит об отпущении, без которого для грешника нет спасения.
– Если оно так существенно, – заметил Сквейр, – тан почему вы не дадите его по собственному почину?
– Оно имеет силу только для людей, с верой его приемлющих. Но что говорить об втом с язычником и неверующим! Ведь вы сами преподали ему этот урок, за который вознаграждены на этом свете столь же щедро, как, я не сомневаюсь, ученик ваш скоро будет вознагражден на том.
– Не знаю, что вы разумеете под вознаграждением, – сказал Сквейр, – но если вы намекаете на жалкий дар нашей дружбе, который он соблаговолил отказать мне, то я его презираю, и если бы не мои стесненные обстоятельства, так ни за что бы его не принял.
В эту минуту вошел доктор и начал расспрашивать спорщиков, как обстоят дела наверху.
– Плачевно, – отвечал Тваком.
– Так я и предвидел. Но скажите, пожалуйста, не появились ли какие-нибудь новые симптомы после моего ухода?
– Боюсь, что неблагоприятные, – отвечал Тваком. – После того, что произошло при нашем уходе, мне кажется, обнадеживающего мало.
Врач плоти, должно быть, превратно понял целителя душ, но, прежде чем они успели объясниться, к ним подошел мистер Блайфил с чрезвычайно удрученным видом и объявил, что принес печальные вести: мать его скончалась в Солсбери: по дороге домой с ней случился припадок подагры, болезнь бросилась в голову и желудок, и через несколько часов ее не стало.
– Увы! Увы! – воскликнул доктор. – Поручиться, конечно, нельзя, но жаль, что меня там не было. Подагра – трудная для лечения болезнь, а все же мне удавалось достигать замечательных успехов.
Тваком и Сквейр выразили мистеру Блайфилу соболезнование по случаю постигшей его утраты, причем первый советовал ему перенести это несчастье с христианским смирением, а второй – со стойкостью мужчины. Молодой человек ответил, что ему хорошо известно, что все мы смертны, и что он постарается перенести утрату по мере своих сил, но не может все же не пожаловаться на чрезмерную суровость к нему судьбы, которая приносит врасплох такое прискорбное известие в то время, когда он с часу на час ожидает ужаснейшего из ударов, какими она может поразить его. Настоящий случай, сказал он, покажет, насколько им усвоены наставления, преподанные мистером Твакомом и мистером Сквейром, и если ему удастся пережить столь великие несчастья, он будет всецело обязан этим своим наставникам.
Стали обсуждать, следует ли известить мистера Ол-верти о смерти сестры. Доктор резко этому воспротивился, в чем, я думаю, согласятся с ним все его коллеги; но Блайфил заявил, что он неоднократно получал от дяди самые решительные приказания никогда и ничего не утаивать от него из опасения разволновать его и что поэтому он не смеет и думать об ослушании, какие бы последствия ни произошли. Что до него лично, сказал Блайфил, то, принимая во внимание философские и религиозные убеждения дяди, он не может согласиться с доктором и не разделяет его опасений. Поэтому он решил сообщить дяде полученное известие: ведь если мистер Олверти поправится (о чем он, Блайфил пламенно молит бога), то никогда не простит ему такого рода утайки.
Доктор принужден был подчиниться этому решению, горячо одобренному обоими учеными мужами, и отправился вместе с мистером Блайфилом в комнату больного.
Войдя туда первым, он приблизился к постели мистера Олверти с целью пощупать ему пульс, после чего объявил, что больному гораздо лучше: последнее лекарство сделало чудеса, жар прекратился, и опасность теперь столь же ничтожна, сколь ничтожны были перед этим надежды на благополучный исход.
По правде говоря, положение мистера Олверти никогда не было столь опасным, как изображал его чересчур осторожный доктор. Как умный генерал никогда не смотрит с пренебрежением на неприятеля, хотя бы он значительно уступал ему силами, так и умный врач никогда не относится пренебрежительно к самому ничтожному недомоганию. Если первый поддерживает строжайшую дисциплину, ставит караулы и посылает разведчиков, несмотря на слабость неприятеля, то второй сохраняет серьезное выражение лица и многозначительно покачивает головой при самом пустячном заболевании. И в числе других веских оснований такой тактики оба они могут привести то самое веское, что если им удастся одержать победу, то тем большей славой они себя покроют, а если вследствие какой-нибудь несчастной случайности окажутся побежденными, тем меньше им будет стыда.
Едва только мистер Олверти возвел глаза к небу и поблагодарил бога за дарование этой надежды на выздоровление, как мистер Блайфил подошел к нему с удрученным видом и, приложив к глазам платок, для того ли, чтобы отереть слезы, или же для того, чтобы поступить по совету Овидия, который говорит:
Si nullus erit, tamen excute nullum —
«Коль нет слезы, утри пустое место», – сообщил дяде известие, о котором мы только что рассказали читателю.
Олверти выслушал племянника с огорчением, кротостью и безропотностью. Он проронил слезу, но потом овладел собой и воскликнул:
– Да будет воля господня!
Чувствуя себя лучше, он пожелал теперь увидеть посланного, но Блайфил сказал, что его невозможно было удержать ни на минуту, так как, судя по его торопливости, у него на руках было какое-то важное дело; стряпчий жаловался, что его загнали до последней степени, и поминутно повторял, что если бы мог разорваться на четыре части, то для каждой из них нашлось бы дело.
Тогда Олверти попросил Блайфила взять на себя заботы о похоронах. Он выразил желание, чтобы сестра была похоронена в их фамильном склепе; а что касается частностей, то предоставил их на усмотрение племянника, назначив только, какого священника пригласить для совершения обряда.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.