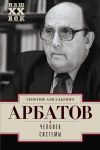Текст книги "Век Георгия Арбатова. Воспоминания"

Автор книги: Георгий Арбатов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
[…] Мессианство, рожденное Октябрем, не было националистическим, поднимавшим одну нацию над другими. Нет, оно было сугубо интернационалистским, проникнутым готовностью отдать, принести в жертву все, чтобы только открыть путь к свободе и счастью изнемогающему под игом капитала человечеству.
Эти мессианские настроения, вера в высокий смысл происходящего, рождавшаяся отсюда готовность к самопожертвованию, несомненно, помогали выносить неимоверные лишения, пережить самые тяжкие испытания. Мало того, они способствовали завоеванию Советским Союзом высокого авторитета у левых сил, левой интеллигенции Запада, хотя, к сожалению, присущее нам тогда сектантство не позволило этому в должной мере реализоваться. И в то же время усиливало враждебность правящих кругов и недоверие обывателя западных стран. Здесь плюсы и минусы, так сказать, уравновешивались. Но был еще один большой, поистине роковой минус, который компенсировать нельзя было ничем: такие настроения облегчали Сталину манипуляцию советскими людьми, делали их беззащитной, легкой добычей коварного, безжалостного и своекорыстного лидера. Даже интернационализм, как оказалось, можно было поставить на службу национализму, великодержавным устремлениям. Очень наглядное проявление – ставшее привычным понятие «воины-интернационалисты» в применении к нашим солдатам и офицерам, честно, нередко доблестно служившим в Афганистане, но только в войне бессмысленной, заслужившей всеобщее осуждение и отнюдь не бывшей проявлением интернационализма.
Во внешней политике Сталина эта великодержавность получила достаточно яркое воплощение, начиная как минимум с протоколов к советско-германскому договору от 23 августа 1939 года. До каких глубин падения он при этом был готов дойти, свидетельствует дальнейшее развитие отношений Сталина с Гитлером. Во время визита Молотова в Германию Советскому Союзу предложили присоединиться к «антикоминтерновскому пакту», правда, спешно переименованному его участниками (Германия, Италия, Япония) в «пакт трех». И вскоре в Берлин было направлено согласие – при условии, что Гитлер не будет возражать против нашей экспансии на юг, к Черноморским проливам и к теплому Аравийскому морю и Персидскому заливу. Вот во что выродилось наивное, по своей природе бескорыстное мессианство, рожденное романтическим периодом революции.
Великодержавные настроения и амбиции пережили Сталина, я имею в виду прежде всего настроения, политическое мышление руководства. Но в какой-то мере они проникли сверху вниз, отравили сознание части общественности. На преемниках Сталина тяжелыми гирями висели эти пережитки прошлого в их собственном сознании и в мышлении части советских людей, мешая вырваться из конструкций сложившейся после войны (разумеется, не без нашего участия) системы международных отношений, не позволяя эффективно бороться с холодной войной, гонкой вооружений и политикой силовых конфронтаций, даже когда для этого начали возникать благоприятные условия.
[…] Наша слабая готовность (а в каких-то вопросах – просто полное отсутствие таковой) к серьезному разговору, а затем и серьезным делам в области ограничения и сокращения вооружений. Ибо к тому времени в международных отношениях без этого уже был невозможен настоящий прорыв.
Собственно, удивительного в том, что мы к этим разговорам и делам были слабо подготовлены, ничего не было. Перед Министерством обороны и оборонной промышленностью никто раньше не ставил таких задач, их заботой было догонять американцев в вооружениях, а не обдумывать возможные варианты их ограничения. К тому же работники Министерства обороны и военно-промышленного комплекса (точно так же, честно говоря, как большинство работников Министерства иностранных дел и специалистов из числа научных работников) были интеллектуально не подготовлены к диалогу с американцами и к серьезным, выходящим за рамки общих политических деклараций переговорам. Не подготовлены настолько, что вначале не могли даже как следует усвоить американские концепции и терминологию, относящиеся к стратегическим и разоруженческим вопросам. Это я хорошо помню по своим беседам с членами нашей делегации перед началом переговоров по ограничению стратегических вооружений. Не говоря уж об отсутствии готовности и способности овладеть инициативой, внести свои обоснованные, могущие привлечь интерес другой стороны, а также мировой общественности предложения. А тем более выдвинуть новые идеи.
Да и откуда этому было взяться? Военное и военно-промышленное ведомства были государством в государстве. Все здесь было (в значительной мере и остается) окруженным глубокой тайной. Сфера этих ведомств была совершенно неприкасаема – Л.И. Брежнев, видимо, немалым был обязан поддержке военных, а кроме того, сам себе больше всего нравился как генерал, «герой войны». Оказывало влияние и то, что в течение ряда лет он был главным партийным куратором оборонной промышленности и привык генералам и генеральным конструкторам практически ни в чем не отказывать. Мало того – всячески их ублажал.
Нужны были какие-то особые обстоятельства, чтобы эти преграды преодолеть. И набраться духу не для того, чтобы потихоньку, не выходя за рамки привычного в традиционной дипломатии, несколько улучшить отношения с той или другой страной, а замахнуться на сами основы холодной войны, попытаться заменить ее другой, менее опасной международной системой.
[…] И в то же время надо признать, что Пленум не пошел достаточно далеко вперед, чтобы использовать открывающиеся возможности, сбросить с внешней политики оковы старых догм. Чтобы свести концы с концами, перебросить мостик от старой, к тому же не всегда правильно понимаемой теории и идеологии к новой политике, нашли другой ход: новые объективные возможности политики мира и оздоровления международных отношений объяснили изменившимся соотношением сил между социализмом и капитализмом (подразумевалось также между СССР и США).
В каком-то смысле это было правильно, особенно если сравнивать ситуацию с той, что существовала в конце сороковых – начале пятидесятых годов. Должен признаться, я этот довод тоже нередко использовал – особенно в дискуссиях с нашими отечественными блюстителями идеологической девственности и чистоты. Хотя с самого начала у меня было одно сомнение – изменением соотношения сил мы в прошлом доказывали прямо противоположное: чем слабее классовый враг и чем слабее империализм, тем ожесточеннее они сопротивляются и тем решительнее мы должны с ними бороться. А значит, тем острее становятся напряженность, угроза конфронтации. Таким образом, приводилась одна причина для двух разных, даже противоположных международных ситуаций и политических курсов.
Со временем я начал испытывать и другие, более основательные сомнения в аргументации насчет изменения в соотношении сил. Во-первых, потому, что такие наши доводы укрепляли в США позиции сторонников дальнейшего наращивания американского военного потенциала. Это стало особенно очевидным уже при Рейгане, когда консерваторы со ссылками на наши же документы и заявления все действительные и мнимые политические поражения США объясняли тем, что военное соотношение сил изменилось в пользу СССР. И во-вторых, как-то не гармонировало это «силовое» объяснение причин позитивных перемен с новыми реальностями эпохи, тем более что, как правило, оно понималось упрощенно, действительно сводилось к ситуации в военной сфере.
Дальше этих доводов о соотношении сил мы тогда все же не пошли. В том числе и по вопросам, которые должны были быть совершенно очевидными. Скажем, по вопросу о невозможности победы в ядерной войне да и о том, что в нашу эпоху войну уже нельзя считать продолжением политики другими средствами. («Красная звезда» сурово критиковала советских журналистов и ученых, оспаривавших эту формулу Клаузевица, вплоть до начала, если не середины восьмидесятых годов.) Фактически не до конца было понято и то, что период «биполярного мира» кончился и сейчас наряду с США и СССР появились другие, новые центры силы. И это, кстати, стало одной из причин излишней зацикленности нашей политики на американском направлении, известного пренебрежения другими. Наконец, излишний упор на изменившееся соотношение сил оставлял в тени важнейший вопрос о растущей роли, в том числе для безопасности, новых факторов силы – невоенных. Все это начало пониматься и признаваться много позже.
Застой в апогее (1975–1982)От разрядки ко второй холодной войне
[…] Хотя США отреагировали на посылку кубинских войск в Анголу резко негативно из-за того, что еще свежим в памяти был Вьетнам, а сами они были поглощены внутренними делами – разбирались с последствиями уотергейтского скандала, вступали в полосу острой предвыборной борьбы, – эта реакция была скорее латентной, заложенной вглубь, не имевшей видимых прямых последствий. Ведь снижение уровня доверия не так легко сразу заметить. Что касается самой Анголы, то поначалу могло показаться, что цели достигнуты – к власти пришла МПЛА, у страны вроде бы появилось стабильное правительство, был открыт путь к самостоятельному развитию. Казалось также, что кубинские войска недолго там пробудут – едва ли можно было тогда предположить, что им придется оставаться в стране, вести бои, нести потери еще на протяжении пятнадцати лет.
У меня уже тогда зародилось беспокойство, что успех и кажущаяся его легкость, отсутствие серьезных международных осложнений будут восприняты как единственный урок из этих событий, как подтверждение некоторых посылок, лежавших в основе акции в Анголе. К сожалению, эти опасения оправдались.
В свете такого, как казалось, убедительного опыта стало трудно воздерживаться от соблазнов, чрезмерных обязательств, втягивания в сложные внутренние дела других стран, столь сложные, что мы их подчас просто не понимали. А в конце концов и прямого военного вмешательства. После Анголы мы смело зашагали по этому казавшемуся уже накатанным пути, на деле же – по ступеням интервенционистской эскалации. Эти ступени – Эфиопия, Йемен, ряд африканских стран (ближневосточной проблемы не хочу касаться – она столь сложна, что должна рассматриваться специалистом), и в завершение – Афганистан.
Не вызывает сомнения, что каждая из этих ситуаций имела свою специфику. Но кое-что во всех них все же было общим, их роднило. Я думаю, это прежде всего – примитивно понимаемый интернациональный долг, стремление участвовать в антиимпериалистической борьбе. Я об этом вновь и вновь говорю, поскольку эти успокаивающие совесть и даже притупляющие бдительность, элементарную осторожность мотивы помогали игнорировать несомненные факты, включая и тот, что часто речь шла уже не о национально-освободительном движении, а о вмешательстве во внутренние дела в связи с борьбой различных политических сил за власть, даже в территориальные и племенные раздоры.
Ну а к тому же высокие идейные побуждения помогали прикрыть – часто даже от самих себя – имперские притязания и амбиции. Очень разные, иногда связанные просто с удовлетворением, что вот, мол, и мы стали «сверхдержавой», можем даже поспорить и с самой Америкой. А чаще с желанием несколько подправить свои стратегические позиции, усилить политическое влияние в том или ином регионе.
[…] А я невольно подумал о Сомали. Неужто наше присутствие там, публично объяснявшееся желанием оказать бескорыстную помощь освободившейся от колониализма очень бедной стране, действительно имело целью создание военно-морской базы или хотя бы стоянки для ВМФ в порту Бербера? Нас в этом все громче обвиняли американцы. И только революция в Эфиопии и попытки Сомали использовать последовавшие за ней бурные события в этой стране, чтобы отхватить ее кусок – провинцию Огаден, спутали карты. Мы горой встали за новый режим в Эфиопии и потому должны были уйти из Сомали, вернувшейся в сферу влияния Запада.
Вот в какие мы пустились игры…
[…] Подводя итог, скажу: своей политикой военных вмешательств и «полувмешательств» в дела целого ряда стран мы во второй половине семидесятых годов помогли сложиться впечатлению о своей стране как об экспансионистской державе, сплотили против себя большое число государств и нанесли серьезный удар по разрядке. Фактически мы подыграли крайне правым в США.
Тем более что одновременно беспрецедентными темпами у нас развертывалось осуществление многих военных программ. Мы в эти годы с полной силой, азартно, мало думая как об экономических, так и политических последствиях такого поведения, бросились в омут гонки вооружений. Включились в нее так, что мне не раз приходило в голову: не руководствуемся ли мы старым сталинским лозунгом: «Догнать и перегнать»?
Почему так произошло, тем более в условиях разрядки, когда начинали приносить первые плоды переговоры об ограничении вооружений, да еще перед лицом растущих экономических трудностей? Я считаю, что логическому объяснению это не поддается.
У меня только один ответ на этот вопрос: возросшая бесконтрольность военно-промышленного комплекса, набравшего силу и влияние и ловко пользующегося покровительством Брежнева, его слабостями и тем, что он не очень хорошо понимал суть проблем.
Он по-особому относился к тем годам своей жизни, которые провел на военной службе, очень ими гордился, считал себя чуть ли не профессионалом, «военной косточкой». Не говоря уж о том, что придавал огромное значение всевозможной мишуре – я имею в виду и серьезно подорвавшую его репутацию страсть к воинским званиям и орденам, особенно военным.
Под стать Брежневу вел себя Устинов, особенно став министром обороны. Он как бы пытался доказать, что штатский министр сможет добиться для военного ведомства даже большего, чем профессиональный военный (до этого, работая в ЦК, Устинов в какой-то мере проверял оборонный комплекс, случалось, спорил с А.А. Гречко, в том числе по вопросам переговоров с США, – это я знаю достоверно). Остальные члены политбюро просто не решались вмешиваться в военные дела (включая Громыко и, насколько я знаю, Андропова).
Из книги «моя эпоха в лицах и событиях. Автобиография на фоне исторических событий» 22
Арбатов Г.А. Моя эпоха в лицах и событиях. Автобиография на фоне исторических событий. Москва: Издательство «Собрание», 2008.
[Закрыть]
Кремлевские вождиЮрий Владимирович Андропов. Несбывшиеся надежды
О многих его качествах часто говорилось в последние годы – о незаурядном уме и политической одаренности, необычной для руководителей той поры интеллигентности.
Хотя она не основывалась на солидном формальном образовании (в значительной мере его интеллект развивался на основе самообразования, которое, естественно, не могло гарантировать от известных пробелов в знаниях). Андропов выделялся среди тогдашних руководящих деятелей, в том числе «оснащенных» вузовскими дипломами и даже научными титулами, как весьма яркая фигура. Что, замечу, не всегда было для него, для его карьеры полезно. То ли понимая это, то ли в силу присущей ему природной скромности, он всего этого стеснялся, пытался прятать. Выделялся Андропов на фоне тогдашних лидеров и в смысле нравственных качеств: был известен личным бескорыстием, доходившим даже до аскетизма. Правда, эти качества, проявлявшиеся в личной жизни, уживались, когда речь шла о политике, с весьма гибкими представлениями о дозволенном моралью, с неизменно негативным, но подчас примиренческим отношением к тем неприглядным, во многом отталкивающим «правилам игры» и нормам взаимоотношений, которые за долгие годы утвердились в обществе и особенно в его верхах.
Ну а теперь о своих впечатлениях об этом человеке.
Повторю: в личном плане это был человек почти безупречный. Он выделялся среди тогдашних руководителей равнодушием к житейским благам, а также тем, что в этом плане держал в «черном теле» свою семью. Его сын работал несколько лет в Институте США и Канады на самой рядовой должности с окладом 120 рублей, но, когда в разговоре заходила речь о нем, Андропов просил об одном: «Загружай его побольше работой». Как-то с возмущением сказал, что сын совсем зарвался – попросил сменить двухкомнатную квартиру на трехкомнатную, хотя вся-то семья – он, жена и ребенок. (От себя замечу, что дети других членов Политбюро с такой семьей имели и трех-, и четырехкомнатные квартиры.)
Помню и такой эпизод: я ему рассказал как-то, что какой-то подхалим выписал партию автомашин «Мерседес» и «Вольво» и по дешевке продал детям руководителей, а те на них красуются, вызывая только еще большее раздражение и возмущение людей. Андропов покраснел, вспыхнул и сказал: «Если в твоих словах содержится намек, знай: у меня для всей семьи есть только “Волга”, купленная за наличные восемь лет назад». А через несколько минут, когда отошел, сказал, что действительно это безобразие и разврат само по себе, а ко всему прочему – политическая бестактность. «Но ты сам понимаешь, что жаловаться мне на это некому, едва ли есть смысл в еще одном поводе для ссоры чуть ли не со всеми руководителями».
О семейных, личных делах Андропов говорил крайне редко. Помню, один раз рассказал – видно, тяжко было на душе – о болезни жены, начавшейся осенью 1956 года в Будапеште, во время осады восставшими советского посольства, и связанной с пережитым шоком. Сам он был лишен житейских недостатков, во всяком случае, видимых – был приветлив и тактичен, почти не пил, не курил. Но не рассматривал все это как добродетель, не ханжествовал, не ставил подобные житейские прегрешения в вину другим.
Иногда отшучивался: я, мол, свою «норму грехов» выполнил в более молодые годы.
Андропов умел расположить к себе собеседника. И это, наверное, не было просто игрой, а отражало привлекательные стороны его натуры. Я не знаю случаев, когда бы он сознательно сделал подлость.
Но оставить в беде, не заступиться за человека, даже того, к кому хорошо относился, Андропов мог. И здесь я хотел бы сказать о его негативных чертах. Одна из них – это нерешительность, даже страх, нередко проявлявшиеся не только в политических делах, но и когда надо было отстаивать людей, тем более идеи. Не думаю, что это был «врожденный», генетически заложенный в его натуре недостаток. Мне кажется, как и большинство его сверстников, не только живших при Сталине, но и пришедших в политику, он был глубоко морально травмирован. Собственно, этого и добивался Сталин своей политикой физического и духовного террора – сломить психологический и нравственный хребет людей, лишить их решительности, смелости, самостоятельности в суждениях и действиях. Травма эта у Андропова была, однако он, возможно, сильнее и лучше противостоял этому недугу, чем другие политики его поколения. Тем более что он был умен, хотел и был способен самостоятельно мыслить, но слабость эта вела к готовности слишком легко идти на серьезные компромиссы.
Мне кажется, Юрий Владимирович в глубине души это сознавал и пытался найти себе какое-то оправдание. Такие компромиссы, уступки, уход от борьбы он прежде всего оправдывал соображениями «тактической необходимости». О них он охотно рассуждал вслух. И, в частности, нередко корил меня: вот, мол, цели ты видишь правильно, стратег ты неплохой, а тактик – дерьмовый (он употреблял и более сильные выражения). Иногда я с этой критикой соглашался, иногда нет. А один раз не выдержал и сказал ему, что, если поступать так, как он все время предлагает (речь шла о внутренних делах), можно получить «короткое замыкание» в бесконечной тактике и напрочь потерять стратегию. Андропов обиделся, и на некоторое время наши отношения даже охладились, но ненадолго.
Другой слабостью Андропова было неумение правильно оценивать некоторых людей. В этом плане он был внутренне предельно противоречивым человеком. Отчасти это были просто ошибки, и только они. В других случаях – чрезмерное увлечение тактикой, а иногда и следствие определенной противоречивости его политических взглядов.
Всю ту часть жизни Андропова, которой я был свидетелем, ему были свойственны как кадровые удачи, даже находки, так и серьезные просчеты. Например, работая в ЦК КПСС, он, с одной стороны, собрал очень сильную группу консультантов, а с другой – выдвинул своим преемником мелкого, неумного и лишенного принципов К.В. Русакова, не раз брал заместителями слабых, вредивших делу людей.
И терпел не только бездельников и бездарных людей, но и таких, которые наносили немалый политический вред, чего он не мог не понимать.
Его кадровую политику в КГБ оставляю за скобками – слишком уж это закрытая сфера, но, если попытаться оценить все, что он сделал в плане отбора и выдвижения людей, находясь в составе политического руководства партии и страны, опять сталкиваешься с труднообъяснимой противоречивостью.
С одной стороны, он был первым или одним из первых, кто оценил такого незаурядного политического деятеля, как М.С. Горбачев. Знаю это достоверно. Впервые эту фамилию услышал именно от Андропова в 1977 году, весной.
Дату помню, поскольку начался разговор с обсуждения итогов визита С. Вэнса, потом – перешел на болезнь Брежнева.
И я здесь довольно резко сказал, что идем мы к большим неприятностям, так как, судя по всему, на подходе слабые, да и по политическим взглядам часто вызывающие сомнения кадры. Андропова это разозлило (может быть, потому, что он в глубине души сам с такой оценкой был согласен), и он начал резко возражать: ты, мол, вот говоришь, а ведь людей сам не знаешь, просто готов все на свете критиковать.
– Слышал ли ты, например, такую фамилию – Горбачев?
– Нет, – отвечаю.
– Ну вот видишь. А подросли ведь люди совершенно новые, с которыми действительно можно связать надежды на будущее.
[…] В течение многих лет своей работы в КГБ Андропов входил одновременно в высшее политическое руководство страны – был кандидатом в члены, а затем членом Политбюро, притом одним из самых влиятельных. В этом плане он, конечно, не может не нести ответственности за положение дел в стране, ее усиливавшийся упадок. Зная, однако, и политические механизмы, и нравы того времени, я бы не стал упирать на такие общие оценки – в существовавшей в руководстве обстановке не было принято вмешиваться в дела, тебе непосредственно неподведомственные, а тем более спорить с Генеральным секретарем. Так что, давая оценки, надо быть конкретным. Действительно большой грех на душе Андропова, если говорить о политике страны в тот период, – это Афганистан. Но об этом уже немало говорилось.
Короткий период в деятельности Андропова между его возвращением в ЦК КПСС в мае 1982 года и до смерти Брежнева, наверное, заслуживает позитивной оценки.
Став, по существу, вторым человеком в партии, да еще в условиях тяжкой болезни первого, он, я думаю, больше, чем когда-либо раньше, ощутил ответственность уже не за ограниченный участок работы, а за общее положение дел в партии и в стране.
Тем более что тяготы, проблемы и негативные стороны ситуации он знал лучше других из информации, которую много лет постоянно получал, возглавляя КГБ.
Вернувшись в ЦК, Андропов сразу же взялся за дело, не стал выжидать. Как я себе представляю, одной из проблем, которая его тогда больше всего волновала, была коррупция, разложение, глубоко проникшее почти во все ткани нашего общества. И прежде всего коррупция среди руководителей разного уровня. О семье Брежнева я от Андропова в связи с этим никогда ничего не слышал, хотя на Западе об этом писали. Не исключаю, что он просто не считал возможным со мною об этом тогда говорить. Но из тогдашних разговоров помню, что особенно беспокоили его фигуры Медунова и Щелокова – людей, наглядно символизировавших растленность, безнаказанность и вседозволенность руководителей. Ну а кроме того, близких к Брежневу, бросавших на него тень.
В идеологической сфере, включая общественные науки, Андропов тоже проявлял известную активность, с чем были связаны и мои довольно частые встречи с ним в те месяцы. Он не планировал, во всяком случае тогда, каких бы то ни было драматических перемен, но явно хотел остановить наступление активизировавшихся консервативных, неосталинистских сил.
Во внешней политике с переходом Андропова на новую работу ситуация едва ли изменилась. Он не стал здесь более влиятельным, как и раньше, входил в «тройку», которая готовила, а нередко и решала вопросы. В последней, помимо него, состояли также Громыко и Устинов.
Многого Андропов за это время, конечно, сделать не мог – с момента перехода на новую работу и до смерти Брежнева прошло менее полугода. Но все же обстановка в ЦК начала меняться. Это ощущали многие люди и я в том числе. Те, кто видел перемены, начали с несколько большей надеждой смотреть в будущее. Потому, прежде всего, что впервые появилась реальная альтернатива «черненкам», «гришиным», «тихоновым». Это, по существу, было главным – Андропов явно стал первым и основным кандидатом в преемники Брежнева. Наверное, он в это время шире, уже в масштабах государства, начал думать о тех проблемах, которые стоят перед страной. Это, возможно, помогло ему несколько лучше подготовиться к ожидавшей его роли политического лидера державы.
[…] Пребывание Ю.В. Андропова на посту Генерального секретаря ЦК КПСС оказалось, как известно, очень коротким – четырнадцать месяцев, а если вычесть время тяжкой болезни, наверное, не более полугода. При всей скромности масштабов того, что было реально сделано, это были важные месяцы – они как бы ознаменовали собой перерыв дурной постоянности, движения по наклонной плоскости – движения, которому, как начинало порой казаться, просто нет конца.
Страна увидела, во-первых, что ею может руководить нормальный, внушающий доверие, даже не лишенный обаяния человек. Это само по себе давало немалые надежды. Во-вторых, Андропов уже в первых своих выступлениях пообещал перемены – борьбу с коррупцией, всеобщей безалаберностью, поставил цель подъема страны, преодоления трудностей и решения проблем (о тех и других он начал говорить с откровенностью, от которой мы отвыкли).
В-третьих, люди увидели и реальные дела: они были восприняты как предвестники более значительных перемен.
Были сняты с работы особенно одиозные фигуры, в том числе упоминавшиеся Медунов и Щелоков, усилилась борьба со взяточниками и казнокрадами, начали что-то делать для борьбы с коррупцией, наведения порядка, укрепления дисциплины (хотя иногда, скорее всего, по инициативе местных властей, действовали нелепыми методами, вроде «облав» с проверкой документов в ресторанах и кинотеатрах в рабочее время).
Все это с первых месяцев и даже недель обеспечило Андропову огромную популярность. От него многого ждали все слои общества: и рабочие, и колхозники, и интеллигенция (в ее среде он был весьма популярен, несмотря на подозрительность, которую традиционно интеллигенты питали к КГБ). У людей родилась надежда и даже вера, что мы не обречены на вечное жалкое политическое прозябание, что мы можем добиться чего-то лучшего. Можно ли сегодня ответить на вопрос, насколько обоснованными были эти надежды, и что было бы, если бы Андропов прожил дольше, и куда он повел и привел бы страну? Это непростой вопрос.
Тем более что даже опытные, уже сложившиеся, сформировавшиеся политики, став лидерами государства, нередко меняются, развиваются в ту или иную сторону, растут, достигают вершин, которые могли еще вчера казаться для них недоступными, или, наоборот, обманывают ожидания и оказываются несостоятельными.
Но я все-таки рискну если не ответить на этот вопрос, то, во всяком случае, изложить некоторые свои соображения. О том, в частности, к чему Андропов, согласно моим впечатлениям, тогда стремился, что он планировал в первые недели и месяцы своего пребывания на высшем в партии и государстве посту.
Я уже говорил, что Андропов яснее других лидеров видел наши назревшие и перезревшие проблемы, болячки и язвы (это не значит, что даже он видел их все и в их подлинных размерах). Для первого периода у него, конечно, были и какие-то свои, родившиеся еще до смерти Брежнева планы. И они, конечно, шли дальше наведения элементарного порядка и дисциплины, наказания особенно обнаглевших казнокрадов.
Судя по некоторым разговорам, он понимал, что общество, еще не оправившееся от сталинизма и натерпевшееся разочарований и унижений в годы, которые мы называем застойными, нуждается в серьезных реформах и обновлении. Но Андропов – этому его научила жизнь – был осторожным политиком и, как мне кажется, чрезмерно остерегался быстрых и крутых перемен. В том числе и в кадровых вопросах: необходимо было избавить партию и страну от некомпетентных, часто глупых, серых, к тому же очень старых, не имеющих сил работать людей.
Как-то, в первые дни после избрания Андропова Генеральным секретарем, мы с ним на эту тему поспорили.
Я сказал, что без радикальных кадровых перемен ему ничего сделать не удастся. А он, согласившись, что множество работников, занимающих ответственные посты, несостоятельны, ответил, что пока их менять не будет. Ибо не хочет иметь враждебный к себе Центральный Комитет. А нарушать Устав преждевременно, за три года до срока, собирая съезд или пачками исключая этих людей из Центрального Комитета на пленуме, как однажды сделал Брежнев, тоже не считает возможным. Веря, что Андропов не хотел нарушать Устав партии, я все-таки не убежден в том, что дело было только в его щепетильности. У меня сложилось впечатление, что Андропов просто не знал и не видел людей, которые могли бы заменить тех, кто достался ему по наследству. А многие из них при очевидной и для него слабости были ему не только понятны, но и чем-то близки. Кадровая политика, я думаю, как была раньше, так и осталась одним из его главных слабых мест. Андропов, хотя сам был другим, десятилетия жил и рос среди типичной для тех лет номенклатуры и просто не представлял себе ее массовой замены.
Как и раньше, он, скорее, рассчитывал на то, что, повысив и приблизив к себе несколько человек, сможет компенсировать слабости остальных и решит проблему. Хотя в масштабах страны, а не ведомства, да еще если он хотел провести серьезные реформы, такая линия никогда не принесла бы успеха. Ну а к этому добавлялись и прямые ошибки, такие как с Романовым или Алиевым. Впрочем, не могу исключать, что через какое-то время он занял бы в этих вопросах другую позицию – просто заставила бы жизнь.
Но кадры все-таки инструмент, средство, пусть очень важное, такое, от которого зависит успех задуманного.
А какие цели ставил перед собой Андропов? Уверен, он видел, что состояние, в котором страна была не только при Сталине, но и при Брежневе, не нормально, что нужно многое менять, начиная с экономики. Но здесь скрывалась другая слабость Андропова, которая, я думаю, со временем дала бы себя знать. К экономическим проблемам он интереса никогда не проявлял, образа мыслей в этой сфере придерживался довольно традиционного, не выходя далеко за пределы представлений о необходимости навести порядок, укрепить дисциплину, ну еще повысить роль материальных и моральных стимулов. Конечно, если бы судьба, жизнь дали ему побольше времени, его взгляды могли бы измениться и в этих вопросах. Но, к сожалению, и здесь я говорю не только о здоровье, но и о положении в стране, такого большого времени история на просвещение наших лидеров не отпустила.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.