Текст книги "Польский театр Катастрофы"
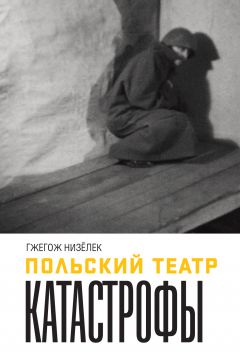
Автор книги: Гжегож Низёлек
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Тадеуш Пайпер не только продемонстрировал пример своей проницательности, но также показал нам, каким образом можно прочесть первые художественные свидетельства опыта Катастрофы – а именно: не интерпретировать их согласно герменевтическим традициям перехода от деталей к целому, поскольку «целое» чаще всего так или иначе фальсифицировано, но искать в этих свидетельствах следы опыта через отдельные образы, реплики, эпизоды; скорее подвергать демонтажу, чем объединять в целое. В «Пограничной улице» таких следов-симптомов также немало: еврейский офицер идет к парикмахеру перед тем, как его призывают в армию; портной-еврей шьет нарукавные повязки со звездой Давида: преследователи мальчика-еврея по-антисемитски «добродушно» смеются; такие образы, как разорванная фотография, нарукавные повязки, разбросанные на улицах уничтоженного гетто, склоненные головы евреев, переселяющихся в гетто. Так же и в «Пасхе»: покупка папирос в еврейской корчме, навязчивый стук Эвы, накрытый согласно традициям праздника стол в доме доктора, монолог о страхе, белая стена, о которой говорит Станислав перед тем, как засыпает.
Как представляется, Леон Шиллер пытался затушевать некоторые проявления наивности Отвиновского, а другие, в свою очередь, экспонировал – в целом, однако, он старался локализовать эмоциональное воздействие спектакля в других моментах, упорядочить его, придать ему форму. Он наделил спектакль ритмом траурного ритуала, старательно выстраивая каждую сценическую картину, заботясь о деталях визуальной и музыкальной композиции. Его постановочная работа вызвала дружную похвалу рецензентов. Вот как запомнил начало спектакля автор драмы: «Темнота, ожидание. […] Медленно нарастающий свет вокруг одной-единственной фигуры на сцене. Потом из темноты начинают проступать предметы. Тишина, в которой произойдет мистерия реконструкции. Мы будем открывать мир, который умер»273273
Otwinowski S. O Leonie Schillerze (W dziesiątą rocznicę śmierci) // Dialog. 1964. Nr 3. S. 102.
[Закрыть]. В другом его тексте мы найдем еще больше деталей: «Настроение торжественное, как в храме. Тишина. Оркестр Кренца – возвышенное, почти мистерийное настроение. Темнота на сцене, царящая во время увертюры, постепенно проясняется – контуры предметов хозяйства, старая пани Фрейд. Сосредоточенность»274274
Цит. по: Mrozińska S. Trzy sezony teatralne Leona Schillera. Łódź 1946–1949. Wrocław: Ossolineum, 1971. S. 52.
[Закрыть].

Трудно переоценить воспоминание Отвиновского: оно позволяет вписать спектакль Шиллера в то течение польского театра, которое будет пытаться, отсылая к памяти Катастрофы, выполнить работу скорби (стоит снова вспомнить об «Умершем классе»). Подобным образом интерпретировал «Пасху» и Эдвард Чато. Хотя в спектакле можно было услышать выстрелы, на небе пылало зарево пожара, а сцену застилал серый дым, эмоциональная интонация спектакля была далека от эскалации атмосферы борьбы. «Воображение зрителя, – пишет Чато, – уже начиная с пролога, происходящего еще перед войной в местечковой еврейской корчме, оказывалось объято чувством глубокой, искренней меланхолии, вызванной этим потерявшимся в прошлом миром маленьких, заслуживающих уважения людей, предстающих в картине, как бы подернутой дымкой времени»275275
Csató E. O niektórych powojennych inscenizacjach Schillerowskich // Pamiętnik Teatralny. 1955. Z. 3–4. S. 269.
[Закрыть].
Общее восхищение в роли пани Фрейд вызывала Эва Кунина, которая говорила со сцены чистейшим польским языком. По мнению Казимежа Деймека, который тогда смотрел спектакль, Кунина превращала языковое благородство и чистоту звучания речи в зерно своего образа: она подчеркивала, что пани Фрейд чувствует себя частью польской культуры, стремится к ассимиляции. Сама актриса имела еврейское происхождение. «Она была необычайно пронзительна. К сожалению, сути ее игры, ее тон другие исполнители не поддерживали, но для зрителей, по крайней мере для меня, то, как она себя держала, как играла, насколько была выразительна, то, что она с собой привносила: атмосферу, колорит, – определяло реакцию и на всю пьесу, на дальнейшие события, на дальнейшую сценическую жизнь „Пасхи“»276276
Wokół «Wielkanocy», z Kazimierzem Dejmkiem rozmawiała Anna Kuligowska-Korzeniewska // Dialog. 2003. Nr 7–8. S. 166.
[Закрыть]. Общность языка оказалась, однако, как мы уже знаем, очень хрупкой, от нее легко можно было отказаться. В рассказе Анджеевского кристально-чистый польский язык и аффектированная привязанность к польской литературе становятся первым импульсом, вызывающим у читателя сомнения по поводу «подлинного» происхождения хозяина дома, в котором разыгрывается действие «Страстной недели». И действительно, когда Замойского охватывает страх, из-под маски польскости – которой он, казалось бы, владеет в совершенстве – начинают проступать его семитские черты. Больше всего при чтении рассказа Анджеевского поражает, что рассказчик оказывается в этом смысле столь же бдительным, как кружащие вокруг пылающего гетто мародеры.

Стараясь выдержать спектакль в меланхолическом тоне, Шиллер полностью изменил характер сцены, представляющей молитвы женщин под статуей св. Иосифа. Для Отвиновского их набожность была скорее ханжеской; он осторожно коснулся тут проблемы польского религиозного антисемитизма. Шиллер превратил этих женщин в античных плакальщиц, вносивших в спектакль настроение грусти и задумчивости. Фигуру св. Иосифа он заменил скульптурным изображением Мадонны с младенцем. Отчетливым образом он пытался обратиться к эмоциям польской публики, ее религиозной восприимчивости. Используя музыкальные и ритмические средства, поэтически стилизуя сценический образ, старался втянуть ее в ритуал оплакивания.
Формальная структура спектакля вызывала восхищение. Станислав Дыгат писал: «Какая бы то ни было случайность тут исключена; тень актера или предмета на стене составляет столь же важный элемент спектакля, как жест или ритмика слова, взаимодействующего с ритмом музыкального сопровождения»277277
Dygat S. Op. cit.
[Закрыть]. Неслучайно, пожалуй, Дыгат обратил внимание на совершенную и изощренную игру тени; она должна была прекрасно вписываться в меланхолическую поэтику спектакля, в попытку инсценировать траурный ритуал. Столь же детально поставил Шиллер сцену ликвидации гетто. Под аккомпанемент «лающих пулеметных очередей» и всхлипывания женских молитв разыгрывалась сцена всеобщей паники: «Режиссер с безошибочной точностью заставляет двигаться персонажей в толпе – задыхающихся в своем беге, в стремительных движениях, то разбегающихся в разные стороны, то вновь в паническом страхе разбивающихся друг о друга, но приведенных в гармонию со сценической средой, с музыкой, даже с гулом выстрелов»278278
Csató E. Op. cit. S. 101.
[Закрыть]. Тема «оккупационного страха» была сильно экспонирована некоторыми рецензентами279279
«Станислав Лаский впадает в истерический припадок только потому, что под той же крышей, что и он, находится еврейка, от самой мысли, что ему пришлось бы ее скрывать» (Dygat S. Op. cit.).
[Закрыть]. Шиллер выстраивал спектакль в символической поэтике, действительность он упорядочивал, а экспрессию усиливал. Ужас людей, на которых устроена охота, он поместил не в сферу голой жизни, а в пространство искусства. Однако, может быть, как раз эта слишком скороспешная попытка вписать «ужасающие картины» в упорядоченную эстетику театра Шиллера стала причиной холодного восприятия спектакля.
7
Рахеля Ауэрбах в своей рецензии на «Пасху» в Театре Войска Польского оставила ни с чем не сравнимый документ, говорящий о беспомощности тогдашнего театра по отношению к опыту Катастрофы. В этом тексте просвечивает как горечь разочарования, так и благодарность по отношению к предпринятой Шиллером и его труппой попытке: «Уже через два года после восстания в варшавском гетто, а может и раньше, была написана „Пасха“ Отвиновского – первая в Польше драма о борьбе гетто. Попытка показать трагедию еврейского народа сквозь призму связанных с нею переживаний польской интеллигентской среды»280280
Auerbach R. O «Wielkanocy» Otwinowskiego // Nasze Słowo. Nr 9. 10.11.1946. Все приводимые тут мнения Ауэрбах по поводу «Пасхи» – из этого текста.
[Закрыть]. Ауэрбах говорит о надежде, которая царила среди всех польских евреев, что как раз польские писатели станут свидетелями Катастрофы, что появится польский поэт, который «все видел». «Сможет ли кто-нибудь из нас, кто пребывал внутри всего этого – приблизиться к этим вещам как к теме для литературы?!»
Ауэрбах не требует от театра представить картину, натуралистически правдивую. Вслед за Стефанией Загорской, автором драмы о варшавском гетто «Ул. Смоча, 13», она повторяет, что «писатели, которые занимаются тематикой немецких убийств, не имеют возможности в целях экспрессии укрупнять или конденсировать материал, взятый из действительности», они вынуждены его «приглушать, тушевать, ослаблять». Театр должен был бы служить передаче чувств в рамках коммуникационной ситуации, подверженной сильным ограничениям. «Загорская, конечно, права. Чтобы этот материал сохранить в границах искусства, пожалуй, невозможно эскалировать ужас и страдание, невозможно выходить за те границы, за которые вышла действительность, нужно ретироваться в рамки переживаний, еще доступных для нормального художественного созерцания. Чтобы после показа трагического факта достичь состояния морального и эмоционального катарсиса, нельзя доводить зрителя до того, чтобы у него волосы вставали на голове дыбом от ужаса, чтобы его жалость по отношению к страдающим героям в своей реальности уничтожила какую бы то ни было эстетическую дистанцию». Поэтому модель трагедии представляется тут наиболее подходящим драматическим образцом, чтобы взволновать зрителей, вызвать сильные эмоции, довести их до мощной разрядки. В соответствии с такими представлениями о трагедии Отвиновский выводит слишком ужасающие факты за пределы сценического пространства. «Ни одного из них он не показывает непосредственно. То, что он дает – это почти исключительно отголоски и отражения. Тень событий, а не сами события».
Спектакль, однако, вызвал вместо взволнованности эмоциональный паралич. «Я спрашивала себя, почему со сцены веет таким странным холодом. Почему зритель-еврей при том, что он взволнован и даже до определенной степени благодарен автору, который затрагивает столь необычно-благородным образом и с таким знанием дела вещи столь для нас существенные – несмотря ни на что, остается холоден. Почему то тепло, которое мы чувствуем в публицистических выступлениях автора, не пробило себе дороги к сценическому образу. Почему мы не чувствуем тех коротких замыканий, которых могло бы быть полным-полно в этой вещи». Эдвард Чато ценил спектакль Шиллера за то, что он четко артикулировал, каким «должно было бы быть» отношение поляков к евреям. Рахеля Ауэрбах, однако, требовала циркуляции эмоций, тепла, эмоционального воздействия сценических образов. Для того чтобы в зрительном зале возникло такое переживание, она была готова принести в жертву «благородство» пьесы Отвиновского: «Может быть, польско-еврейский вопрос слишком оброс комплексами, с которыми невозможно перестать считаться в одночасье […]? Может, слишком много благородства в этой драме, которого в жизни не было. Может, слишком тут приукрашены евреи – так же как и поляки». Выводы, к которым приходит Ауэрбах в финале своей рецензии, противоречат ее изначальным посылам. Без обнаружения на сцене всего того, что так старательно с нее устранялось, какое бы то ни было эмоциональное воздействие спектакля все же оказывалось невозможным. Впрочем, Ауэрбах, ссылаясь на мнение Стефании Загорской, снабдила эти выводы деликатным сомнением, которое можно услышать в таких словах, как «наверное» или «может».
Рахеля Ауэрбах прошла через варшавское гетто, сотрудничала с Эммануэлем Рингельблюмом при создании архива свидетельств, после войны была членом комиссии, расследующей преступления, совершенные в Треблинке, сотрудничала с Леоном Величкером при публикации его воспоминаний о его работе в зондеркоманде, а уже покинув Польшу, давала показания на процессе Эйхмана в Иерусалиме – все это, как представляется, свидетельствует о том, что она хотела, чтобы Катастрофа максимально попала в поле зрения общественности. В ее дневнике 1942 года мы найдем такое признание: «Я порой боюсь, что эти страшно интересные и страшные сами по себе картины жизни, на которые мы смотрим день изо дня, погибнут, может, вместе с нами, как картины паники на тонущем корабле или же среди сжигаемых заживо, или же заживо погребаемых…»281281
Materiały Racheli Auerbach, Dok. 10. 04.08.1941–26.07.1942, Rachela Auerbach, Dziennik (fragmenty, brak zakończenia) // Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 7, Spuścizny, oprac. Katarzyna Person. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. S. 173.
[Закрыть] Вскоре после этого на страницах польско-еврейской прессы Ауэрбах начала публикацию статей на тему варшавского гетто – в большой мере они опирались на ее дневниковые записи. Бросается в глаза живость ее стиля, обостренная визуальная восприимчивость, прекрасная зрительная память. Ее тексты наполнены материальной конкретикой жизни в гетто, они никогда не представляют собой лишь сухую, документальную запись, но всегда предельно эмоциональны. В основе их лежит удивление некой картиной, ее деталями и структурой: «Деформация действительности с определенной целью, представление деталей, аккумуляция одних эффектов и исключение других – все это происходит тут как бы само по себе, а коль скоро жизнь взялась за эту задачу, она оказывается мастером, превосходящим самых гениальных индивидуумов»282282
Ibid. S. 194.
[Закрыть]. Те картины, которые она каждый день видела в гетто, Рахеля Ауэрбах снабжает парадоксальными комментариями, воздерживается от морализирования, одновременно использует эстетические ассоциации, связанные с опытом в сфере искусства. Их круг обширен: живопись Гойи («Нужно нового Гойю, чей карандаш обнаружил бы пластику лиц, опухших от голода»283283
Ibid. S. 172.
[Закрыть]), рассказы По («Эдгар По в легкой степени прочувствовал те пучины ужаса и невероятного психического мучения, в которые человек может погрузить другого человека, когда ему даны орудия насилия»284284
Auerbach R. Urywki z dziennika przechowanego w tajnym archiwum pod ruinami ghetta // Nasze Słowo. Nr 4. 28.02.1947.
[Закрыть]), романы Конан Дойля («все идеи Конан Дойля стали явлением повседневности»285285
Ibid.
[Закрыть]), мелодраматическое кино («Жизнь, особенно жизнь, столь дозревшая до смерти, как эта наша жизнь в закрытом городе, преподносит порой удивительно броские символические формулы, вроде мелодраматических идей банального кино»286286
Materiały Racheli Auerbach. Op. cit. S. 190.
[Закрыть]). В результате возникает ощущение, что ты участвуешь в бесконечном спектакле, поэтому Ауэрбах пишет о «самоигральном театре, о самоснимающемся звуковом фильме гетто»287287
Ibid. S. 173.
[Закрыть].
Модель театральности, которую постулирует Рахеля Ауэрбах в первых абзацах рецензии «Пасхи», находится, таким образом, в явном противоречии с ее собственным опытом, с ее темпераментом, с ее эстетическими потребностями. Сама она как писательница – чувственна, эмоциональна, ее дневник полон микросценок, событий, эпизодов, потребности немедленного эмоционального воздействия. Может быть, самым важным текстом, который Ауэрбах опубликовала сразу после войны, является «Плач мертвых вещей». Невозможно не удивляться смелости звучащих там формулировок: «В картине уничтожения евреев уничтожение вещей занимает особое место. Трагедия и мытарства вещей были сопоставимы с трагедией и мытарствами людей, и в то же самое время – служили отражением и метафорой всего того, что происходило с людьми»288288
Auerbach R. Lament rzeczy martwych // Przełom. Nr 2. 09.1946.
[Закрыть]. Судьба вещей представляет для Ауэрбах волнующее зрелище: «Это явление было столь разнородным, всегда столь богатым трагически броскими красками разложения, столь изобилующим красноречивой символикой, и столь непосредственно действующим на душу зрителя, что оно заслуживает отдельной монографии»289289
Ibid.
[Закрыть]. Именно Рахеле Ауэрбах мы обязаны двумя и сегодня волнующими до глубины души сценами гетто из «Пограничной улицы» Форда. Одна из них показывает полную движения, запруженную людьми и вещами улицу еще до массовых депортаций в Треблинку, вторая – ту же самую улицу уже опустевшей, превратившейся в свалку никому больше не нужных предметов. Именно визуальный образ и судьба вещей помогают уловить различие между тем, что пережили поляки, и тем, что пережили евреи. В «Плаче мертвых вещей» Ауэрбах сопоставляет свои впечатления от первой прогулки по опустелым улицам еврейского квартала в сентября 1942 года с картинами Варшавы в сентябре 1939 года и после поражения Варшавского восстания. Она подчеркивает различие между видом города после битвы и пейзажем Катастрофы: «Это зрелище пробуждало чувство обиды, протеста, но если сравнивать его с более ранним зрелищем еще не сожженных и не разрушенных, но от этого еще больше наводящих ужас, похожих на монстров, домов, – не было в нем столь пронзительной меланхолии. Не было грусти столь ядовитой, что она погружала душу во мрак, вплоть до агонального состояния»290290
Ibid.
[Закрыть]. Эти размышления приводят автора к радикальному выводу: «В этом заключалось – транспортированное на территорию аффектов – различие между Прушковом и Треблинкой…» Именно судьба вещей становится для Ауэрбах аргументом в пользу того, что Катастрофа не могла оставаться не замеченной, что она неизбежно должна была охватывать своим аффективным воздействием также свидетелей-поляков. Писательница прослеживает эффекты профанации, чрезмерной видимости, слома табу («…вытащенные на помойку из укрытия, лежат на глазах у мужчин испачканные менструацией трусы, которые какая-то девушка не успела выстирать перед тем, как ее увезли в Треблинку»291291
Auerbach R. Lament rzeczy martwych // Przełom. Nr 2. 09.1946.
[Закрыть]). Ауэрбах поднимает тему уравненности судеб людей и судеб вещей, их взаимозаменяемости в материальном, символическом и риторическом регистрах: «Люди отправились на смерть, а их вещи – в выгребную яму. Или же: люди в выгребную яму, и вещи в выгребную яму, а из всего, что когда-то называлось жизнью, осталась только гора дерьма, стервятина»292292
Ibid.
[Закрыть].
Можно ли удивляться, что Рахеля Ауэрбах столь пронзительно почувствовала разочарование спектаклем Леона Шиллера, что оказалась способна максимум выразить покорную благодарность за жест памяти. Она не ожидала эмпатии, от театра она ожидала потрясения, шока, катарсиса. Поэтому именно ее можно назвать забытой предшественницей «Театра Смерти» Тадеуша Кантора.
8
Нет сомнений, что эмпатический проект Леона Шиллера был преждевременным и натолкнулся на стену морального равнодушия. Слишком тогда боялись потерять захваченные материальные блага и с трудом скрывалась радость от того, что конкуренция в разнообразных сферах общественной и экономической жизни уменьшилась. К тому же все призывы по-честному подвести баланс совести трактовались как проявление коммунистической пропаганды. Быть может, однако, решающим фактором было исключение евреев из символического сообщества, делегирование их в пространство голой жизни, в которой царит исключительно правило борьбы за выживание.
Ни с чем не сравнимым свидетельством этого опыта и его психологических последствий является рассказ «Страстная неделя» Ежи Анджеевского, который поднимает тематику, сходную с «Пасхой» Отвиновского: спасение еврейской девушки поляком. Оба произведения, напомним, были непосредственной реакцией на восстание в варшавском гетто (по словам автора, «Страстная неделя» была написана «нетерпеливо и по горячим следам»293293
Так пишет Анджеевский в авторском примечании к первому изданию в томе «Ночь» в 1945 году (Andrzejewski J. Noc. Opowiadania. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza «Czytelnik», 1945. S. 7).
[Закрыть]), оба были опубликованы почти одновременно, сразу же после войны. Рассказ Анджеевского взывает к внимательному психокритическому прочтению, обнаружению деталей повествования, а также противоречащих друг другу эмоциональных стратегий. Хотя сохраняется иллюзия скупого, конкретного, сосредоточенного повествования, нетрудно заметить его внутреннее расщепление, хаотическое несогласие формирующих его импульсов, тем более что уже после войны Анджеевский существенно отредактировал текст, откорректировал ту запись, которую он делал «нетерпеливо и по горячим следам». По мнению Артура Сандауэра, Анджеевский смягчил в послевоенной редакции спонтанно запечатленную в первоначальной версии рассказа враждебность по отношению к еврейскому страданию и неприязнь по отношению к тому вызову, каким оно стало для польского общества294294
Sandauer A. O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku (Rzecz, którą nie ja powinienem był napisać…). Warszawa: Czytelnik, 1982. S. 41.
[Закрыть].
Самый интересный мотив повествования составляет анализ чувства чуждости, какую главный герой рассказа, Ян Малецкий, ощущает по отношению к женщине, которой он предлагает укрыться в его доме. Ирена становится там чужаком, она является скорее объектом морального эксперимента, чем человеком, которому предложили помощь. Так же как в «Пасхе», и тут можно указать немало причин, из‐за которых Малецкий и его жена решают укрывать Ирену – тщетно, однако, было бы искать среди них сочувствие. Малецкого с самого начала мучает чувство отчужденности по отношению к своей давешней приятельнице, он предлагает ей укрытие как бы вопреки самому себе, преодолевая внутреннее сопротивление. У него нет смелости отказать, что, в конце концов, вызывает в нем чувство вины: «Он явно чувствовал возникающее между ними отчуждение. Понимая, что испытывает сейчас Ирена, он очень хотел бы преодолеть это отчуждение, но не знал как»295295
Анджеевский Е. Страстная неделя // Новый мир. 1989. № 12. C. 95.
[Закрыть]. Отношение Малецкого к ее мучениям – совершенно иное, чем к мучениям своих сородичей. Чувства, которые он испытывает по отношению к Ирене и трагедии еврейского народа, «мрачные и мучительно сложные»296296
Там же. С. 97.
[Закрыть], но кроме того они усугубляются «крайне болезненным и унижающим сознанием некой всеобщей, хотя и ничьей в частности, ответственности»297297
Там же.
[Закрыть]. Анджеевский запечатлевает достаточно много примеров безжалостной агрессии по отношению к евреям, ищущим укрытия в арийской Варшаве, чтобы мы были способны понять вполне реальную основу этой «неопределенной всеобщей ответственности». Малецкий отдает себе отчет в том, что он чувствует по отношению к Ирене скорее «тревогу и страх», чем сочувствие и любовь. Поэтому Ирена становится отчужденным объектом нарративного наблюдения. Малецкий с беспокойством наблюдает, как все более – в результате переживаемых бед – становятся заметны семитские черты ее лица. Столь же тщательно он отмечает у нее любое проявление агрессии: Ирена подавляет всех собственным несчастьем, обвиняет окружающих в вымученной, навязанной чувством долга жертвенности. Именно тогда вступает другой голос повествователя, который уже не идет следом интроспекций главного героя, а прочувствованно запечатлевает все переживаемые поляками во время войны несчастья, навязчиво, с фальшивым объективизмом, их подчеркивая. Этот голос уже лишен субъективной окраски, он принадлежит сверх-повествователю, который говорит языком ставшего равнодушным общества, охраняет его, этого общества, коллективные интересы. И как бы мимоходом противопоставляет агрессивность Ирены молчаливому героизму несчастных польских матерей и жен. Ирена не пробуждает сочувствия ни в героях рассказа, ни в читателях. Она раздражает. Провоцирует, вызывает неприязнь.
Анджеевский произвел интересный (и, кажется, не вполне осознанный) анализ распада установок на эмпатию в польском обществе, столкнувшемся с уничтожением евреев. Повествователь «Страстной недели» не предлагает Ирене места в символической общности, что, несмотря ни на что – как мы помним, – старался сделать Отвиновский в «Пасхе» по отношению к своим героям-евреям. Анджеевский, скорее, подтверждает, что евреи из этой общности безвозвратно исключены. Поэтому то, что в финале Ирену выгоняет Петровская, примитивная и лишенная щепетильности соседка Малецких, можно прочитать как реализацию скрытого, подсознательного желания также и их самих (а может, даже и читателей). Вместо акта эмпатии мы получаем честную интроспекцию, которая позволяет понять тот холод, который сопровождал, по крайней мере со стороны части публики, спектакль Леона Шиллера.
В «Пасхе» Отвиновского и Шиллера, в «Пограничной улице» Форда, в «Страстной неделе» Анджеевского присутствуют механизмы, которые корректируют картину действительности. Трудно порой разграничить, какие из них служат тому, чтобы усыпить бдительность польского антисемита, какие – попытке выработать «надлежащее» отношение польского общества к Катастрофе, какие, наконец – проекту перестройки символического мира польской культуры. Сартр писал, что каждый еврей живет под прессингом двойного позиционирования. Похожее явление можно наблюдать и в тех первых художественных реакциях на опыт Катастрофы, которые осмысляли прежде всего «жгучую», по выражению Блонского, проблематику польско-еврейских отношений. Двойное позиционирование в этом случае базируется на негоциациях между любым образом Катастрофы и символическим пространством, в рамках которого должен был бы произойти процесс не только коммуникации, но также и эмпатии. Внутри произведений в результате образуется раскол, который, однако, подвергается маскировке.
Таким образом, например, во втором акте «Пасхи» происходит распад применяемых автором схем и моральных классификаций, а также правил нормативного правдоподобия. Антисемит призывает предоставить помощь скрывающимся евреям. Филосемит трусливо избегает ищущей укрытия девушки. А полная внутреннего достоинства, сдержанная Эва Фрейд навязчиво, унижаясь, умоляет бывших соседей ей помочь. Можно при случае вспомнить знаменитую формулу Хенрика Гринберга, что любой правдивый образ Катастрофы по определению «лишен художественности». Поэтому и сам Гринберг в течение многих лет дописывал комментарии и приложения к собственной «Еврейской войне», в которой описал историю своего спасения. Он указывал на те места в тексте, где корректировал действительность с целью повысить литературную ценность рассказа. Раз за разом, однако, как признавался Гринберг, действительность оказывалась способна на более сильный «эффект», чем какой бы то ни было художественный вымысел298298
Grynberg H. Życie jako dezintegracja // Grynberg H. Op. cit.
[Закрыть].
Подобным комментарием, наверняка, можно было бы снабдить и анализируемые тут произведения. Прежде всего, однако, стоило бы отдать себе отчет в факте их «двойного позиционирования». Выявить те места, в которых образ не подвергается негоциациям с символическим пространством польской культуры – в которых оказался записан неповторимый еврейский опыт. Ведь только единичность и неповторимость может заложить основы для этического чтения и – как следствие – эмпатии. Так же, впрочем, как и психоаналитической терапии. Только открытие неповторимого характера травматической сцены, жертвой в которой является пациент, открывает перспективу излечения. В психоанализе – как подчеркивает Павел Дыбель – непозволительно размещать конкретное и реальное страдание в рамках какой бы то ни было универсальной символики, а следует проследить, каким образом, под влиянием индивидуального опыта, сфера символики оказалась деформирована и дала сбой.
В «Пограничной улице» есть две сцены, которые разыгрываются в так называемом «шопе», то есть в пошивочной, которую содержит на территории гетто хозяин-немец. Дело происходит перед самым началом восстания, то есть уже после той большой акции летом 1942 года, когда большинство жителей варшавского гетто было отправлено с Умшлагплатца в газовые камеры Треблинки. Гетто уже наполовину опустело, легально пребывать в нем могут только те, у кого есть официальное подтверждение, что они здесь работают. А это значит, что дети и старики оказались лишены шансов выжить. Поэтому Натан, один из героев фильма, старается найти работу для Ядзи. Сцена в «шопе» начинается с крупного плана небольшой бляшки, которая прикреплена к одежде девочки – это ее пропуск в жизнь. Хозяин «шопа», недовольный доходами, производит отбор работников, избавляясь от тех, кто недостаточно продуктивен. Первой жертвой становится старый мужчина, который в сценарии назван «опухшим» (от голода). Его вытаскивают за дверь и убивают одним выстрелом. Вторая сцена, которая следует вскоре после этого, представляет эвакуацию работников «шопа». Долю секунды мы видим женщину, которая сажает в рюкзак ребенка, которого она где-то прятала. Во множестве воспоминаний записаны случаи, как люди проходили через селекцию со спрятанными в рюкзаках детьми, которые уже тогда не имели права находиться на территории гетто. Это как раз те – сохраненные фильмом Форда – обрывки «войны еврейской, постыдной», образ которой старались исключить из сферы польской культуры или же подвергали негоциациям. Для польского зрителя сцены в «шопе» по большей мере являются нечитабельными, требующими дополнительных пояснений; для многих еврейских зрителей, однако, они представляли картину более чем конкретную и понятную. Вот воспоминание одного из них: «У меня был период, когда я беспрестанно ходил на „Пограничную улицу“ Форда. Я посмотрел ее раз пятнадцать. Вернувшись из кино, я падал на диван и плакал. Ничего не мог с собой поделать…»299299
Engelking B. Zagłada i pamięć. Warszawa: IFiS PAN, 2001. Цит. по: Madej A. Aleksander Ford kończy realizację «Ulicy Granicznej» // Historia kina polskiego. Op. cit. S. 72.
[Закрыть] Подобным же образом Пайпер обнаружил крошки правды о «еврейской войне» в «Пасхе» Отвиновского.
Для Ричарда Рорти в его размышлениях над феноменом человеческой солидарности исходной точкой послужили крайне противоположные модели поведения европейских обществ по отношению к истреблению евреев: «Если вы были евреем, когда поезда шли в Освенцим, ваши шансы быть спрятанным вашими христианскими соседями были выше, если бы вы жили в Дании или Италии, чем если бы вы жили в Бельгии»300300
Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М.: Русское феноменологическое общество, 1996. С. 239.
[Закрыть]. Чисто языковой узурпацией он считает попытки объяснить это явление в категориях «человеческого» и «нечеловеческого» поведения, хотя отдает себе отчет в том, что «в такие времена, как время Освенцима, когда история переживает перевороты, а традиционные институты и образцы поведения разрушаются, нам хочется чего-то, что находилось бы вне истории, за пределами институтов»301301
Там же. С. 240.
[Закрыть]. Поэтому естественной реакцией он считает попытку призвать к «человеческой солидарности», к «нашему признанию друг в друге общечеловеческого»302302
Там же.
[Закрыть]. По мнению Рорти, солидарность возникает только тогда, когда мы не ссылаемся ни на что, чему приписывался бы внеисторический смысл, что не является «случайными историческими обстоятельствами». Чтобы апеллировать к общечеловеческим чувствам, видеть в человеке, нуждающемся в помощи, «одного из нас, людей», всегда нужна поддержка со стороны более конкретных обстоятельств (например, кто-то наш сосед или мать маленьких детей). Рорти, конечно, отдает себе отчет в том, что даже и такого рода конкретизация и приближение не всегда приносят свои плоды. Несмотря на это, он считает, что какое бы то ни было расширение общности, включение в слово «мы» тех, кто до той поры был из этого «мы» исключен, происходит не благодаря понятию «общечеловеческого», а благодаря признанию, что разделяющие людей различия по той или иной причине перестают быть существенными, хотя и продолжают оставаться заметными.
Как раз насчет того, насколько заметно различие, разыгрывалась – более или менее явно – битва вокруг первых художественных свидетельств Катастрофы в польском театре и польской культуре.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































