Читать книгу "Польский театр Катастрофы"
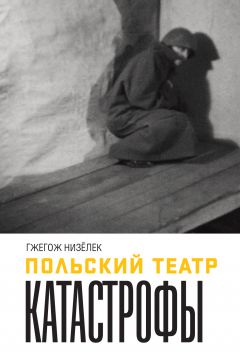
Автор книги: Гжегож Низёлек
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
«Наверно, мы уже никогда не узнаем, в скольких случаях исчезновение еврейской темы из большого числа военных воспоминаний было результатом полного безразличия к еврейским судьбам, а в скольких – вызвано желанием заглушить некое травматическое переживание и моральный дискомфорт»1919
Ibid.
[Закрыть]. Если даже мы должны смириться с неразрешимостью этого вопроса, он тем не менее отчетливо обозначает границы, в которых методология изучения травмы может быть применена к описанию опыта польских свидетелей Катастрофы. Постольку, поскольку мы должны так же принимать в расчет и возможность, что польское общество оставалось к ней просто безразличным.
Трудно со всей определенностью решить, способен ли факт наблюдения чужого несчастья – в формах столь экстремальных, в которых наблюдатель до этого с ним не сталкивался – не приводить со всей неизбежностью к явлению травмирования. Лоренс Л. Лангер среди анализируемых им свидетельств приводит рассказ венгерского иезуита, ставшего свидетелем одного из бесчисленных эпизодов Катастрофы. Через дырку в деревянном заборе, окружавшем железнодорожную станцию, откуда отправлялись в Аушвиц эшелоны с венгерскими евреями, иезуит видит открытый вагон, наполненный людьми: мужчину, который обратился с некой просьбой (может, попросил воды), эсэсовец вытаскивает из вагона и расправляется с ним – в этот момент подглядывающий через дырку в заборе убегает, повествование обрывается, судьба жертвы остается для наблюдателя навсегда неизвестной.
Присутствующий при записи этого свидетельства психоаналитик2020
Присутствие психоаналитика входило в стандартную процедуру записи свидетельств для Fortunoff Video Archives for Holocaust Testimonies в Йельском университете – именно оттуда Лоренс Л. Лангер брал свидетельства для своего анализа.
[Закрыть] в тот же самый момент находит пункт наибольшего вытеснения, задавая иезуиту вопрос, почему ни тогда, ни потом он никому не рассказал об этом событии, почему он вытеснил его из своего опыта свидетеля. По мнению терапевта, вытеснение было вызвано не самим событием, а ситуацией наблюдения: непристойные обстоятельства подглядывания за чужим унижением через дырку в заборе, постыдное состояние пассивности, ощущение бессилия – иначе говоря, статус любопытствующего ротозея. На киноленте запечатлено долгое молчание свидетеля, которое наступило после заданного ему вопроса. «Внезапно перед нашими глазами он борется с глубокой памятью собственной пассивности, которую сегодняшняя актуальная память отчетливо осуждает и которую он теперь пытается объяснить самому себе, прежде чем будет в состоянии объяснить ее нам – и, точно так же как и раньше, он не может найти никакого объяснения»2121
Langer L. L. Holocaust Testimonies: the Ruins of Memory. New Haven; London: Yale University Press, 1991. P. 31.
[Закрыть]. Лангер анализирует, как безопасная «сценичность», имевшая место в прошлом, оказывается нарушена во время сегодняшнего свидетельствования: забор и соответствующая дистанция по отношению к наблюдаемому событию перестают защищать, событие уничтожает дистанцию, поглощает наблюдателя, переносит из укрытия в самый центр происходящей сцены и приводит к кризису всех тех представлений о человеке, которые до этого момента определяли его жизнь. То, что человек оказывался в позиции наблюдателя Катастрофы и принимал правила театральности (в силу которой свидетель перестает быть свидетелем, становится зрителем и, таким образом, уже не обязан предпринимать какого-либо действия), имело необратимые последствия. Лангер видит только две возможности разрешения этого кризиса: или предшествующие представления о человечности окажутся полностью сокрушены, или кристаллизируются в форме иллюзий, поддерживаемых вопреки реальности пережитого опыта. Все это, однако, не объясняет, что склонило венгерского иезуита принести свидетельство. Мы не узнаем также, почему для описания позиции bystanders исследователь выбрал именно это свидетельство (это единственное свидетельство наблюдателя, которое он анализирует). Можно только догадываться, что особое значение имел для него факт, что речь шла о священнике, представителе католической церкви.
Как утверждает Элейн Скерри в книге «The Body in Pain», не только человек, которому причиняется боль, утрачивает языковой инструментарий описания своей ситуации; то же происходит и с очевидцем его мучений – стабильные рамки восприятия мира ослабляются, расшатываются. Боль, прежде чем полностью уничтожить силу языка, колонизирует ее. Отсутствие адекватных инструментов для описания приводит к тому, что свидетель чужого мучения готов принять описания, которые предлагают ему власти или «священнослужители разгневанного Бога»2222
Scarry E. The Body in Pain. The Making of Unmaking of the World. New York; Oxford: Oxford University Press, 1985.
[Закрыть]. Благодаря чужой боли власти обосновывают свою идеологию, наполняя ее реальностью чужого опыта, а «священнослужители разгневанного Бога» представляют то наполненное болью событие, которое человеческий разум отказывается себе присвоить, – как проявление «высшей морали» божественного порядка.
3
Если мы применим «хильберговский треугольник» участников Катастрофы к польским свидетельствам, то тотчас же польская послевоенная культура предстанет для нас как культура «свидетелей», «наблюдателей» или даже «ротозеев». Парадигматическим в этом смысле остается стихотворение Чеслава Милоша «Campo di Fiori», написанное под непосредственным впечатлением от безучастия поляков к окончательному уничтожению варшавского гетто. Но тот же самый мотив польских свидетелей еврейской Катастрофы мы обнаружим в рассказах Боровского, в новелле Налковской «У железнодорожных путей», в «Страстной неделе» Анджеевского, «Дыме над Биркенау» Шмаглевской, «Пасхе» Отвиновского, «Пограничной улице» Форда, в томе публицистики «Мертвая волна» под редакцией Анджеевского; он так же отдает эхом и в первом сборнике поэзии Ружевича (если остаться только в кругу произведений, созданных еще во время войны, под непосредственным впечатлением от событий, или сразу после нее). Литература, кино, публицистика пребывают в модуле очевидного: «я видел», «мы видели». Михал Гловинский этот феномен «горячих свидетельств», свойственный первым послевоенным годам, связывал с «потребностью выразить сочувствие, возмущение, шок»2323
Głowiński M. Wielkie zderzenie // Teksty Drugie. 2002. Nr 3. S. 201.
[Закрыть]. Эта разновидность автоматической идентификации с позицией свидетеля-наблюдателя, исторически более чем обусловленная, была навязана уже теми, кто, собственно, и производил уничтожение евреев, а также – этическим долгом по отношению к жертвам (хотя этот долг в социальной практике становится объектом слишком уж гибких негоциаций). Эта парадигма «культуры свидетелей» под натиском коллективных эмоций, политической идеологии и культурной проработки оказалась значительно деформирована и в результате – вытеснена. А в дальнейшей перспективе она подверглась и остракизму. Попробуем собрать аргументы.
Послевоенная польская культура, связанная со свидетельствами Катастрофы, формировалась не только с позиции наблюдателей. Ведь если предположить последнее, даже руководствуясь нравственно-благородной задачей разобраться с собственной, коллективной позицией пассивности, то за бортом останется многое другое, маргинализированы будут те явления польской культуры, которые относятся к свидетельствам еврейским. Таким образом, скорее следовало бы указать на недостаточное присвоение многих существенных явлений, которые возникали в рамках польской культуры, или же на полное отсутствие осознания еврейского опыта, вписанного во множество выдающихся художественных произведений. Те роли в «деле» Катастрофы, о которых писал Хильберг, оказывались тут размыты. Это во-первых. Во-вторых, следует критически приглядеться ко всем деформациям, какими отмечены польские свидетельства Катастрофы, хотя бы для того, чтобы прокомментировать те обвинения в антисемитизме, которые постигли многих польских художников (особенно если на их художественные произведения смотрели через призму западных дискурсов Холокоста и оценивали как антисемитские уже в силу национальности их авторов – так стало с рассказом Анджеевского «Страстная неделя», фильмом Вайды «Корчак», видео Жмиевского «Пятнашки»). В-третьих, надо отметить, что позиция свидетеля стала в польской культуре рискованной, она подверглась разнообразным процессам вытеснения и различным стратегиям зашифровывания. В послевоенной Польше часто вообще не было ясно, с какой позиции кто-либо свидетельствует; нелегко было распознать, что является причиной деформаций, которым подвергался акт свидетельствования; и в конце концов – позиция свидетеля постепенно все более и более вытеснялась. При этом с самого начала нужно отметить, что причины этого молчания – сложные, отнюдь не однозначные. Среди них, конечно, могло быть и равнодушие к судьбе евреев, но также и тактичность или даже попытка огородить людей, прошедших через ад, от дальнейшей стигматизации.
Польская литература (и шире – польская культура) несет в себе обильное свидетельство о жертвах Катастрофы. В том числе о жертвах, которые, благодаря «хорошей внешности», помощи друзей, своей собственной предприимчивости и смелости, а также благодаря счастливому стечению обстоятельств могли оказаться в группе свидетелей-наблюдателей – наблюдать события именно с такой позиции, а в то же самое время их переживать, благодаря факту полной идентификации с жертвами. Ведь польская культура, в том числе послевоенная, создавалась также и ассимилированными евреями, поляками с еврейскими корнями, так что вряд ли тут возможно определить какую-либо одну общую перспективу, а кроме того нужно принимать во внимание самые разные факторы вытеснения прошлого – не только ощущение вины пассивных наблюдателей, но, например, потребность преодолеть воспоминания о собственном унижении. В случае литературных текстов можно говорить и о том, что эта особенная позиция автора, живущего на пересечении двух культур, наблюдавшего Катастрофу с двух позиций, была более или менее непосредственно проявляема, что позволило Яну Блонскому говорить о таком имевшем место в послевоенные годы явлении, как «еврейская школа польской литературы».
Впрочем, говорилось это не без дискомфорта. Ведь Блонский отдавал себе отчет, что еврейский опыт часто «затемнялся и камуфлировался» самими авторами: «Изучение роли евреев в деле созидания польской культуры – строго говоря, задача не для литературоведа. Этим, скорее, должен был бы заняться историк культуры. Я уже не говорю о том, что выяснения того, кто был евреем и насколько был евреем, – не могут похвастаться в Европе хорошей традицией. Что важнее, в литературе больший вес, чем судьба автора, имеет его творчество. Еврейский опыт (как любой другой опыт) должен быть в нем явственно записан, хотя бы частично или опосредованно. В польской литературе порой можно натолкнуться на такие романы, где только разбирающийся в эпохе читатель сможет верно идентифицировать среду или социальный менталитет героев. Так, например, происходит в „Семейных мифах“ Адама Важика или „Высоком Замке“ Станислава Лема. Исследователь, конечно, не обязан разделять тактичное умалчивание автора. Однако мне было бы трудно анализировать такие романы рядом с „Голосами в темноте“, чья экзотика не только открыто явлена, но и получает авторское определение»2424
Błoński J. Autoportret żydowski, czyli o żydowskiej szkole w literaturze polskiej // Błoński J. Biedni Polacy patrzą na getto. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008. S. 85–86.
[Закрыть].
Если перенести все эти оговорки Блонского на театральную почву, ситуация окажется еще более драматичной: театр – искусство, многократно опосредованное, еврейский опыт «затемнялся и камуфлировался» тут будто бы по самой природе сцены как медиума, а выяснение «кто был евреем и насколько был евреем» может показаться еще более неуместным, злоумышленным и ничем не обусловленным. Все это не влияет, однако на факт, что пытаясь вписать польский театр в рамки культуры свидетельствования, мы должны принимать во внимание дифференцированную, меняющуюся и к тому же часто закамуфлированную позицию свидетеля, а это все трудно было бы сделать без элементарной биографической информации. Блонский, хоть и протестуя, в конце концов позволяет себе это, указывая (вслед за Александром Гертцем) на модель американской культуры, неповторимо богатой именно благодаря тому, что ее авторы явственным образом обращаются к своим корням и специфическому историческому опыту. Из размышлений Блонского следует важный вывод: польскую литературу, связанную с тематикой Катастрофы, не получается полностью отнести к свидетельствам наблюдателей и в то же самое время не всегда удается однозначно локализовать позицию повествователя в том или ином пункте того треугольника, который выстроил Хильберг. Позиции свидетеля и жертвы часто накладывались друг на друга, что привело к справедливо осуждаемым сегодня идеологическим практикам апроприации еврейского страдания в качестве страдания поляков (особенно если учесть, что польскость в послевоенной Польше часто определялась по этническим, националистическим критериям, а не по критериям культурного самосознания). Это ничего не меняет, однако, в том факте, что польская культура заключает в себе два полюса. На одном из них находятся попытки соотнести себя со «страданием и смертью Иного», а на другом – «непосредственный опыт тех, кто был обречен на смерть»2525
Panas W. Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej. Lublin: Wydawnictwo DABAR, 1996. S. 100.
[Закрыть]. Польская литература не только оказывается способной вчувствоваться в чужое страдание, но также несет опыт Катастрофы из самого ее эпицентра, с позиции жертв.
Этот разрыв, создающий феномен двух языков, стал глубоким и фундаментальным опытом польской культуры после Катастрофы. Как пишет Владислав Панас: «Через творчество этих писателей [с еврейскими корнями] польская литература непосредственно открывается на еврейскую перспективу катастрофы. Тут нет потребности „вчувствоваться“ в ситуацию Иного, необходимости привести в ход воображение, эрудицию и т. д., чтобы прозвучала правда о шоа. Непосредственный опыт тех, кто был обречен на смерть. Это один из внутренних полюсов нашей литературы»2626
Ibid.
[Закрыть]. Этот полюс существует также и в польском театре.
Польский театр после 1945 года в течение нескольких десятилетий создавался артистами (режиссерами, драматургами, актерами, сценографами), которые были или непосредственными свидетелями Катастрофы, или теми, кто в ней уцелел. Приведу один, особенно показательный пример – Хенрика Гринберга, который еще ребенком появился в кадрах «Пограничной улицы» Александра Форда (с одной репликой – «Это те эсесовские собаки!..»), а затем – в 1950 году в роли еврейского мальчика в «Немцах» Леона Кручковского на сцене лодзинского театра «Повшехны». «В Лодзи женщины в зрительном зале порой лишались чувств, когда я рассказывал: „Всех нас убили, маму, дедушку, маленькую Эстер, и только я…“»2727
Grynberg H. Prawda nieartystyczna. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2002. S. 37.
[Закрыть] Через несколько лет Гринберг дебютирует в Еврейском театре, возглавляемом Идой Каминской, в пьесе Шимона Диаманта «В зимнюю ночь», рассказывающей о еврейском мальчике, укрывающемся у польских крестьян. В «Личной жизни» Гринберг пишет о своей игре в этом спектакле, как если бы речь шла о ситуации свидетельствования о собственном личном опыте: «Я не был актером и не должен был им быть. Не играл и не должен был играть. Все это само во мне играло. Я выходил к рампе, протягивал руки к черной пустоте, открывал широко глаза и губы – и рассказывал»2828
Grynberg H. Życie osobiste. Warszawa: Oficyna Wydawnicza «Pokolenie», 1989. S. 22.
[Закрыть]. Можно задать вопрос, «актерский» ли опыт Гринберга позволил ему представить в «Еврейской войне» собственные переживания времен Катастрофы в рамках метафоры театра или наоборот – детские переживания стали импульсом к тому, чтобы поступить в Еврейский театр? Можно сказать, что случай Гринберга – предельный и исключительный. Но можно также предположить, что такого рода ситуация свидетельствования подспудно определяла облик многих театральных спектаклей. Неожиданным примером может быть авангардный спектакль «Водяной курочки» в Крико-2, который заставляет задать вопрос, в какой мере Тадеуш Кантор реконструировал в этой работе собственную позицию свидетеля Катастрофы, одновременно делая невозможным ее расшифровку и включение в какую бы то ни было упорядоченную систему коллективной памяти. Проблема свидетельствования касается также и театральных критиков – зрителей, обладающих привилегией публичного высказывания. Многие из них прошли через Катастрофу (в том числе Ян Котт, Леония Яблонкувна, Богдан Войдовский, Роман Шидловский, Анджей Врублевский); некоторые их театральные рецензии (даже тех спектаклей, которые не относились непосредственно к Катастрофе) можно читать сегодня как свидетельства их опыта, связанного с Катастрофой2929
Примером могут послужить удивительные рецензии Леонии Яблонкувны по поводу двух спектаклей Ежи Гротовского: «Стойкого принца» («Książę Niezłomny» w Teatrze 13 Rzędów // Teatr. 1966. Nr 2) и Apocalypsis cum figuris (Klucz od przepaści // Teatr. 1969. Nr 18). Яблонкувна несравненным образом прочитала подсознательную, аффективную, травматическую речь обоих спектаклей и скрытый месседж последнего спектакля Гротовского: «Разыгралась жестокая церемония, ритуал специфического священнодействия, мистерия святости и греха, обожания и обесчещивания, мученичества и профанации – но не оставила после себя никакого следа […]. Может, это и есть ключ к тайне нового Апокалипсиса: то, что мученичество не оставляет никакого следа, что великое жертвоприношение оказывается напрасным?»
[Закрыть].
И тем не менее применение такого биографического подхода наталкивается на целый ряд трудностей и преград. Например, факт еврейского происхождения многими артистами и критиками не афишировался (по разнообразным и сложным причинам: из‐за ощущения полной ассимиляции, страха перед антисемитизмом, потребностью забыть о травматическом исключении из сообщества), и благодаря этому пережитое ими во время войны часто оставалось неизвестным или известным очень фрагментарно. Более того, стратегия свидетельствования через театральный спектакль или через факт его комментирования относится не только к художникам и критикам еврейского происхождения, непосредственно затронутым Катастрофой. Но оправдано ли было бы решение исключить столь обширный и пронзительный опыт из поля размышлений о послевоенном польском театре, ссылаясь на отсутствие полной информации или из‐за боязни впасть в чрезмерную биографичность по отношению к произведению искусства? Особенно если учесть, что этот опыт касается всего «общества свидетелей», а таким образом – и зрителей. Именно поэтому польский театр после 1945 года стал местом циркуляции связанных с историческим опытом аффектов и скрытых культурных трансакций, в которых образы Катастрофы подвергались разнообразным процедурам апроприации и деформации. Мне кажется, мы с трудом могли бы найти в послевоенном европейском искусстве сопоставимое явление. Особенно важную роль в этом феномене играла в первую очередь публика, готовая вести сложную игру с тем, что было ею вытеснено, помещено вне границ памяти – однако эта игра приводила и к болезненному крушению защитных механизмов. Исследуя театр как медиум памяти о Катастрофе, нужно принять в качестве аксиомы факт существования сложных процессов травматического повтора, терапевтического переноса, защитного вытеснения, в которые были вовлечены все участники такого сценического события, каким является театральный спектакль.
Эта сложная ситуация отчетливо проявляется в восприятии политической по замыслу драмы Петера Вайса «Процесс», посвященной франкфуртскому процессу и имевшей целью обнаружить связи между нацистским прошлым и капиталистической современностью Западной Германии. Поставленная в 1966 году Эрвином Аксером в театре «Вспулчесны» в Варшаве, с одной стороны, эта драма вызвала глубокий эмоциональный шок публики, а с другой стороны – выявила характерные для польской культуры защитные механизмы, которые вслед за Фрейдом можно назвать явлением déjà raconté (чего-то уже ранее рассказанного и слышанного, что стало всем известно и проработано). Почти все рецензенты писали: мы не узнаем (мы – т. е. публика; мы – поляки) из этой драмы ничего нового. Варшавская постановка обнажила защитные механизмы, скрывающиеся за такой позицией3030
«Спектакль был так переполнен уважением к страданию, о котором говорится в пьесе, что мы не только были в состоянии слушать текст, но и полностью отдавали себя во власть его страшной красоты». Збигнев Рашевский, автор этих слов, вспоминает спектакль Аксера как один из самых важных, которые видел за всю жизнь. О роли Тадеуша Ломницкого в этом спектакле он написал с пафосом: «Если бы остывший пепел мог заговорить, звучало бы это наверняка так, как звучит голос Ломницкого в этой роли» (Raszewski Z. Spacerek w labiryncie. O teatrze polskim po 1958 roku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Errata, 2007. S. 258).
[Закрыть]. Волновало не только то, что говорят в пьесе Вайса свидетели, сколько шоковое состояние, в котором находились свидетели в спектакле Аксера – это было непрекращающееся, колющее глаза состояние онемения, в котором публика видела свое собственное отражение3131
См. главу «Первичная сцена».
[Закрыть].
Занимаясь спецификой польского театра, возрождающегося после 1945 года в обществе свидетелей Катастрофы, несомненным надо принять факт существования общественной памяти о конкретных событиях (о том, что население еврейских городов и селений уничтожалось, что организовывались и затем ликвидировались гетто, о том, что знакомых и незнакомых людей, с одной стороны, укрывали, с другой стороны – выдавали, о том, что имели место сцены публичного унижения и смерти). Нужно также признать аксиомой их достаточную, а порой и полную видимость, а как следствие – то, что любые попытки сослаться на эту память вызывали острую и сильную реакцию. А это – особенно в условиях разыгрывающегося здесь и сейчас театрального спектакля – всегда имело исключительное эмоциональное значение: определяло восприятие спектакля, но также и воздвигало преграды.
Слишком исторически-конкретизированные формы репрезентации событий прошлого часто обрекали театральные спектакли на маргинализацию: коль скоро мы уже все об этом знаем, зачем нам еще раз об этом рассказывают? Недостаток эмпатии в польском обществе обрекал на неуспех почти все театральные спектакли, которые непосредственно обращались к теме уничтожения евреев. Напомним, что по-польски не было написано ни одной пьесы, чья постановка вызвала бы такие эмоции и такие дискуссии, какие вызвал «Наместник» Рольфа Хоххута в Германии, «Дневник Анны Франк» Фрэнсис Гудрич и Альберта Хэкета в Соединенных Штатах или «Ханна Сенеш» Аарона Меггеда в Израиле. Поставленная сразу после войны в лодзинском Театре Войска Польского драма Стефана Отвиновского «Пасха», рассказывающая об уничтожении евреев в одном из польских местечек, хотя по замыслу режиссера должна была взывать к эмпатии зрителей, была принята с ледяным безразличием. Похожим образом была встречена несколько десятилетий позднее, в 1989 году, драма Ежи С. Ситы «Слушай, Израиль!» о варшавском гетто, поставленная Ежи Яроцким в театре «Старый». Тогда как все искаженные формы, зашифрованные или опосредованные послания, оперирующие приемами перемещения и конденсации, механизмами déjà vu, вызывали в публике глубокий и живой эмоциональный отклик.
То, с каким запалом рецензенты констатировали провал Ежи Яроцкого и коллектива театра «Старый» при постановке «Слушай, Израиль!», отдавало сильным ресентиментом. Поскольку этот польский ресентимент по поводу Катастрофы прозвучал столь полно и бесстыдно в рецензиях3232
То, что театр занялся темой Катастрофы, несколько рецензентов объясняло «модой». «Автор стремился к художественному синтезу геенны еврейского народа во время Второй мировой войны. Я оставляю без внимания конъюнктурный характер самой идеи, которая вытекает из моды на интерес к этой культурной экзотике [sic!] – помыслы автора нечисты по другой причине: пожалуй, о тайнах иудаизма не должен писать тот, кто сам не „оттуда“, пусть даже для себя самого он и изучил „Талмуд“» (Konieczna E. Słuchaj, Izraelu! // Echo Krakowa. 19.07.1989). Автор рецензии также таинственно упоминала, что спектакль «вызывает разнообразные язвительные замечания зрителей». «Обращаясь к такой теме, можно рассчитывать на успех, тем не менее никто не гарантирует триумф. Особенно художественный. Даже если тема привлекательна и попадает в цель, будучи точно рассчитанной на общественный спрос. Можно это назвать конъюнктурой. И элегантно, и уважительно» (Winnicka B. Zdążyć przed Habimą // Życie Literackie. 24.09.1989). Павел Вронский (Izraelu, litości // Młoda Polska. 16.06.1990) назвал спектакль Яроцкого примером «интеллектуального антисемитизма», цинично переворачивая с ног на голову подлинный замысел режиссера.
[Закрыть], нет никаких поводов предполагать, что не он определял и восприятие этого спектакля в целом. Однако одна из картин погружала публику в глухую тишину, свидетельство чего мы находим почти во всех рецензиях.
В прологе зрительный зал представляет собой интерьер синагоги Ножиков в Варшаве. Накануне Судного дня собирается тут горстка евреев, чтобы прочитать кадиш. Сцена закрыта черным полотном, на котором на иврите написаны еврейские имена безымянных жертв холокоста. Посередине висит занавес, закрывающий Ковчег. По центру зрительного зала проложен деревянный помост. Сзади – огромные двери в синагогу. Когда оказывается, что для прочтения молитвы недостает десятого еврея, цадик приказывает привести умершего с кладбища. Тогда двери открываются, занавес над просцениумом рвется, по помосту проплывает толпа умерших евреев, в белых – похоронных – рубахах, с талитами на головах. Их десятки и сотни. А могли бы быть тысячи и миллионы. Эта процессия длится и длится, как будто ей нет конца. Этой невероятной сценой Яроцкий дает почувствовать необъятный масштаб преступления3333
Węgrzyniak R. «Słuchaj, Izraelu!» w Starym Teatrze // Odra. 1990. Nr 3. S. 109–110.
[Закрыть].Подлинная сила театра проявляется только в одной сцене – когда по проложенному над зрительным залом помосту проходит бесконечная вереница евреев; когда в накинутых на головы белых, молитвенных талитах один за другим они исчезают, уходя в темноту, в «ночь и мглу», а зал наполняется синагогальным пением. Потом пение обрывается, помост пуст, и в театре становится тихо. Это уже не стилизация, этот помост – не из «Дзядов» Свинарского. Он похож на тот, что немцы выстроили в Варшаве во время войны. Проходили по нему запертые в гетто евреи, проходили над улицей, относящейся к «арийской» части города. Кто этого не видел, наверное, никогда не поймет того механизма преступления, которое там произошло. Теперь тут, в театре, на какой-то момент мы можем почувствовать то же самое, что чувствовали те, кто смотрел на проходящих над ними смертников. Ради такой минуты тишины в зрительном зале Старого театра стоило взяться за труднейшую из всех тем3434
Kłossowicz J. Temat // Literatura. 1990. Nr 2. S. 55
[Закрыть].
Я хотел бы обратить внимание на момент, в котором примененная Яроцким в «Слушай, Израиль!» легендарная установка из «Дзядов» Свинарского преображается в рецензии Клоссовича в картину из варшавского гетто. За этим внезапным актом иного ви́дения стоит индивидуальная память критика, который видел и помнит помост, соединяющий две части гетто (или, может, видел его только на фотографиях). Постановочная идея Яроцкого повсеместно интерпретировалась как попытка вписать память о Катастрофе в ритуальные и театральные рамки «Дзядов» (отсюда ссылка на спектакль Свинарского, который публика должна была еще хорошо помнить). Идея эта оказалась мертва: она не вызвала протеста зрителей, но и не повлияла на то, чтобы усилить их эмоциональную включенность. То, что публика в спектакле Яроцкого могла чувствовать себя вполне комфортно, хорошо уловила Агнешка Барановская: «Этот спектакль не вызовет таких споров, как некоторые из последних польских книг по еврейской тематике, поскольку он выстраивает отношения, опирающиеся на историческом грунте, на оппозиции между палачом и жертвой, немцами и евреями, собранными в гетто. Мы, поляки, – сидим в зрительном зале»3535
Baranowska А. Obroceni w żużel // Kultura. Nr 27. 05.07.1989.
[Закрыть]. Как всегда! – хотелось бы тут добавить. Понятное распределение ролей успокаивало совесть и, как можно заключить из рецензии Клоссовича, только момент, который отсылал к тому вытесненному и забытому факту, свидетельствовавшему, что Катастрофа была вполне видима, производил сильное впечатление и подрывал основы той романтической конструкции театра, которую использовал в своем спектакле Яроцкий.
Приведенный выше пример показывает, что не стоит исключать театр из практик свидетельствования. К тому же акт свидетельствования не обязательно должен происходить на сцене, его может заключать в себе уже сама структура восприятия (как в рецензии Клоссовича).
В порядке гипотезы я хотел бы представить модель аффективного воздействия, которая определила множество театральных явлений в польской послевоенной культуре. В этой модели отказ от эмпатии («я это уже слышал») переходит в переживание шока («я это видел!»). Источником потрясения является тут не само травматическое событие, а момент осознания своего равнодушия по отношению к нему. Как в анализируемых Фрейдом снах об умерших, наиболее шокирующий вывод этого переживания можно сформулировать следующим образом: мне все равно, жив ты или мертв. «Конечно, это безразличие не реальное, а желаемое, оно должно помочь сновидцу отвергнуть свои весьма интенсивные, зачастую противоречивые эмоциональные установки и, следовательно, изображает во сне его амбивалентность»3636
Фрейд З. Толкование сновидений // Фрейд З. Собр. соч. в 10 т. М.: Фирма СТД, 2004. Т. 2. С. 435.
[Закрыть]. Для тех ритуалов скорби, которые были выработаны польской культурой (особенно романтической культурой, воздвигнутой на драматических структурах и театральных формах), осознание этого факта представляет реальную угрозу; оно может полностью парализовать их действие. Поэтому театральный спектакль может принять как основу результативного, эффективного воздействия – свидетельство зрителя по поводу его собственного безразличия по отношению к шокирующим событиям смерти и Катастрофы. Этот механизм, когда безразличие оказывается сломлено и высвобождается шок, можно проследить во многих выдающихся спектаклях польского послевоенного театра.
Ежи Едлицкий, обращая внимание на возвращение литературы свидетельствования в 1960‐х годах, описывал связанный с ней процесс распада сколь бы то ни было общего символического пространства, которое было бы в состоянии вобрать в себя весь военный опыт (даже если мы оставались бы исключительно в кругу жертв)3737
Jedlicki J. Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczone // Dzieło literackie jako źródło historyczne. Red. Zofia Stefanowska i Janusz Sławiński. Warszawa: Czytelnik, 1978. S. 341–371.
[Закрыть]. Любое объединяющее «мы» стало фикцией. Даже если еврейский опыт проявлен, а не «затемнен или закамуфлирован», он не в состоянии обнажить свое конфликтное местоположение на территории польской истории и польской культуры. Чтобы быть выраженным открыто, он должен иметь «универсальный» характер. Он должен осуществиться в рамках тщательно подготовленного идеологического контракта. Если он провоцирует конфликт, то его историческая конкретность должна быть стерта. Степень, с которой можно заявить о своей собственной инакости, становится предметом дотошных негоциаций и ограничений. Можно сразу сказать, что эта ситуация частичного вытеснения и идеологических ограничений чрезвычайно благоприятствовала театру. В фазе «горячих свидетельств» сразу же после окончания войны театр, собственно говоря, молчал; напротив, 1960‐е годы приносят множество важных спектаклей, которые поднимают тему Катастрофы порой впрямую, а порой – на границе видимого и артикулируемого. Или же – что самое интересное – в поле полной видимости, но ценой утраты референциальности. Этот механизм можно было бы кратко описать следующим образом: мы не знаем, что мы видим.
Усиливающаяся с течением времени позиция полного отрицания или укрытия роли свидетеля чужого страдания имеет сложную генеалогию, которую тут мне удастся осветить только в общих чертах. Первый сильный импульс пришел от потребности направить общественную энергию на дело восстановления страны, ценой отрыва от погружения в воспоминания о военном прошлом. Явление соцреализма было не только идеологическим, шедшим сверху маневром, – оно также приняло на себе аутентичную общественную энергию, которую, как правило, генерируют любые механизмы вытеснения и принудительной амнезии. Именно поэтому так трудно с точностью отделять то, что представляет собой симптом, от того, что является идеологией. Можно сказать, что за польским соцреализмом стояло сильное коллективное либидо, он не был всего лишь навязанной идеологической конструкцией, реализацией чуждой польской культуре доктрины. Стоило бы, кстати, сразу отметить, что польская послевоенная культура рождалась в поле влияния разнообразных идеологий, которые формировались не только государственными институтами, но также и католической церковью, и политической оппозицией. Даже соцреализм в художественной практике не был в состоянии достичь идеологической монолитности.
Другой импульс вытеснения шел от попытки восстановить традиционные модели польской культуры, особенно те, что были сформированы на базе романтических мифов: речь шла прежде всего о том, чтобы продолжал действовать заключающийся в них нарциссический, защитный механизм. Сформировавшаяся сразу после войны парадигма литературы свидетельствования, о которой я вспоминал, открывала польскую культуру опыту кого-то иного, чужим страданиям; она показывала, насколько различались судьбы поляков и евреев во время оккупации, призывала польское общество повиниться и выказать сочувствие. К тому же этот призыв был обращен к обществу, которое потерпело ощутимый ущерб во время войны. Он предвещал фундаментальные изменения в парадигме польской культуры. Сформированная же романтизмом модель культуры жертв – вновь резко актуализированная военными событиями – взывала к чему-то прямо противоположному: к подавлению этих переживаний, к укрытию «страдания другого» в своем собственном или же универсальном страдании. Даже то насмешливое переосмысление романтических мифов, которое подвергало мазохистским пыткам коллективное сознание (чем польская культура занялась уже в 1940‐х, а до апогея довела в 1960‐х годах), избегало конкретизации, на каких собственно – с исторической точки зрения – оккупационных переживаниях это переосмысление было основано. Готовность через этот мазохизм заново оправдать романтические мифы парадоксальным образом стабилизировала и в каком-то смысле углубляла позицию жертвы, приводила в движение рискованную диалектику, в которой любые жесты радикального самоунижения настаивали на своем этическом признании – а тем самым и на приятии и возвышенном статусе. Мазохистские наклонности поддерживали нарциссизм. Парадигма культуры свидетелей вытеснялась под натиском мазохистски-нарциссических попыток заново переосмыслить романтическую парадигму. Этот процесс глубочайшим образом проанализировал и обнаружил в своем театре Ежи Гротовский3838
См. главы: «Театр по ту сторону принципа удовольствия», «О чем в Польше нельзя и подумать», «Демонтаж акта смотрения».
[Закрыть].








































