Читать книгу "Польский театр Катастрофы"
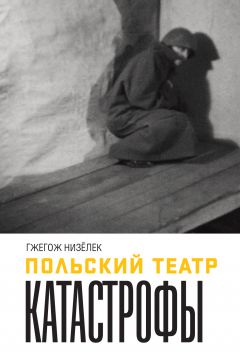
Автор книги: Гжегож Низёлек
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Плохо увиденное
1
Театр – это место, лучше всего обнаруживающее принцип циркуляции социальной энергии в культурном пространстве, он – модель всех видов негоциаций и в то же самое время – конкретное, в каждом отдельном случае неповторимое воплощение этих процессов и явлений. Он является моделью события и в то же время самим событием, повторением и событием. Так утверждает Стивен Гринблатт125125
Greenblatt S. Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy in Renaissance England. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1988.
[Закрыть]. Театр сильнее, чем какой бы то ни было другой медиум культуры, приоткрывает тот социальный фон, который за ним стоит: он формулирует намерения некоего коллектива, возникает в результате усилий некоего коллектива и адресует свое послание зрительному залу, воспринимаемому как коллектив. Театр никогда нельзя читать как произведение одного автора; даже драматический текст обнаруживает на сцене свою разнообразно проявляющуюся опосредованность в других текстах. Театр в своей повседневной практике (в отличие от сознательно формулируемого идеологического послания) обладает способностью обнаруживать те – остающиеся в тени – культурные транзакции, которым подчиняется циркуляция социальной энергии и ее трансфер. Здесь также легче всего раскрываются те механизмы, к которым прибегают те, кто заметает следы этих транзакций. Гринблатт указывает на источники этих маскирующих процедур. Среди них – концепция автора как полноправного создателя произведения, а также концепция власти как монолитной и согласованной системы: театр позволяет обнаружить идеологические конструкции такого рода, поскольку его принципом и в то же самое время фундаментальной реальностью является циркуляция энергии.
Давая определение явлению социальной энергии, как силы, которая способна соединять людей между собой, а также – соединять их с умершими, Гринблатт ссылается на явления из области не физики или метафизики, а риторики. Он ищет в текстах культуры такие следы, которые сохраняют способность оказывать воздействие, высвобождать аффекты. «Мы идентифицируем энергию только опосредованно, через результаты ее воздействия: она проявляет себя в способности определенных словесных, настроенческих и визуальных следов генерировать, придавать форму и организовывать коллективный опыт физического и ментального характера. Исходя из этого, она ассоциируется с повторяемыми формами удовольствия и заинтересованности, со способностью возбуждать тревогу, боль, страх, биение сердца, жалость, смех, напряжение, облегчение, изумление. В своих эстетических проявлениях социальная энергия должна иметь минимум предсказуемости – достаточный, чтобы простые повторения оказались возможны, – и минимальную шкалу воздействия: достаточную, чтобы выйти за пределы отдельного творца или реципиента к некоему коллективу, как бы ограничен он ни был»126126
Ibid. P. 6.
[Закрыть]. Должна, таким образом, существовать некая группа людей, которая в один и тот же момент разразится смехом или внезапно замолчит, пораженная. И более того, эти реакции должны быть в какой-то степени предсказуемыми и повторяемыми. Таким образом, мы ищем в пространстве культуры следы, которые способны высвободить такого рода аффекты. Принцип повторения, сила высвобождения повторяемости принадлежат регистру разговора с умершими.
Можно ли историю послевоенного польского театра прочитать в такой перспективе, анализируя театральные спектакли как особым образом размещенные аффективные следы? Можем ли мы в театральной документации (рецензиях, фотографиях, кинозаписях, дневниках создателей спектаклей и зрителей, театральных экземплярах) найти следы тогдашней жизни, или же – как сказал бы Гринблатт – циркуляции социальной энергии?
Шекспировский театр для Гринблатта – это область усиленных культурных негоциаций, где предметом обмена может быть повседневная речь, всем известные истории, исторические события, материальные артефакты, общественные и религиозные ритуалы. Шекспировский театр действует в пространстве радикальной политической, религиозной и культурной трансформации, которую Гринблатт готов интерпретировать как процесс скорби по утраченным эпицентрам харизмы (связанным с католической церковью в Англии): театр перенимает старые истории, ритуалы, объекты и наделяет их новым смыслом. Ставшие ненужными, предметы религиозного ритуала отчасти сохраняют силу своего воздействия, остатки либидинальной энергии, которой они были заряжены. Театр восстанавливает в новой культурной системе все то, что подверглось наибольшему разрушению: не возвращает, однако, ни прежних смыслов, ни прежних форм, изучает их скрытую жизнь после культурного катаклизма, негоциирует условия, на которых они могли бы снова появиться на сцене или же в поле зрения общества и циркуляции социальной энергии. Но чтобы безнаказанно это сделать, происхождение их должно быть сокрыто.
Театр заново обрабатывает то, что пережило самую огромную катастрофу, что исчезло из поля зрения коллективной жизни. Но утраченные позиции и объекты он возвращает в форме неявной – то есть в виде симптома или сублимации; так сохраняется желание, но оказывается скрыт или деформирован его объект. В описываемой Гринблаттом модели циркуляции социальной энергии скрыто работает хорошо известная фрейдовская модель театра как места, где катастрофы вытеснения и утраты объектов заново переписываются в гипнотизирующие публику сценические события, подлинное происхождение которых, однако, не должно быть перед этой публикой обнаружено. Смотря трагедию Эдипа, зритель не должен знать, что смотрит предысторию своей собственной субъектности. Таков принцип этого договора. Только в редких и нежелательных случаях он может быть нарушен. И тогда в поле контролируемых и желаемых аффектов сочувствия и тревоги появится отвращение, либидинальный избыток, связанный со слишком глубоким вторжением в защитный механизм, устанавливающий стабильные границы между субъектом и объектом. Гринблатт берет в скобки понятие «либидо» – столь методологически рискованное и с таким трудом поддающееся определению в категориях социального опыта, – он, скорее, прибегает к категории энергии, кругооборот которой подтверждается фактом культурных негоциаций и транзакций (их предметом являются дискурсы, образы и ритуалы). Поэтому его концепция так удобна и в то же время недостаточна. Театральное событие невозможно переписать через одни только процедуры культурных транзакций, часто оно содержит в себе тот эксцесс энергии, который скорее блокирует негоциации, чем делает их возможными.
Послевоенный польский театр действовал как раз в ситуации, когда символическая система переживала кризис, а в то же самое время именно театр становился местом, где эта система заново выстраивалась и укреплялась. Глубокое вторжение в защитный механизм происходило в тех спектаклях польского театра, которые обнаруживали вытесненную фигуру свидетеля чужого страдания и связанную с его свидетельством небезопасную для всего коллектива перспективу «мира безо всяких гарантий»127127
Jedlicki J. Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczone // Dzieło literackie jako źródło historyczne. Red. Zofia Stefanowska, Janusz Sławiński. Warszawa: Czytelnik, 1978. S. 368.
[Закрыть], нарушающую устоявшиеся культурные идентичности. Если прав Едлицкий, когда он утверждает, что в обрыве ситуации коммуникации в послевоенной культуре свидетельствования виновата публика и ее отказ эти свидетельства принять, нужно задуматься над ситуацией такого насилия над зрителем, которое замыслил театр, навязывая ему идентификацию с этой вытесненной фигурой. Но одновременно с такого рода актом насилия девальвации подвергаются и все другие культурные негоциации, происходящие на территории театра. Когда в поле социальной энергии действуют столь сильные помехи и когда разрушаются устоявшиеся каналы ее циркуляции, чтение сценических знаков оказывается подвержено глубоким трансформациям, оказывается подчинено тому типу перцепции, который ван Альфен называет аффективным чтением128128
Alphen E. van. Affective Reading. Loss of Self in Djuna Barnes’s «Nightwood» // The Practice of Cultural Analysis. Exposing Interdisciplinary Interpretation. Ed. Mieke Bal. Stanford, CA: Stanford University Press, 1999. P. 151–170.
[Закрыть] – располагающимся там, где располагаются телесность, боль и потеря возможности понимания. Любые столь внезапные помехи в кругообороте энергии могут, впрочем, не закрепиться как новый путь ее циркуляции, а след нарушения в предшествующей системе может оказаться записанным в символическом регистре как новая модель реагирования.
Фрейд в своей очень ранней концепции памяти описывает две модели реагирования129129
Фрейд З. Набросок психологии. Ижевск: ERGO, 2015.
[Закрыть]. Первая связана с теми образами памяти, которые воспринимаются как дружественные, и с экономикой желания, а вторая – с образами памяти, которые воспринимаются как враждебные и, соответственно, с экономикой аффектов. Желание аккумулирует психическую энергию, наделяя ею дружественный образ памяти: в итоге его активация (иначе говоря – степень энергетической нагрузки) превышает активацию, связанную с самим восприятием, на базе которого возник образ памяти. Во втором случае – в случае враждебного образа – система памяти стремится к тому, чтобы как можно быстрее такой образ дезактивировать. В нас запечатлевается такая модель переживания: в ситуации реальной боли появление другого объекта в поле перцепции означает угасание боли, является сигналом, что боль сейчас утихнет (Фрейд описывает тот же самый механизм, который анализировала Элейн Скерри – боль тут тоже не имеет объекта, и, таким образом, появление объекта означает ослабление или прекращение боли). Память умеет этот процесс репродуцировать. Рост аффективного возбуждения под влиянием враждебного образа памяти приводит в действие процесс, в котором происходит быстрое перемещение психической энергии в сторону другого объекта, а в результате – внезапная дезактивация враждебного образа. Спад воспоминаний – это одно из первых фрейдовских определений вытеснения.
Если Гринблатт пишет о циркуляции социальной энергии в шекспировском театре, в нашем случае следовало бы говорить о формах чрезмерного наделения энергией враждебных образов памяти, которые тем самым переживаются в категориях болезненного аффекта (в русле фрейдовских определений можно сказать, что, собственно, другого рода аффектов и не бывает; аффект никогда не является желанием, он представляет собой его энергетические остатки, уцелевшие после катастрофы вытеснения, так что он болезнен или же ощущается в формах, схожих с болью, поскольку его объект в лучшем случае является фантомом). А значит, мы говорим о явлении блокировки, закупорки, чрезмерного нагромождения энергетических пластов. Или же о явлении мощной разрядки слишком внезапно аккумулированной энергии, что указывает на недавнее переживание боли.
Психическая энергия – это энергия политическая, так утверждает Лиотар. Это либидинальная экономика определяет, как будет выглядеть моторика жизни: будет ли в реальном мире произведено то или иное действие или же от него воздержатся. Так и искусство возникает в поле либидинальной политики: поскольку и оно представляет собой энергию в действии, энергию, которая оставляет следы своей работы. Лиотар интерпретирует каждый художественный жест как акт релокализации либидинальной энергии, отдаляющий или приближающий нас к переживанию боли130130
Lyotard J.-F. Painting as a Libidinal Setup (Genre: Improvised Speech) // The Lyotard Reader&Guide. Ed. Keith Crome, James Williams. New York: Columbia University Press, 2006. P. 309.
[Закрыть]. И, в то время как Гринблатт позиционирует театр исключительно в перспективе принципа удовольствия, который делает возможным субституцию и обмен, Лиотар модели театральности связывает также с первичными процессами, располагающимися вне принципа удовольствия.
Циркуляция энергии – психической или социальной – существует в двух регистрах, двух модальностях, двух системах. В одной он направлен по особым каналам, ищет объекты, наделяет их энергией или проходит мимо них, стремится к равновесию, стабильности, работает на упорядочивание, коммуникацию, устанавливает ценности, что-то генерирует и благодаря всему этому делает возможными и негоциации. Эту систему либидинальной экономики Жан-Франсуа Лиотар сопоставляет с марксистским законом ценности, который базируется на разделении, способности сравнивать величины и тем самым создает возможность обмена. Такую модель циркуляции энергии можно связать с риторикой (как того хочет Гринблатт), поскольку она создает значения, запускает их в движение, контролирует их общественную ценность и силу действия, способна заново их негоциировать – сужать, расширять, деформировать, обращать в метафоры. По такой модели циркуляции энергии Гринблатт и создает свое ви́дение шекспировского театра. Вторую систему, однако, невозможно заключить в риторические и дискурсивные категории. Хотя действующая тут энергия по-прежнему позитивна (в принципе это та же самая энергия, которая питает и первую систему), в этом случае ее действие поддается описанию лишь в негативных категориях. Ее можно уловить в таких явлениях, как возврат, повторение, блокировка, дисфункция, застой, кризис, хотя по сути своей ее динамика основана на неустоявшихся формах потока и разрядки. С точки зрения первой из указанных систем – системы равновесия и циркуляции такого вида неконтролируемые потоки энергии ассоциируются с явлением боли, поскольку они проявляются в виде аффекта, а не смысла. Их можно уловить не в категориях дискурса, а в симптоме дискурсивности.
Ничего удивительного, что как раз институция театра стала для Лиотара моделью, лучше всего описывающей, как устроено поле аффектов. Театр – это форма диспозитива, при помощи которой можно представить и реализовать разнообразные ситуации политического и культурного контроля либидинальной энергии. Лиотар приводит еще один аргумент для того, чтобы определить театр как поле особенно усиленных защитных механизмов, которые генерирует культура. Институция театра требует того, чтобы были обозначены три границы: между тем, что внутри (театр), и тем, что снаружи (реальность), между зрительным залом (пассивными наблюдателями коллективной жизни) и сценой (активными субъектами), между сценой (тем, что видно) и кулисами (тем, чего не видно, но что активно создает поле зрения). Театр становится моделью, которая описывает возникновение всевозможных форм репрезентации, а также всевозможных институций, которые управляют полем зрения и полем действия. Присутствие трех разделительных линий открывает, однако, в то же самое время широкое поле возможностям трансгрессии: заглядываниям за кулисы, нарушениям границы между сценой и зрительным залом. Но больше всего Лиотар размышляет над границей, отделяющей театр от внешнего мира. Если предположить, что эта граница непроницаема, следовало бы признать, что театр может быть только местом спектаклей, формой, без устали настаивающей на различии между событием и свидетельством (театр при таком подходе становился бы местом, где репрезентируется действительность, находящаяся за стенами театра).
Механизмы создания театральной репрезентации не располагаются, однако, в оппозиции к полю либидинальных сдвигов в социальном пространстве, они так же ему принадлежат. Сдвиги энергии либидо обнаруживают себя тут в виде «скандальных» или «юмористических» эффектов – то есть в явлениях, которые квалифицируются как «помехи», как нечто «неуместное». Любая репрезентация, утверждает Лиотар, в основе своей либидинальна, то есть является одной из форм повторения, а не его противоположностью. Театральность – это не только машина скорби, отыгрывание фактов потери и страдания, ведь она все еще поддерживает связь с «первичными процессами», которые не идентифицируют негативный опыт такого рода: они не видят «потери», регистрируют только перемещение энергии. Таким образом, свидетельство оказывается невозможно отделить от фактов, фикцию от реальности, искусство от истории и политики, последствие от причины. Поэтому театр может быть не только местом контроля либидинальных процессов, но также инструментом, регистрирующим любые помехи, нарушения и перемещения. Театральное событие не только представляет то, что находится снаружи, оно также является частью того, что снаружи (как лента Мебиуса). Так же как свидетельство – это не только рассказ о событии, но и повторение события, реакция на него, доказательство того, что события, которые признаны «минувшими», существуют и сегодня. Зритель – это не только наблюдатель сценических ситуаций, он также часть цепи, по которой проходит энергия, или же он – место, где энергия разряжается. Актеры на сцене не только выполняют инструкции, которые создали невидимые контролеры, находящиеся за кулисами, они активно участвуют в создании сценического события. Каждая система контроля аффектов, каждый диспозитив может – под напором либидо – подвергнуться дестабилизации или деструкции. Театр может быть, таким образом, институцией как призванной защищать от такого рода дестабилизации, так и являющейся прекрасным инструментом, призванным ее обнаружить.
Лиотар предлагает новое прочтение театрального пространства – как места аффективных воздействий, как места, где записываются и стираются события, стабилизируются и распадаются диспозитивы (модели аффективного реагирования). Таким образом перед зрителем открываются новые перспективы участия. Одна из них – это критическая позиция, которая позволяет уловить тот факт, что те, кому принадлежат нарративы, стремящиеся управлять нашими аффектами и принципами циркуляции социальной жизни, остаются невидимыми. Зритель, однако, – не только критически настроенный свидетель тех механизмов, которые вызывают к жизни сценические репрезентации, он сам участвует в процессе циркуляции социальной энергии. Лиотар объясняет: «Итак, когда мы говорим: следствия, речь идет не о следствиях из причин. Речь идет не о том, чтобы возложить ответственность за следствие на причину, сказать себе: если тот или иной дискурс, то или иное лицо, та или иная музыка производит такой эффект, то это потому, что… Речь в общем-то как раз о том, чтобы не анализировать (даже в «шизо-анализе») в рамках дискурса, который вынужденно окажется дискурсом знания, а, скорее, достаточно утончиться, превратиться в достаточно анонимные тела, тела достаточно проводящие, чтобы не останавливать эффекты, чтобы проводить их к новым метаморфозам, чтобы извлечь их метаморфическую силу, силу пересекающих нас эффектов»131131
Лиотар Ж.-Ф. Либидинальная экономика. М.; СПб.: Изд-во Института Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2018. С. 434–435.
[Закрыть].
Я вижу послевоенный польский театр как место защитной и в то же время взрывной – именно что либидинальной – активности, вызванной историческими потрясениями, в центре которых оказалось переживание – неизбежное, но в то же самое время подвергаемое вытеснению и забвению: состояние свидетеля чужого страдания, унижения и смерти (следует, однако, помнить, что это переживание невозможно записать в одной-единственной модели, хотя бы из‐за упомянутой выше проблемы очень различающихся, в рамках польской культуры, позиций свидетелей по отношению к событиям Катастрофы). Вспомним еще раз сцену из «Самсона» Казимежа Брандыса. Стоит переместить внимание на «зрителей», на уличных прохожих, чтобы увидеть «анонимные тела», через которые проходит «метаморфическая сила». Якуб, ослепленный солнцем, не принадлежит в их глазах миру живых, его отделяет от них невидимая, но непреодолимая граница. Для прохожих он репрезентирует мир, который уже перестал существовать, стал невидимым. То есть, как актер в традиционном театре, он репрезентирует «отсутствие». А его судьбой управляют скрытые, находящиеся за кулисами, силы. Три разделительные линии, о которых писал Лиотар, оказываются обозначены в тот момент, когда Якуб появляется на улице. Эта внезапная театрализация чужой судьбы высвобождает двойную реакцию прохожих-зрителей: эта судьба их трогает и парализует, они чувствуют прилив энергии и остаются в бездействии.
Театр – это, как я уже писал, место кругооборота энергии: как ее сознательной организованной циркуляции, так и неожиданных и не поддающихся контролю перемещений. Когда этот кругооборот сознательно запрограммирован, он поддается анализу в рамках реконструирования художественных стратегий создателей спектаклей (тут мы остаемся в рамках стратегии причин и следствий, о которой писал Лиотар, в рамках стратегии конструирования репрезентации). И, более того, как каждое действие субъекта, их тогда можно рассматривать в категориях психической защиты. Во втором же случае перемещения энергии оказываются либо забыты (как случайные, непреднамеренные, лишенные значения, «неприличные» или же «юмористические»), или же, уже ex-post, экспроприированы. Существует, например, множество свидетельств, которые говорят, что Тадеуш Кантор не ожидал столь шокирующего впечатления, какое произвел «Умерший класс» на первых зрителей – этот аффект, однако, позволил ему заново переосмыслить стратегии собственного искусства132132
См. главу «Тревога и что дальше…».
[Закрыть], заставил заново задуматься над защитными механизмами, которыми – в театральном пространстве – располагает культура. До того момента Кантор занимался исключительно тем, что их демонтировал: будь то в рамках «Нулевого театра» или «Невозможного театра», – включая зрителей в игру, правила которой они не знали133133
См. главу «Публику сминают».
[Закрыть].
Можно сказать, что каждый театральный спектакль, обладающий большой силой аффективного воздействия, – это поле многократно генерируемой и непредсказуемой циркуляции энергии. Таким образом, нужно еще раз – под этим углом – прочитать существующую театральную документацию, ища следы такого рода инцидентов. Пусть даже навсегда останется неразрешимым, что тут было непредвиденным случаем, а что структурированной регулярностью.
В процессах забывания ключевую роль играет отделение аффекта от созданного памятью образа: благодаря чему этот образ утрачивает динамику, связанную с энергетическим потенциалом аффекта, а тем самым теряет способность достигать нашего сознания. В этом смысле Лиотар прав: переживание потери – это иллюзия, которую создает сознание. Этически более важными (и более опасными) представляются для Лиотара механизмы, позволяющие скрывать от сознания факты забывания. К ним относятся – парадоксально – любые формы нарративизации памяти, которые приписывают себе привилегии памяти, а чаще всего начинают заслонять – не столько то, что забыто, сколько сам факт забвения. Главный завет Лиотара это: нельзя забывать о забвении. Следует помнить о том, что «не перестает забываться»134134
Лиотар Ж.-Ф. Хайдеггер и «евреи». СПб.: Аксиома, 2001. С. 12.
[Закрыть].
Высвобожденные аффекты могут соединяться с другими представлениями, в то время как картины памяти, лишенные динамики аффектов, ждут того, чтобы их снова наделили либидинальной энергией. Судьбы аффектов, как подчеркивает Фрейд, более важны, чем судьбы представлений135135
Фрейд З. Вытеснение // Фрейд З. Собр. соч. в 10 томах. Т. 3. М.: Фирма СТД, 2006. С. 111–128.
[Закрыть]. Аффекты, оторванные от первоначальных представлений, не перестают действовать, они находят для себя новые представления или контрабандой протаскивают остатки первоначальных представлений, монтируя друг с другом гетерогенные картины; сами они тоже подвергаются метаморфозам. В то время как настоящие картины памяти или остаются скрыты, или кажутся нейтральными, «неопасными», они немного или вообще ничего не значат для субъектов, иногда могут беспрепятственно всплывать в поле сознания, не вызывая слишком сильных реакций.
Приведу пример из области театра. В спектакле Ежи Гжегожевского «Город считает собачьи носы» (театр «Студио» в Варшаве, 1991) сцена ослепления Глостера была разыграна следующим образом: тело Глостера съезжало головой вниз по наклонной плоскости и тут, внизу, его подвергали пыткам. Гжегожевский в высказываниях, сопровождающих премьеру, утверждал, что его спектакль обращается к ситуации введения военного положения в Польше в декабре 1981 года (несмотря на то что на текстуальном и изобразительном уровнях он оперирует аллюзиями на драмы Шекспира, Чехова и Элиота). Это отнюдь не было очевидно в самом спектакле, даже если некоторые визуальные сигналы отчетливо вызывали ассоциации с воспоминаниями о том времени: жаровня, рыцарские облачения, напоминающие мундиры зомовцев136136
ЗОМО – Моторизованная поддержка гражданской милиции, силовая структура во времена ПНР. – Примеч. пер.
[Закрыть], прозрачные щиты, резиновые палки. Сцена ослепления Глостера казалась формой сценической фантазии, режиссерским вымыслом, призванным подчеркнуть универсальность той жестокости, которой было отмечено представляемое событие. Сценический образ, однако, скрывает в себе историческую тень, уже не связанную с реалиями времен военного положения. Образ тела, съезжающего головой вниз по узкому спуску, мог бы ассоциироваться с одним из шокирующих образов варшавского гетто, запечатленных на киноленте: именно так спускали в братскую могилу лежащие штабелями мертвые тела, собранные с улиц гетто. Можно допустить, что многие зрители этот образ где-то видели (в газете, по телевидению, в кино, на выставке), но вряд ли кто-то опознал его на сцене. Не имеет, в свою очередь, ни малейшего значения, осознавал ли Гжегожевский эти коннотации. Вопрос ведь не в намерениях художника, а в культурном и историческом факте циркуляции образов со стершейся генеалогией, возможность или невозможность их идентификации. Забвение следует тут как раз из диссоциации аффекта и оставленного в памяти следа.

Спектакль Гжегожевского возник в 1991 году, в пространстве памяти, которая, казалось, была усыплена, отмерла; в его основу было положено созерцание образов, чье происхождение оставалось неясным. Мы находимся на противоположном от опыта коллективной памяти полюсе. Не там, где театр может служить защите от «неправильных» образов, а там, где «неправильные» образы безнаказанно существуют в виде подвижных икон неизвестного страдания. В то же время мы не можем однозначно определить, в чем причина истончения связи между образом и событием: в травме или равнодушии, в неврозе или психозе. «Документирует ли наше открытие существование постоянной и упрямой, всезнающей гравитационной референциальности или же, наоборот, обнажает тенденциозный исторический процесс, в котором референции систематически подвергаются обработке, демонтируются, текстуализируются и в конце концов улетучиваются, оставляя после себя лишь некий неперевариваемый остаток?»137137
Jameson F. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press, 1991. P. 94. В русскоязычном издании эта фраза переведена по-другому (см.: Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма. М.: Издательство Института Гайдара, 2019. С. 242).
[Закрыть]
2
Понятие симптома произвело революцию в понимании принципов любого рода коммуникации между людьми, открыло ее спрятанное измерение. Произвело революцию также в понимании искусства и в концепциях художественного образа. Переворот этот наступил одновременно с переосмыслением истерического поведения, ревизией «театра истеричек», которую произвел Фрейд, – так, во всяком случае, утверждает Жорж Диди-Юберман138138
Didi-Huberman G. Invention of Hysteria: Charcot and the Photographic Iconography of the Salpêtrière. Transl. Alisa Hartz. Cambridge, MA; London: MIT Press, 2003.
[Закрыть]. Опять же, и тут мы не можем обойтись без театральной метафоры, без медиума театра. Жан-Мартен Шарко, который с широким размахом начал исследования истерии в парижской больнице Сальпетриер, пытался из жестов истеричек создать вполне понятный и читабельный язык, систематизировать его, уложить в иконографические схемы и таблицы: идентифицировать его лексику, грамматику и синтаксис. Шарко был, как утверждает Диди-Юберман, ортодоксальным последователем теоретиков театра французского классицизма: он опирался на принципы риторики и полной зримости сценического жеста. Фрейд, в свою очередь, уловил в поведении истеричек процесс, направленный на то, чтобы затемнить производимые ими действия, сделать их непонятными, нечитабельными. Он совершил революцию в искусстве смотрения. Смотрение связано с желанием и его блокадами, – это его главный тезис. То, что нам показывается в истерическом зрелище, стремится как к тому, чтобы обнаружить, так и к тому, чтобы скрыть свой смысл. То, что на виду, не всегда оказывается увиденным. А то, что увидено, не всегда фактически находится в поле зрения. Симптом одновременно реализует и желание, и запрет на него, заключает в себе вытесненную репрезентацию и вытесняемую репрезентацию. Истеричка в момент своего припадка воспроизводит сцену травматического соблазнения, играя одновременно и себя, и своего преследователя – она находится, таким образом, в одно и то же время и в ситуации жертвы, и в ситуации экзекутора. Приведенный в движение образ памяти, воплощенный в действии, активизирует и актуальную либидинальную ситуацию. Истеричка соблазняет своего зрителя и в то же время демаскирует его позицию преследователя (который принуждает ее к игре, чего-то ожидает и чем-то угрожает). Более того, зритель оказывается вплетен в ту сохраненную памятью картину, которая сейчас разыгрывается, но он сможет ее понять только тогда, когда прочитает заложенный в ней двойной вызов. Ведь зритель играет роль другого, отсутствующего зрителя – того, кто когда-то причинил те муки, что живы и сегодня. Симптом, таким образом, принадлежит как регистру диахронии, так и регистру синхронии. Он повторяет событие из прошлого, но помещает его в поле актуально действующих либидинальных процессов.
Не принимая во внимание этот механизм, трудно было бы понять причины и характер той агрессии, которая направлена на зрителя во время театрального представления. Агрессии, которую так хорошо запомнили зрители некоторых спектаклей Гротовского, Кантора, Шайны, Свинарского, Варликовского. Зритель оказывался тут в позиции свидетеля, который отказался от своего собственного опыта. Зритель должен принять на себя вину того равнодушного свидетеля, не спрашивая о причине.
Симптом – это не символ, как подчеркивает Диди-Юберман139139
Didi-Huberman G. Dialektik des Monstrums: Aby Warburg and the Symptom Paradigm // Art History. Vol. 24. November, 2001. Nr 5. P. 621–645.
[Закрыть]. Хотя, что важно, тот же самый образ может быть как символом, так и симптомом. Например, снятие шляпы на улице может быть жестом (символом) вежливости, но может быть и неким навязчивым действием (стоило бы в этом контексте переосмыслить избыточное присутствие романтических мифов в послевоенном польском театре). Симптом – это максимум символ в состоянии регресса: он сохраняет его форму, но делает его непонятным и абсурдным, становится визуальным остатком какого-то скрытого, минувшего события и одновременно служит защите от него. Симптом неповторим, он не заключает в себе никакого универсального послания, он всегда связан с конкретной ситуацией. Развивая мысль Диди-Юбермана, следовало бы признать, что интерпретирование симптома как символа – это проявление очень сильных защитных форм, маскирующих не только вытесненное содержание, но и сам факт вытеснения – дающих иллюзию контроля над смыслом. Как заметил Диди-Юберман, историк искусства «заставляет произведение искусства „признать“, что речь в нем идет о символе». Таким образом симптом, интерпретируемый как символ, становится симптомом усиленным, симптомом в квадрате. Поэтому следовало бы не столько противопоставлять символ симптому, сколько интерпретировать симптом как критическую модальность чтения символических текстов культуры, которая делает возможным постмодернистский проект переработки унаследованных позиций и парадигм140140
Didi-Huberman G. Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki. Przeł. Barbara Brzezicka. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2011. S. 157.
[Закрыть].
Примером симптома, который получил символический смысл, а значит, оставил глубокий и неизгладимый след в памяти культуры как символ и поэтому взывает к тому, чтобы быть заново критически прочитанным, – это определенный мотив, связанный со спектаклем «Возвращение Одиссея» Станислава Выспянского, поставленным Тадеушем Кантором в 1944 году в условиях конспирации. Кантор, быть может, в первый раз в истории польского театра столь явно активизировал позицию зрителя как свидетеля сценического события. Согласно сохранившимся свидетельствам, на дверях комнаты, где проходил спектакль, находилось предупреждение: «В театр нельзя войти безнаказанно». Одним словом, зрителю предстояло стать не столько зрителем, беспристрастным наблюдателем, сколько свидетелем, втянутым в событие с риском для себя. Что в условиях оккупации, во время конспиративного спектакля, было наделено более чем реальным смыслом. Спектакль шел в атмосфере угрозы, страха, который сообща делили актеры и зрители. Кантор, делая военное «Возвращение Одиссея», включал в спектакль опыт зрителя как свидетеля, наблюдателя небывалых преступлений, которые происходили явно, в поле зрения – в обыденном, социальном поле зрения. Он сознательно расщепил конституирующие театр границы, о которых писал Лиотар.








































