Читать книгу "Польский театр Катастрофы"
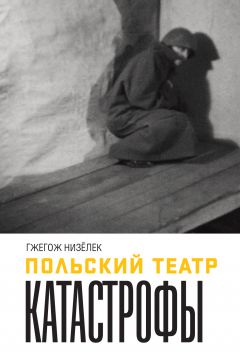
Автор книги: Гжегож Низёлек
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Метафоры театра, таким образом, использовались не только ex-post для описания травматических переживаний, но часто детерминировали само переживание Катастрофы, были метафорами в действии. Под таким обличьем медиум театра поставлял инструменты и сценарии, при помощи которых было организовано преступление, но которые так же составляли и стратегию выживания. Таким образом, еще до того, как образы Катастрофы попали в театр, театр оказался поставщиком как моделей, при помощи которых Катастрофа медиатизировалась в языке, так и моделей для реальных процедур ее реализации. Деконструктивистский проект Жака Деррида, как мы знаем, имел своей целью, кроме всего прочего, обнаружение того, как язык и культура стали сообщниками в свершившемся преступлении – Катастрофе105105
Цит. по: Eaglestone R. Derrida and Legacies of the Holocaust // Derrida’s Legacies. Literature and Philosophy. Ed. Simon Glendinning, Robert Eaglestone. London; New York: Routledge, 2008. P. 66–75.
[Закрыть]. По-моему, такого рода деконструкция театральных метафор, вовлеченных в «дело» Катастрофы, и происходила в самых радикальных проектах польского послевоенного театра.
Может, поэтому метафора во всевозможных дискурсах о Катастрофе традиционно считается наименее подходящим средством выражения, грозящим тем, что исключительность самого события будет стерта и что его образы окажутся перемещены на территорию иных ассоциаций. Альфред Розенфельд категорически утверждает: «для Аушвица нет метафор. Так же как и Аушвиц не является метафорой для чего бы то ни было другого»106106
Rosenfeld A. H. A Double Dying: Reflections on Holocaust Literature. Bloomington: Indiana University Press, 1980. P. 27.
[Закрыть]. Похожим образом Синтия Озик пишет, что еврей не может быть метафорой чего-либо или метафорой для кого-либо107107
Цит. по: Young J. E. Writing and Rewriting the Holocaust… Op. cit. S. 84.
[Закрыть]. Констатации такого рода, считающиеся описаниями реальных художественных и ритористических практик, а в сущности представляющие собой этические постулаты, уже многократно подвергались критике. Это попытка заклясть и подправить действительность, которой управляют совершенно другие законы. Даже если нельзя поставить под вопрос этический смысл, который стоит за такой позицией, следует задуматься, действительно ли она обоснована в сфере художественной практики. Исчезают ли в ней процедуры метафоризации или, скорее, подвергаются сложным механизмам маскировки? Например, послевоенную историю польского театра невозможно описать без учета театральных метафор Аушвица и разнообразных форм их переработки, вплоть до деформации, затушевывания или же полного вычеркивания. Сегодня мы уже знаем, что метафора не оказалась исключена из дискурсов о Холокосте – она была подвергнута стратегиям репрессии или политике (и поэтике) «пропуска без внимания». Блестяще обнаруженный Хейденом Уайтом факт наличия литературных приемов в творчестве Примо Леви поставил под вопрос множество догм, тяготеющих над дискуссией о литературных и художественных свидетельствах Катастрофы108108
Уайт X. Фигуральный реализм в свидетельской литературе // Отечественные записки. 2006. № 2. С. 262–275.
[Закрыть].
Метафорам театральности в дискурсах о Катастрофе следовало бы, впрочем, посвятить особое внимание. Они не столько приглушены (ведь им приходится сохранять свою оперативность), сколько заново обработаны: медиум театра проявляется в них в радикальных формах самоотрицания и трансгрессии. Театр в языковой метафоре открывает перспективу удивления, скандала и шока. Разграничительные линии устанавливаются тут принудительным способом (например, через требование сохранять пассивность по отношению к страданиям других людей), а не на основании некоего соглашения или хотя бы иллюзии такого соглашения. В то же самое время так обозначенные границы охватывают сферу действий, интерпретируемых как механические и нечеловеческие («машина уничтожения» – самая распространенная метафора, описывающая характер этого события109109
Ziębińska A. Metafora w funkcji poznawczej – doświadczenie Holokaustu // Studia Judaica. 3: 2000. Nr 1 (5). S. 53.
[Закрыть]). В конце концов вся действительность становится границей, нет возможности находиться вне ее, безотносительно позиции в хильберговском треугольнике.
Не механизмы сценической репрезентации и ее неполноценность находятся в центре этих метафор, но повторение как стихия театра, связанная с телесностью, насилием по отношению к зрителю, одноразовостью события. С помощью таких метафор театра, например, Хенрик Гринберг в «Еврейской войне» описывает, как он скрывался: описывает это как состояние постоянной импровизации, необходимости играть роль, которую не было времени выучить, как ощущение, что ты постоянно окружен зрителями, что ты постоянно у них на виду110110
Grynberg H. Żydowska wojna. Warszawa: Czytelnik, 1965.
[Закрыть].
Следует, таким образом, поставить вопрос, существует ли сходство между метафорами, служащими познанию и описанию травматических событий, с одной стороны, и с другой – реальными и исторически документированными изменениями в медиуме театра в условиях посттравматической культуры. Могли ли метафоры театра в его трансгрессивных формах записи реальных переживаний преобразить сам театр? И в то же самое время было ли понято и выявлено, что они несут часть ответственности за «дело» Катастрофы? Насколько дискурс о Катастрофе поддавал метафоры театра сильному этическому контролю, настолько медиум театра впитывал (без дисциплинирующего самоограничения) те же самые метафоры в виде конкретных переживаний. Единственным условием высвобождения трансгрессивной силы этих метафор в действии была старательная негоциация степени, в которой будут выявлены их исторические источники (должен ли зритель знать, о чем спектакль?).
2
Одним из самых удивительных свидетельств такой трансгрессивной обработки метафоры театра внутри самого переживания Катастрофы является фрагмент военного дневника Тадеуша Пайпера «Первые три месяца»111111
Peiper T. Pierwsze trzy miesiące. Pisma. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1991. T. 5
[Закрыть]. Это свидетельство – со многих точек зрения беспрецедентно. Ярослав Фазан в своей монографии, посвященной краковскому поэту, подверг этот текст проницательному анализу112112
Fazan J. Od metafory do urojenia. Próba patografii Tadeusza Peipera. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
[Закрыть]. Ситуация крайнего унижения, которую переживает Пайпер как еврей во время попытки бегства из Кракова на восток после вторжения в 1939 году немецких войск, представлена в его дневнике как театральный спектакль, который отмечен сложными режиссерскими стратегиями и неустойчивыми механизмами восприятия. Пайпер, которого на протяжении пути многократно задерживали немцы с вопросом, не является ли он евреем, всегда отвечает негативно, в согласии со своим внутренним ощущением полной ассимиляции и фактом полного разрыва связи с еврейской общиной. В определенный момент, однако, он решает признаться в своем еврейском происхождении, чтобы добровольно сыграть главную роль в зрелище унижения, испытать на себе насилие, проникнуть в его механизмы, узнать природу экзекуторов и свидетелей. «Добровольность», конечно, в этом случае условная, «сценическая», ведь факт ассимиляции не защищал евреев от нацистского насилия. Но Пайпер играет роль кого-то, кем, согласно самоощущению, не является, – роль, которую дали ему те, кто распоряжается новыми общественными сценариями. Можно также сказать, что он подчиняется искушению публично разыграть сам факт вытеснения, связанного с отвергаемой им самим еврейской идентификацией. Отдавая себя во власть экзекуторов, он вынужден выполнить унизительную работу, а потом раздеться, чтобы отдать свою одежду симпатичному нищему и надеть на себя его кишащие вшами лохмотья, однако жертва насилия начинает тут конкурировать с экзекуторами в вопросе контроля над ситуацией, отдавая себе отчет, что такая «наглость» влечет за собой угрозу эскалации насилия и даже угрозу жизни.
Пайпер заботится о том, чтобы в инсценированном и разыгранном переживании все было конкретно и осязаемо. Участие в «театральном событии» позиционируется в этом смысле выше, чем слышанные рассказы: «Но и теперь, когда я встречал евреев и слышал их рассказы, через что им довелось пройти, я находил в них общие места там, где по-моему, должен был быть как нельзя более выразительный рисунок. Я задавал вопросы и часто – подробные, нахальные, но рассказывающим они казались неважными, излишними, чуть ли не неприличными»113113
Peiper T. Pierwsze trzy miesiące… S. 212–213.
[Закрыть]. Пайпер же хочет пережить все, что кажется неважным, излишним и неприличным, что, как правило, оказывается исключено из свидетельства о пережитом унижении. И таким образом, во-первых, сценичность смыкается с непристойностью: включает ее в горизонт того, что открыто зрению и познанию. А во-вторых: театр не служит тут литературным формам репрезентации (драме), не иллюстрирует их, но дополняет их и переходит границы – так, как «инсценировка» Пайпера дополняла и выходила за рамки тех рассказов, что он слышал от встреченных им евреев. Только механизм театрального повторения (позволяющий «в первый раз» пережить, что такое быть евреем) дает Пайперу возможность идентифицировать ситуацию еврея «в гитлеровском режиме». «А меня в гитлеровских издевательствах, в таких преследованиях интересует каждая мелочь, которая может что-то значить, любое лицо, которое проливает на что-то свет, любое слово, через которое получает голос что-то спрятанное, любой смех, любой шаг, если они могут быть комментарием происходящего»114114
Ibid. S. 213.
[Закрыть]. Медиум театрального повторения позволяет, как, кажется, утверждает Пайпер, уловить смысл переживания, который слова уловить не могут. Пережить как раз то, что оставляет пробелы в повествовании. Театр становится для Пайпера способом сохранить переживание, которое иначе было бы утрачено.
Медиум театра используется Пайпером как инструмент против травмы. Пайпер стремится уберечься от ее аффективного, деструктивного действия, сохранить полноту сил познания и памяти. Он забегает вперед ожидаемому акту насилия, сам его провоцирует и аранжирует. Важен только сам акт осознанности: ведь события идут по сценарию, известному из многочисленных свидетельств публичного унижения евреев. Пайпер не оставляет возможности застать его врасплох (а как известно, состояние неподготовленности – это одно из условий травмы). Позиционируя себя как актера, он предотвращает ситуацию потери, ситуацию пропущенной встречи с Реальным. Хотя, конечно, все более сложно: театр, который привели в действие, чтобы травме противостоять, становится также театром, в котором травма полностью зрима. Действительно ли Пайпер перехватывает контроль над травматическим событием или просто позволяет уловить его в зримой полноте? Ведь травма приводит к тому, что собственный опыт переживается как опыт другого человека. Использованное таким образом, противоядие (дистанцирование по отношению к событию благодаря тому, что в сознании оно театрализуется) может быть прочитано как симптом (травматическая диссоциация сознания и события). Обнаруживает ли Пайпер в своем «отыгрывании еврея» просто-напросто театральный, диссоциативный принцип, на котором основана травма, или же, прибегая к метафоре театра, открывает перспективу, где два субъекта – наблюдающий и отыгрывающий – соединяются?
Результат такого манипулирования сознанием – это фантазматичность события, избыточная зримость, неослабевающее ощущение собственного присутствия в рамках события. Собственная пассивность позволяет полностью ассимилировать переживание. Но существует ли его запись – в памяти, теле, литературе?
Писатель уже в то время обнаруживал, как объясняет Ярослав Фазан, признаки психоза. Может быть, именно психотические механизмы, связанная с ними невозможность генерировать символические формы репрезентации позволили ему обнаружить в дневнике шокирующую нас сценичность описываемого акта насилия. Психозу не известно вытеснение, не известна утрата. Театральные метафоры, таким образом, в рассказе Пайпера не затушевываются; они работают на полных парах, трансгрессивно помещая сам медиум театра в самую действительность. Более того, они перестают быть метафорами, они конструируют поле опыта, которое психотическим субъектом ощущается абсолютно буквально, как составляющее стержень его существования. В результате психотический субъект «становится уверен, что все происходящее – происходит именно по отношению к нему, значение реализуется постольку, поскольку он сам оказывается в него включен и поскольку он его перерабатывает. На нем, как на Мастере означающего, лежит обязанность заново скомпоновать, оживить загнивающий мир […]»115115
Iwanczewska Ł. Samoprezentacje. Sade i Witkacy. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2010. S. 32.
[Закрыть]. И далее: «[…] субъект организует мир, и все, каждое событие, в ту же самую минуту достраивается до этой конструкции мира»116116
Ibid. S. 36.
[Закрыть].
Актеры являются тут одновременно и зрителями, а зрители – имеют влияние на ход всего спектакля. Экзекуторы оказываются лишены привилегии полного обзора событий. Для Пайпера именно зрительный зал становится сценой: с позиции собственной пассивности он жаждет увидеть и зарегистрировать мельчайшие зрительские реакции. Как мы помним, Якуб Гольд в романе Брандыса не видел окружающих его на улице прохожих. Треугольник ролей «экзекутор – жертва – свидетель» в рассказе Пайпера никак не удастся стабильно распределить в схеме театральных функций «режиссер – актер – зритель». Как раз взаимозаменяемость, динамичность функций позволяет Пайперу провести эпистемологический эксперимент: в этой сцене он является и режиссером, и актером, и зрителем. Находится тут место и для открытой игры с публикой. Это публика находится в центре события, это она становится зрелищем для актера, исполняющего главную роль. Пайпер выявляет конфликт позиций в среде собравшихся ротозеев: он знает, что он может пристыдить антисемитски настроенную часть публики и завоевать солидарность тех зрителей, которые ему сочувствуют, усилить в них активную позицию, разбудить дух борьбы. Спектакль в определенной степени режиссируется уже в процессе игры. Театр поставляет инструменты идентификации нового опыта и одновременно под влиянием этого опыта меняется и сам: все, что происходит, он впитывает.
Пайпер идет еще дальше: уничтожает миф жертвенности, в рамках которого действует вполне сознательно. Со знанием дела он привлекает коды польского романтического театра, чтобы затем изничтожить их в процессе своего театрального эксперимента: «Я вспоминаю Стойкого Принца, который ради верности своей идее был вынужден отбывать насильственно навязанные ему работы и страдал при этом не только физически. Я не страдаю. Ни на секунду не чувствую себя униженным. Ради идеи эксперимента, который я хочу произвести, я готов перенести гораздо большее»117117
Peiper T. Pierwsze trzy miesiące… S. 216.
[Закрыть]. Зрелище страдания оказывается сдвинуто за границы парадигмы польского романтического театра. Пайпер изнутри травматического события формулирует важное для послевоенного польского театра подозрение, что символика жертвы не в состоянии объять собой и упорядочить новый опыт чрезмерной видимости страдания.
Рассказ Пайпера принадлежит к свидетельствам исключительным, своего рода скандальным (хотя бы из‐за того, что он не взывает к эмпатии по отношению к спектаклю унижения). Пайпер переносит акты унижения и насилия и в то же время анализирует собственное переживание, формулирует фантазм и все время продолжает настаивать на его реальности. Границы между ситуацией непосредственного переживания, ситуацией свидетельствования и театральной ситуацией оказываются стерты.
Ситуации крайнего унижения, феномены пассивности, похожие на те, что описаны у Пайпера, оказались в центре спектаклей Кантора и Гротовского118118
В качестве примера может послужить хеппенинг Кантора «Встреча с носорогом Дюрера», осуществленный в Нюрнберге в 1968 году: во время него художник в публичном месте – в кафе – на глазах гостей и ротозеев, собравшихся за окнами, в разговоре со своим собеседником (человеком-носорогом) использовал методические жесты насилия, разрезал и раздирал на нем одежду. А в спектакле «Этюд о Гамлете», осуществленном в опольском «Театре 13 рядов» в 1964 году, Гротовский ссылался на травматический (и поэтому полностью вытесненный) образ польских солдат (участников Варшавского восстания), унижающих еврея и издевающихся над ним.
[Закрыть], а трансгрессивные метафоры театра формировали их механизмы реального восприятия. Оба художника абсолютно отдавали себе отчет, из сферы какого конкретного исторического опыта они берут модели для своих спектаклей. Оба ощущали этот факт как трансгрессию этических и культурных норм, рискованную игру с вытесненным коллективным опытом. Отсюда в комментариях к своим собственным спектаклям оба художника так часто прибегают к определениям, имеющим отношение к табу, стыду, трансгрессии, скандалу, шоку, стрессу. Оба использовали аффективную силу образа крайне униженного человека, чтобы нанести публике удар (стратегия Пайпера!), и более того – не скрывали исторических источников этого образа (хотя и должны были рассчитывать на то, что публика находится под воздействием процессов вытеснения и забвения).
В первый раз постулат «бедного театра» был отчетливого сформулирован Гротовским тогда, когда он работал над «Акрополем» (1962). А манифест «Театра Смерти» Кантора возник в процессе реализации «Умершего класса» (1975). В обоих спектаклях отсылки к уничтожению евреев были видимы с шокирующей силой, хотя в то же самое время публика была склонна их не прочитывать119119
Образы концлагеря Аушвиц в «Акрополе» читались критикой исключительно в универсалистской парадигме и подвергались сильной метафоризации; в то время как отчетливые ассоциации с событиями уничтожения евреев (экспонирование мотива библейского Иакова, визуальные и музыкальные аллюзии-подсказки) не стали предметом интереса и анализа. Подобным же образом польская критика, писавшая об «Умершем классе» старалась прибегать к метафорам и универсалистским обобщениям относительно содержащихся в нем образов и мотивов; даже Тадеуш Ружевич в разговоре об «Умершем классе» на страницах «Диалога» (Puzyna K., Różewicz T., Wajda A. O «Umarłej klasie» // Dialog. 1977. Nr 2. S. 135–142) сводил роль еврейских мотивов к чему-то малозначащему.
[Закрыть]. Более того: игра с беспамятством зрителей входила, как мне представляется, в число стратегий обоих художников. Если бы картина была более насыщена исторической конкретикой, это бы разрушило ее аффективную силу. Понимание (или же «правильная» референциальность) было принесено в жертву усиленному действию аффектов. На первый взгляд – все наоборот, чем у Пайпера, который требовал полного самосознания, усиливал неповторимую историчность собственного переживания и ожидал политического воздействия. В этом смысле авангардный польский театр рождается на руинах метафоры, приведенной в действие Пайпером. Однако Пайпер ссылался также, как мы помним, на возможность «отыграть» то, что в пересказе было стерто или выброшено. Точно так как в концепции повторения, разработанной Делезом: «это непознанное знание должно быть представлено как заполняющее всю сцену, пропитывающее все составляющие пьесы, вбирающее в себя все силы природы и духа. Но в то же время герой не может себе это представить, он, напротив, должен обратить это в действие, сыграть, повторить»120120
Делез Ж. Различие и повторение… С. 28–29.
[Закрыть]. В своем отыгрывании еврея Пайпер борется уже за будущее – за принцип собственного присутствия в зримом для общества пространстве.
Театр, разыгранный как метафора в действии, возвращается в облике метонимии: разрыва в плотном поле дня сегодняшнего. Переход от метафоры к метонимии имеет свои конкретные исторические отсылки. Достаточно привести многочисленные рассказы евреев, которые во время войны скрывались и чье возвращение к явной жизни воспринималось как неожиданный и нежелательный инцидент. Метафора театра, использованная Пайпером, – это, таким образом, метонимический след действительности, отмеченной Катастрофой, модель неожиданного и нежелательного обнаружения себя в поле зрения. В этом смысле стратегия Пайпера – стратегия господства над своей судьбой – оказывается неэффективна: хотя он декларирует, что не страдает и не чувствует себя униженным, описанная им сцена всегда возвращается как событие боли и унижения. Нужно, однако, помнить, что метафора театра не устанавливает смысл внутри дискурса о Катастрофе. Она только создает иллюзию упорядочивания поля знания и поля зрения, поддавая их идеологическому контролю. Метонимия же связана с эффектом удивления, нежелательного присутствия – это инцидент, который нарушает поле зрения, а не упорядочивает его. Он инициирует активность аффекта. Образ, историчность которого была утрачена, вызывает шок. Метонимия – это присутствие в месте, где ожидалось отсутствие. Она противостоит идеологиям скорби. Она ставит вопрос о неочевидной связи между сегодня и вчера. Между спасением и Катастрофой. Если ей даже не дано устанавливать значения, как метафоре, она позволяет на что-то указать, она к чему-то отсылает121121
Джеймс Э. Янг полемизирует с постулатом этического запрета на использование метафоры в дискурсе о Холокосте, даже если метафоры (например, приравнивающие евреев к насекомым-паразитам) несут часть ответственности за Катастрофу. Во-первых, невозможно ввести такой запрет в ситуации, когда любое название (Холокост, Шоа, Churban Europa), даваемое этому событию, уже само по себе является метафорой. Во-вторых, метафоры не только фальсифицируют и позволяют «отводить глаза», но также делают возможным заметить «ошибку», на которой основано каждое метафорическое сопоставление двух несоответствующих друг другу понятий. Тем самым метафора делает возможным глубокую проработку языкового, фантазийного и символического материала, к которому мы прибегаем, говоря о Катастрофе. Она позволяет ставить под сомнение, осмеивать, пародировать неадекватные модели, навязываемые этому переживанию. В конце концов, поиск метафор Катастрофы в рамках ее реальности приводит метафоры к тому, чтобы они превратились в метонимии (Аушвиц в этом дискурсе – одновременно метафора и метонимия). Young J. E. Writing and Rewriting the Holocaust… Op. cit.
[Закрыть].
Элко Руния устанавливает сегодня парадигму новой историографии, основанной на метонимии: поскольку его занимает, как распределяется присутствие и отсутствие прошлого в переживании настоящего. Можно сказать, что польский послевоенный театр был полигоном таких взаимоотношений с прошлым. Основанных не на ощущении абсолютного разрыва и потере доступа к значениям, но на постоянно возобновляемом вопросе о смысле неожиданно обнаруживаемого присутствия – ощущаемого в публичном пространстве как присутствие нежелательное. Руния ссылается на роман Бальзака «Полковник Шабер»: «В этой истории – в которой можно найти квинтэссенцию метонимии – Шабер, считавшийся убитым в битве при Эйлау в 1807 и с тех пор „присутствующий в отсутствии“ только в качестве некоего имени – всплывает на поверхность в Париже времен Луи-Филиппа в качестве грязного, вонючего, неприятного, но очень живучего и очень осязаемого присутствия. Бальзак прилагает особые усилия, чтобы подчеркнуть контраст между ужасающим возвращением Шабера и принципом преемственности, которая с точки зрения закона обосновывает весь период. Полковник, который был похоронен в братской могиле и который выбрался на поверхность, используя „геркулесову“ кость в качестве рычага, – это метонимическая фистула, которая скрепляет остепенившуюся Реставрацию с grandeur et misère революционного периода, военных кампаний Наполеона и кошмара таких битв, как та, что была при Эйлау»122122
Runia E. Moved by the Past: Discontinuity and Historical Mutation. Columbia University Press, 2014. P. 81.
[Закрыть].
Театр для Гротовского и Кантора становился полем игры с переживанием присутствия: «возвращаются лишь те умершие, которых слишком быстро и слишком глубоко погребли»123123
Делез Ж. Указ. соч. С. 27.
[Закрыть]. Главным принципом «бедного театра» (так же как и «Театра Смерти») было вызывание у зрителей шока и потрясения, которые исторически как бы «опоздали», наступили с большой задержкой. Вопрос только – сменяли ли шок и потрясение давнишнее равнодушие или, наоборот, именно это равнодушие служило их причиной? Конфронтация с равнодушием становилась источником шока. Можно ли между равнодушием тогда и шоком сегодня перекинуть мостик, который свидетельствовал бы о подлинном усилии взглянуть в лицо прошлому? Или все, что остается, – это бесконечно отыгрывать метонимические прыжки в сценическом поле зрения?
Лоренс Л. Лангер124124
Langer L. L. Holocaust Testimonies: the Ruins of Memory. New Haven; London: Yale University Press, 1991.
[Закрыть] обращает внимание на то, как трудно реципиентам преодолеть свое желание включить свидетельства жертв Катастрофы в сеть своих собственных понятий, переживаний, ценностей. Он пишет, однако, о том, что невозможно было бы ассимилировать тот язык свидетельств, который ставит под вопрос и выставляет в смешном свете героический лексикон и не позволяет вписать себя ни в какие героические нарративы. Не позволяет также перекинуть мостик между прошлым и настоящим. Поэтому прошлое ощущается как нечто, что находится «рядом», а не «перед» настоящим – как нечто вроде другой сцены и другой идентичности. Эта другая идентичность, другое «я» говорит голосом, который не соблюдает норм сегодняшнего мира. Лангер в своем анализе свидетельств прибегает к понятию импровизирующего «я», которое воспроизводит историю своего спасения ценой высвобождения от требований того языка, который в данный момент признан общепринятым. Он ссылается на карнавальные и комедийные концепции театральности, в рамках которых актеры могут действовать вне культурной цензуры, обнаруживать аморальную живучесть в драме выживания. Спасшийся – это, скорее, комедиант, чем актер трагического зрелища. Особенно в театре, в котором главенствует принцип повторения, центральным событием которого становится метонимическая ситуация появления еврея. Эта разновидность комизма должна была поразить каждого зрителя «Акрополя» Гротовского или «Умершего класса» Кантора. Чтобы приносящий свидетельство мог выстроить либидинальную связь с тем «я», которому он обязан жизнью, он должен на время отменить те механизмы самооценки, которые зависят от общепринятого языка, которым он заново научился пользоваться. Особенно же весь лексикон, связанный с преображением, спасением, избавлением, воскресением оказывается на этой сцене борьбы за существование лишенным смысла, абсурдным. Процесс приношения свидетельств сопровождается постоянной фрустрацией рассказывающего именно потому, что никакая публика не в состоянии понять и принять этого рассказа. Лангер свои размышления заканчивает выводом, что на этой другой сцене связь между субъектной позицией и переживанием судьбы оказывается полностью разорвана. Также и сама категория «судьбы», «предназначения» полностью теряет смысл. Таким образом, ничего удивительного в том, что еврейский опыт Катастрофы воспринимался как угроза для языка, связывающего воедино польскую культуру.








































