Читать книгу "Польский театр Катастрофы"
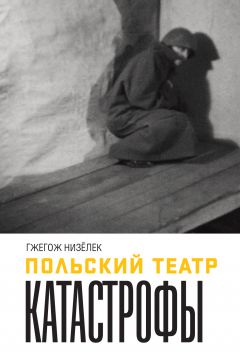
Автор книги: Гжегож Низёлек
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Фрейд, вслед за Оскаром Фистером, указывает, что силуэт коршуна можно увидеть в композиции одного из больших цветовых пятен (его создает фрагмент одежды Марии). Картина религиозного содержания, таким образом, содержит в себе сильный след памяти, который все еще присутствует на поверхности, полностью видим, а в то же время существует на границе видимого. Этот след памяти становится различим только тогда, когда мы изменим саму парадигму нашего взгляда. Только изменение стратегии общения с картиной (чтения ее как текста, ребуса, как монтажа гетерогенных представлений, как поверхности, а не иллюзионной глубины) позволило Фрейду расширить возможности ви́дения произведения живописи, которое становилось в его интерпретации записью сложной либидинальной генеалогии субъекта. Такого рода гетерогенный монтаж, какой Фрейд нашел в произведении Леонардо да Винчи, – это след не только забытого содержания, но и след забытого процесса забывания.
Сложная генеалогия картины указывает как на страдание (связанное с потерей одной из матерей), так и на потребность разрешить внутренний конфликт (который проистекает из того факта, что первая мать была забыта) и представления его в гармоническом, лишенном конфликтности образе двух святых женщин. Каждая религиозная картина, как утверждает Лиотар, стабилизирует энергию либидо в форме постоянных диспозитивов. «Блаженной улыбкой святой Анны художник, казалось бы, отвергал и маскировал зависть, испытываемую этой несчастной, вынужденной уступить знатной сопернице ранее мужа, а теперь и сына»177177
Там же. С. 200.
[Закрыть], – пишет Фрейд. Новый опыт ви́дения пульсирует между двумя возможностями: проявлением генеалогии вины и перспективой полного удовлетворения психических потребностей. Эта разновидность двойного ви́дения формировала и театральные события, о которых я говорил.
Розалинда Краусс, говоря об оптическом бессознательном, трактует фигуру коршуна как ready-made – предмет, который бессознательное отыскало, чтобы создавать помехи в поле зрения и в то же время создавать его заново. В сущности, он не мешает смотреть, а является условием смотрения. Он – след травматического переживания, которое искусство переработало в образе двух матерей, трогательно заботящихся об одном ребенке. Уточнение Краусс тут очень важно, поскольку оно включает во фрейдовскую теорию образа теорию следа, взятого в материальной перспективе: т. е. трактуемого как нечто остаточное. Такого рода эпифании и пространственные метонимические структуры находятся у истоков создания театральных пространств, имеющих отношение к представлениям об историческом катаклизме, памяти о нем и его переживании.
Без оплакивания
Вернемся к теме шока и равнодушия, травмы и глупости, к неразрешимым вопросам, касающимся польской реакции на уничтожение евреев. Пора верифицировать некоторые исходные позиции. Арендт писала о глупости немецкого общества, которое оказалось неспособным вчувствоваться в то, что переживает другой человек. Ситуация польских наблюдателей была, однако, другой: нужно учесть натиск всего того, что находилось вполне в поле зрения и что было в состоянии нарушить (хотя бы в очень запоздалой реакции) безучастие, имевшее столь сильные социальные корни, – но нарушить необязательно в позитивном, эмпатическом смысле. Джеффри Хартман вслед за Саулом Фридлендером утверждает: «даже как прохожие – как посторонние наблюдатели, как во время самого события, так и пятьдесят лет спустя – мы переживаем что-то вроде травмы, разрыва в том, как обычно мы думаем о человечности и цивилизованной природе; этот разрыв требует больше времени для своего исцеления»178178
Hartman G. H. The Longest Shadow. In the Aftermath of the Holocaust. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1996. P. 39.
[Закрыть]. Я бы тут подчеркнул определение «что-то вроде», которое старается сохранить дифференциацию переживания жертвы и наблюдателя, но в то же самое время ее стирает. Описанный Брандысом в «Самсоне» уличный инцидент, неожиданно столь хорошо зримый, превратился в некую тайну, разделяемую «анонимными телами»: она записана в их памяти как нечто, исключенное из социальной коммуникации. Ведь отсутствие помощи не означало отсутствие реакции. Равнодушие приобретало формы как агрессивные, так и трусливые. Но было ли оно травматическим переживанием? Или только «чем-то вроде» травматического переживания? Переживание «размозженной жизни» еще не составляет общности судеб, – как трезво диагностировал Ежи Едлицкий: «прежде чем это наступит, возникают отгороженные друг от друга „исключающие друг друга миры“, разнящиеся в своих правах на жизнь и на смерть»179179
Jedlicki J. Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczone // Dzieło literackie jako źródło historyczne. Red. Zofa Stefanowska, Janusz Sławiński. Warszaw: Czytelnik, 1978. S. 346.
[Закрыть]. Зрелище доходящих до крайности чужих мучений, мучений уже не человеческих, а таких, которые воспринимаются как мучения животного, уничтожает какое-либо «мы», уничтожает иллюзию сообщества, «человечества», – объясняла в своей последней книге Сьюзен Сонтаг180180
Сонтаг C. Смотрим на чужие страдания. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 9–10.
[Закрыть]. Если только, повинуясь защитному рефлексу, мы не сошлемся на фигуру театра и не присвоим чужому страданию статус недоступной нам «сценичности».
Сходно и мнение Джудит Батлер: осознание хрупкости человеческого бытия она трактует не как фундаментальный и непререкаемый принцип человечности, а скорее как постулат, политический проект – для тех периодов, когда страдания, причиняемые другим людям, оказываются на виду. Она напоминает о предостережении Гегеля и Мелани Кляйн: «констатация чей-то хрупкости приводит к росту насилия; понимание физической уязвимости данной группы „иных“ возбуждает желание их уничтожить»181181
Butler J. Frames of War: When Is Life Grievable? London: Verso, 2009. P. 2.
[Закрыть]. Батлер, с одной стороны, говорит, что существует возможность – с помощью аффекта (когда ты оказываешься поражен хрупкостью человеческого бытия) – расшатать монолитность идеологии, с другой же – показывает, каким образом идеологии контролируют и ограничивают возможности аффективного переживания. Массовая продукция смерти влечет за собой особое распределение в сфере оплакивания: требует признания факта, что жизнь определенных популяций не является в полной мере жизнью человеческой и их смерть не накладывает на нас обязанности их оплакать. Тем самым граница между человеком живым и человеком мертвым оказывается стерта или смещена. Батлер, в связи с этим, рассматривает возможность аффективного переживания страданий и смерти других людей как форму политической проработки своего собственного фундамента, а не как данную нам естественным образом способность чувствования.
Так или иначе, равнодушие (моральное, ментальное или практическое, означающее отказ что-либо предпринять) вкупе с агрессией по отношению к полностью беззащитным жертвам массового и организованного насилия – это аффект, который трудно принять и проработать, собственно говоря – аффект, исключающий процессы оплакивания. Оплакивание ведь должно предполагать чувство утраты, а в случае польского опыта следовало бы зачастую говорить, скорее, о – с трудом находящем себе разрядку – избытке аффектов, которые работали на то, чтобы уничтожение евреев не рассматривалось в категориях утраты (подчас так происходило даже в случае свидетелей, выказывающих сочувствие). Феликс Тых182182
Tych F. Długi cień Zagłady. Szkice historyczne. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 1999. S. 44.
[Закрыть] обращал внимание, что параллельно с ростом волны уничтожения евреев усиливалось и агрессивное отношение по отношению к ним в польском обществе, что, быть может, частично было связано с ощущением бессилия, но мотивировалось и другими раздражителями (безнаказанность, материальные выгоды, глупость, укоренившиеся дискриминационные позиции, социальная зависть). То, насколько евреи во время Катастрофы оказались в социальном пространстве на виду, часто ощущалось в категориях некоего избытка, некоего неудобства, некой проблемы; их исчезновение, таким образом, высвобождало не ощущение утраты и недостатка, а скорее ощущение возвращения равновесия, успокоения, избавления от чего-то лишнего и обременительного. Этот механизм действовал и позже. Его действие испытали на себе евреи, которые выжили и после войны пытались вернуться в собственные дома. А почти каждый польский фильм о Катастрофе провоцировал вопрос: зачем еще раз об этом говорить? Зачем еще раз это показывать?183183
См.: Preizner J. Kamienie na macewie. Holokaust w polskim kinie. Kraków; Budapeszt: Wydawnictwo Austeria, 2012.
[Закрыть]
Культурные и политические проекты «решения еврейского вопроса» (направленные на то, чтобы или ассимилировать, или выгнать, или уничтожить евреев) задействовали как раз представление о переизбытке, эксцессе, излишке. Поэтому как категория оплакивания, так и категория меланхолии стараются ввести определенного рода политическую корректность в сферу всегда политически некорректной либидинальной экономики первичных процессов, о которых писал Лиотар. Поэтому средства общественного убеждения, чьей риторической фигурой является понятие «соседей» (т. е. людей нам близких, таких же, как мы, достойных, чтобы их оплакать), распадается от столкновения со все еще живыми фантазматическими представлениями о евреях, нарушающими состояние вожделенного либидинального равновесия. Периоды усиленной памяти о Катастрофе поддаются описанию не столько с помощью понятия оплакивания, сколько с помощью понятия либидинального эксцесса. Нежелательного напоминания, которое мобилизует коллективный нарциссизм, способный вобрать в себя небезопасный избыток агрессивного коллективного либидо. Глубоким знатоком этих механизмов был в польской послевоенной культуре Ежи Гротовский. Ведь только медиум театра позволял обнаружить сложность этих процессов.
Объектом травматизирующего страха стала, как следствие, сама возможность осознать факт забвения (а не содержание забытых образов). Дошло до парадоксальной ситуации: запомненные образы оказались использованы в иных контекстах памяти, а какое бы то ни было обвинение в забвении с гневом отвергалось. Когда тема уничтожения евреев поднималась в соответствующем этому событию историческом контексте, с привлечением сопряженных с ним образов, это часто вызывало как раз ощущение избытка, пресыщения, излишества. Мы это уже видели, мы это знаем, какой смысл говорить об этом еще раз – так звучала реакция публики. Хотя, с другой стороны, внезапная эрупция коллективной энергии охотно включалась в процесс конструирования нарратива о «трагическом» опыте этого человеческого коллектива. Опять следует тут сослаться на Гротовского, который вернул польскому и европейскому театру шокирующие формы трагического зрелища – ценой признания общественной амнезии184184
См. главу «Демонтаж акта смотрения».
[Закрыть].
О формах распределения оплакивания Батлер пишет, что не каждая смерть, находящаяся в поле зрения общества, вызывает потребность ее оплакать. Батлер не ставит, однако, вопрос, является ли запоздалый траур все еще трауром, или же общественным событием «воздаяния должного», или даже идентификационным процессом совсем другого либидинального характера. Хотя, быть может, она вообще исходит из предположения, что «оплакивание» является одной из создаваемых нами «фикций». Что не лишает его, однако, политической эффективности; как раз пространство оплакивания становится тем местом, которому радикальным образом навязывается пространство символическое (так Батлер интерпретирует «Антигону» Софокла185185
Butler J. Antigone’s Claim: Kinship between Life and Death. New York: Columbia University Press, 2000.
[Закрыть]). Будучи исключенной, форма оплакивания требует деформации значений в рамках данной культуры, пользуется формами катахрезы. Поэтому не следует утешать себя фактами запоздалого оплакивания, скорее стоит присмотреться к тому, каким именно образом оно оказывается излишним. В 1986 году Анджей Вайда поставил в Старом театре «Диббука» Шимона Анского. Предполагалось, что спектакль станет как раз чем-то вроде запоздалого оплакивания: еще во время предпремьерного показа актеры в финале появлялись с зажженными свечами. Вайда, однако, быстро этот финал убрал, он должен был заметить его фальшь – не столько даже фальшь своего замысла (нет никакого повода приписывать его художнику, который с момента своего дебюта в 1955 году так остро воспринимал вопрос памяти о Катастрофе), сколько фальшь, обнаружившуюся в процессе восприятия спектакля. Те, кто понимал, почему польскую публику призывают к оплакиванию, осознавал и то, что тот ритуал, который предлагает спектакль, неадекватен размеру и характеру смерти, которую предполагается таким образом оплакать. В свою очередь те, кто призыв к оплакиванию трактовал как ненужный и не по адресу, видели в жесте Вайды только форму политической конъюнктуры, связанной с «приуроченной к дате траурной функцией спектакля». Почти двадцать лет спустя «Диббука» поставил Кшиштоф Варликовский; он также поместил драму Анского в рамки вопроса о том, как поляки помнят о Катастрофе. Вряд ли, однако, можно сказать, что он призывал публику к оплакиванию. Как раз наоборот: он, скорее, пользовался стратегией «распри», провоцировал беспокойство, склонял к пересмотру собственной идентификации, требовал смириться с избытком переживаний.
Еще раз Батлер: «Наш аффект – никогда не принадлежит только нам: аффект, с самого начала, передан нам откуда-то. Он предрасполагает нас воспринимать мир определенным образом, определенные измерения этого мира пропускать внутрь, а другим – оказывать сопротивление. Но если реакция – это всегда реакция на воспринятое состояние мира, что позволяет определенному аспекту мира стать воспринимаемым, а другому – нет? Как нам найти новый подход к вопросу аффективной реакции и моральной оценки по отношению к уже действующим оперативным системам, внутри которых определенные жизни рассматриваются как заслуживающие защиты, в то время как другие нет, как раз потому, что они не вполне „жизни“ согласно превалирующим нормам идентификации? Аффект зависит от социальной поддержки чувствования: чувство пробуждается в нас только по отношению к той потере, которую мы способны воспринять – то есть к такой, которая зависит от социальных структур восприятия…»186186
Butler J. Op. cit. P. 50.
[Закрыть]
Поэтому, как представляется, бинарные модели оплакивания и меланхолии абсолютно не работают в качестве инструмента анализа аффективных событий, какие без сомнения имели место в польском обществе в связи с Катастрофой. Выражусь еще определеннее: оплакивание и меланхолия принадлежат к симуляционным стратегиям послевоенной польской культуры, поскольку, в общем и целом, создают приукрашенные картины – именно потому к ним стоит присматриваться с особым недоверием. Польская театральная культура привыкла на ритуальных моделях оплакивания создавать свои собственные идеологии. Например, красивый и меланхолический образ еврейского кладбища, который создала Кристина Захватович на сцене Старого театра в «Диббуке», часто после поднятия занавеса удостаивался аплодисментов со стороны публики. Вполне возможно, однако, что эта бросающаяся в глаза красота визуального образа маскировала страх создателей спектакля перед тем, что зритель может быть настроен враждебно или равнодушно по отношению к воспроизводимому на сцене еврейскому миру. Восхищение позволило бы обезоружить такое нежелательное отношение. Вайда читал пьесу Анского как «еврейские „Дзяды“»; начало спектакля отсылало к инсценировке драмы Мицкевича, которую создал в 1901 году Станислав Выспянский. Приведу еще один пример из театра Кантора. Вписывание «Умершего класса» в парадигму романтической традиции, особенно модели театра «Дзядов» с присущими ему ритуалом и оплакиванием, глубоко искажают образ этого спектакля (а также его аффективное действие, чаще всего определяемого зрителями как шок), даже если сам Кантор в более поздних своих спектаклях вполне успешно встроил собственный театр в традицию романтических ритуалов оплакивания.
Польский театр, возможно, как никакая другая область художественного творчества, стал пространством мощных деклараций, касающихся коллективной памяти. На одном полюсе находится, таким образом, декларация полной и абсолютной памяти: мы – общество, прошедшее через тяжелые исторические испытания; мы помним все; прошлое, особенно прошлое травматическое, всем нам хорошо известно; задача театра – передать от поколения к поколению все, что накопила коллективная память. Что означает, что мы – общество, всегда готовое к оплакиванию. На другом полюсе, однако, появляется обвинительный диагноз абсолютной амнезии: мы не помним ничего; прошлое стало для нас загадкой, поскольку нам удобнее не помнить. Значит, нашим предназначением является вечная меланхолия. Рамки общественного самосознания в обоих случаях (общества оплакивания и общества меланхолии) являются условием безустанного провоцирования катарсиса, шока, потрясения. Можно сказать так: это идеологический трюк, который гарантирует либидинальное движение в сообществе зрителей, понимаемом как социальный микрокосм национального сообщества. И подтверждает он всегда одно и то же переживание общности: как в области абсолютной памяти, так и в области абсолютной амнезии. Обе идеологические модели имеют свое историческое и трансисторическое измерение, обе уже оказались зарегистрированы в рамках романтической традиции и многократно возобновлялись. Обе парализуют работу памяти, основанную на познавании истории. Или мы помним «все», или же не помним «ничего». Теория общественной амнезии касается ведь некоего «целого», которое более чем известно также и тем, кто «все» забыл – и которое на самом деле призвано не активизировать память, а лишь безустанно мобилизовывать ощущение общности, кроме всего прочего – благодаря неопределенному чувству вины.
Тему потерянной возможности оплакивания (и последствия этого факта для театра как медиума оплакивания) глубже всего, пожалуй, уловил Тадеуш Ружевич в «Естественном приросте». Опубликованная в 1966 году драма посвящена критическому рассмотрению послевоенных стратегий забывания. Исходную ситуацию отказа от идеи написать комедию можно прочитать как невозможность дальше поддерживать состояние постулированного беспамятства в качестве условия социальной активности. Дух времени, объясняет Ружевич, требует чего-то другого. Персонаж, исполняющий в пьесе функцию рассказчика, называет себя «обитателем самого большого кладбища в истории человечества»187187
Ружевич Т. Прерываемый акт. Естественный прирост // Современная драматургия. 1993. № 1. С. 165.
[Закрыть]. Это одновременно и глубокая правда, и просто красивая фраза – идеологические усилия государства и разнообразные произведения киноискусства, литературы и театра укрепляли такого рода индивидуальные и коллективные самоопределения, но в то же время все слишком индивидуализированные исторические свидетельства подвергались чуткому идеологическому контролю на протяжении всего периода с 1945 по 1989 год. Призыв помнить, проистекающий из самого факта обитания на «самом большом кладбище в истории человечества», приобретает в тексте Ружевича поразительный оборот.
Преследующим воображение художника визуальным образом является нарастание человеческой массы, усиливающаяся теснота. В купе вагона входит все больше и больше людей. «Старики, женщины и дети»188188
Там же. С. 166.
[Закрыть]. Цивилизованные формы поведения трещат по швам. «Живая масса в замкнутом пространстве так стиснута, что начинает кипеть»189189
Там же.
[Закрыть]. Ружевич интерпретирует представленный образ как метафору неконтролируемого естественного прироста, как апокалиптическое видение приближающегося будущего. Однако оперирует он вполне конкретным визуальным образом, связанным не столько с фактом массовой продукции жизни, сколько массовой продукции смерти: это люди, стиснутые в поездах, везущих их в лагеря смерти, люди, которых затолкали в газовые камеры. Апокалипсис будущего основан на образах апокалипсиса, который уже имел место как раз тут, на «самом большом кладбище в истории человечества». Векторы времени можно менять в этом случае постольку, поскольку Ружевич создает картину избытка жизни – как жизни излишней, массовой ее продукции, жизни, лишенной ценности. Жизни, недостойной оплакивания, о чем как раз писала Батлер.
Переживание утраты преобразуется, таким образом, в переживание избытка, а значит, не может быть речи о процессе оплакивания. Травматическое событие остается недоступным сознанию в своем историческом измерении (оно не прочитывается как нечто, что уже произошло). То, что сообщено явно, – это желание писателя выразить апокалиптический страх перед демографическим взрывом190190
Абъектность образов смерти и рождения в творчестве Ружевича взаимозаменяемы, на что когда-то обратил внимание Хельмут Кайзар (Kajzar H. Kara śmieszności, czyli tłumaczenie «Śmiesznego staruszka» // Kajzar H. Sztuki i eseje. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, 1976. S. 209–213).
[Закрыть]. Этот страх питается, однако – потайным образом – прошлым. Можно сказать, что образы разрушения насыщаются живучестью. Вместо оплакивания мы имеем тут другое переживание, которое трудно уловить и артикулировать. «Паузы в моих пьесах заполнены мыслями анонимного жителя большого города, анонима, живущего в метрополии, анонима, жизнь которого развивалась между гигантским некрополем и постоянно растущим полисом»191191
Ружевич Т. Указ. соч. С. 169.
[Закрыть]. Мы не получим, однако, никакой возможности вглядеться в то переживание, которое появляется на месте оплакивания и вместо оплакивания.
Следом, который выводит нас на то, что оказалось покрыто молчанием (не только сценическим, но и общественным), может быть сцена из «Лорда Джима», «любимой» книги Ружевича во времена оккупации – она процитирована в финальной части «Естественного прироста». Это инцидент в суде, на выходе из зала заседаний, когда услышанные случайно слова о «паршивой собаке» Джим прочитывает как адресованное ему оскорбление («Вы ко мне обратились?»). Мы помним, что виной Джима, которая привела его в суд, было то, что он убежал с тонущего корабля, бросил пассажиров на верную гибель, отказал им в помощи и в каком бы то ни было участии в их судьбе. Эти люди – паломники-малайцы – были для Джима всего лишь массой, сборищем, анонимной и чужой толпой, которую Джим в минуту катастрофы признал обреченной на гибель – толпой, которой ничем нельзя было помочь. Уже в начале романа о них говорится, как о «скоте». По какой-то причине Ружевич оказывается не способен этот опыт, состоящий из элементов скорби, тревоги, вины, молчания и равнодушия, сложить в некое связное драматическое целое. Он прибегает, таким образом, к демонтированию: складывает образы, цитаты, формулирует сомнения. Обнаруживает и в то же время прячет исторический источник того опыта, о котором хотел бы написать.
Единственной надеждой – раз драму написать оказывается невозможно – оказывается театр как место действия, художественного акта, опирающегося на творчество ряда людей: «…я один и вынужден писать литературное произведение, описывать то, что легче было бы сообщить в непосредственном общении с живыми людьми»192192
Ружевич Т. Указ. соч. С. 165.
[Закрыть]. «Пожалуй, в первый раз – с того времени, как я пишу „театральные пьесы“, – я чувствую такую большую потребность разговора с режиссером, сценографом, композитором, актерами… с целым театром»193193
Там же.
[Закрыть]. Театр для Ружевича перестает быть местом, предназначенным для спектаклей (для постановки драм), он становится местом циркуляции и обмена пережитым, местом повторения, разыгрывания чего-то такого, на чем лежит печать всеобщего молчания. Театр существует взамен ритуала коллективного оплакивания. Он допускает формы дефектные, покалеченные, неполные или просто нетождественные каким бы то ни было культурным образцам. Театр – это одновременно и жизненный процесс, и пространство, где демонтируются существующие символические структуры.
Проект, представленный Ружевичем в «Естественном приросте», по сути, не был утопическим, театр в послевоенной Польше снова и снова его реализовывал. Ружевич прекрасно понимал потенциал театра как места полуявных и полутайных негоциаций, обмена пережитым, циркуляции индивидуальных свидетельств и коллективной энергии, работы сознания и подсознания. Он не столько проектировал новую форму театра, сколько давал понять, на чем основана исключительность этого медиума в действительности после Катастрофы.








































