Читать книгу "Польский театр Катастрофы"
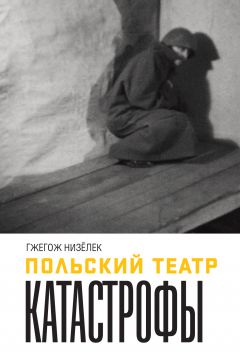
Автор книги: Гжегож Низёлек
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Спустя годы эту ситуацию свидетеля в спектакле Кантора старался передать Тадеуш Квятковский, один из зрителей оккупационного «Возвращения Одиссея». Я процитирую большой фрагмент его рассказа в том виде, в каком он записан на магнитофонной ленте, со всеми моментами сомнений и паузами, синтаксическими ошибками. Свое воспоминание Квятковский адресовал непосредственно Кантору, дело происходило в краковской галерее «Кшиштофоры», тридцать один год спустя после премьеры «Возвращения Одиссея»: «Этот театр, несмотря на твои, как ты это называешь, принципы, и так далее и так далее, он вышел из какого-то подсознания и он был адекватен той действительности, которая была безумно реалистичной и безумно сюрреалистичной, но не абстрактной. Где под забором находили убитого человека, который был какой-то бесформенной массой, так ведь, где мы привыкли до войны, что люди умирают, так ведь, как-то в постели или в больнице. Как-то безумно патетично. Так ведь, со свечами… А тут человек на улице, убитый, был какой-то грудой лохмотьев, был каким-то реквизитом, предметом… Этим Одиссеем. Который сидел без движения, так ведь… который… Когда этого человека перевернешь, то видишь его лицо. Это человек. И это…. Это… это нечто было в нас…»141141
Żywa dokumentacja – 20 lat rozwoju Teatru Cricot 2, неавторизованная запись встречи в галерее «Кшиштофоры», Краков, 1976, магнитофонная лента II, с. 6.
[Закрыть]
Тут действует не процесс символизации реальных переживаний, не принцип репрезентации, а принцип повторения аффекта. Похожим образом пишет об этом Кантор. Шок, связанный с тем, что видишь человеческое лицо в чем-то, что кажется «бесформенной массой», мы находим и в авторской партитуре спектакля: «Одиссей, повернутый спиной, согбенный, представляет собой молчащую, бесформенную и неподвижную фигуру, сливающуюся с другими предметами. Пастух напрасно адресует свою речь этому „чему-то“, все более и более проявляя беспокойство. Это „что-то“ становится все более и более неведомым. Отсутствие ответа и молчание поражают. И вдруг на слове „Троя“ появляется человеческое лицо над этой бесформенной массой. Одиссей позволяет Пастуху себя узнать»142142
Kantor T. Powrót Odysa. Partytura sztuki Stanisława Wyspiańskiego «Powrót Odysa» Teatr Podziemny 1944 rok // Kantor T. Metamorfozy. Teksty o latach 1934–1974. Pisma. T. 1. Red. Krzysztof Pleśniarowicz. Wrocław; Kraków: Ossolineum, Cricoteka, 2005. S. 88.
[Закрыть].


Я представил две записи одной и той же начальной сцены спектакля. Вторая принадлежит его создателю и отражает автономную реальность спектакля, проектируя, однако, ожидаемую реакцию шока также со стороны зрителя, открываясь на предвидимый в этом моменте аффект. Первая запись запечатлевает воспоминание зрителя, идентифицирующего в спектакле собственное переживание и помещающего спектакль в рамки этого переживания. Но Квятковский также приписывает спектаклю силу осознания зрителем его собственной позиции как свидетеля чужой смерти; будучи частью публики, он не отрывает процесс, который привел в движение Кантор, от исторического, реального переживания. Он точно описывает момент, в котором «бесформенная масса» обретает лицо, становится человеком. Безучастный наблюдатель становится шокированным свидетелем. Шок действует в обоих направлениях: на самом деле, он и становится возможным благодаря тому, что этот особенный акт смотрения может быть перенаправлен. Нечто бесформенное становится человеком, человек становится чем-то бесформенным. Шок появляется в перспективе постоянно присутствующей возможности принятия позиции равнодушия. Равнодушие диалектически становится условием шока, оно предшествует ему и наступает после него. Этот момент пробуждения в зрителе сознания свидетеля при одновременном поддержании того впечатления, что это сознание является чем-то эфемерным, чем-то, что легко погасить, обозначает важный момент в определении фигуры вытесненного свидетельства. Кантор очень точно рисует его в спектакле. Пастух, который «оживил» Одиссея, сразу же после этого встает в совершенно равнодушную позицию: «Актер, играющий Пастуха, „выходит“, т. е. оставляет Одиссея, перестает им интересоваться и садится куда попало»143143
Kantor T. Powrót Odysa. Partytura sztuki Stanisława Wyspiańskiego «Powrót Odysa»… S. 88.
[Закрыть]. Создается впечатление, что Пастух, выходя из роли, позиционирует себя на стороне зрителей, становясь экземплификацией их рутинного отношения к смерти. Именно Пастух перетаскивает Одиссея в сторону публики, помещает его в реальность. Вот как Кантор представляет их следующую конфронтацию: «Актер, играющий Пастуха, начинает диалог с Одиссеем, они теперь стоят друг около друга, между зрителями, разговаривают как зрители, не представляя диалога, говорят „приватно“, быстро, как на улице. Вдруг зрители замечают внезапное движение руки Одиссея и палку, которая падает на Пастуха. Пастух падает»144144
Ibid. S. 89.
[Закрыть]. Так выглядит канторовская «уличная сцена».
Все эти события сменяют друг друга очень быстро: любая позиция здесь подвижна, нестабильна. Мертвый оживает. Актер становится зрителем. Действие перемещается в зрительный зал. Время идет в обратном направлении: сначала мы видим труп и только потом – акт убийства. При этом одновременно наступает замена ролей: жертва становится экзекутором, случайный свидетель – жертвой. Вдобавок зрителям пытаются навязать впечатление, что сцена убийства разыгрывается вне пространства сценической фикции – «как на улице». Посреди зрителей. Вспомним, как они были размещены в спектакле: «Было лето. Жара и духота. В комнате полно людей. Сидели на коробках, сундуках, внутри шкафа и на нем (самые лучшие места), на земле, между актерами в самом центре действия. Уже сам факт вхождения в эту закрытую комнату обязывал и в определенной степени принуждал зрителя на деле участвовать в спектакле и сообща идти на риск»145145
Stebnicka M. Co się z przyjaciółmi stało… // «Zostawiam światło, bo zaraz wrócę» – Tadeusz Kantor we wspomnieniach swoich aktorów. Red. Jolanta Kunowska. Kraków: Cricoteka, 2005. S. 240.
[Закрыть].
Все это, однако, оставалось бы исключительно режиссерской концепцией, если бы не факт, что спектакль происходил, как определил это сам Кантор, «в эпоху небывалого геноцида и в центре самого сурового хоррора, в изоляции от всего мира»146146
Высказывание во время встречи в Клубе студентов варшавской политехники «Стодола», 02.12.1983: цит. по: Pleśniarowicz K. «Odys musi powrócić naprawdę…» // Tadeusz Kantor. «Powrót Odysa». Podziemny Teatr Niezależny, 1944. Kraków: Cricoteka, 1994. S. 3.
[Закрыть]. Спектакль рождался в поле опыта публики, кардинальным образом этот опыт обнажал, питался его энергией. Опыт зрителей в то же самое время был опытом актеров. Кантор спустя годы назвал вещи своими именами: «То, что мы были как в осаде, играло на эту ситуацию, в любую минуту могли войти немцы, зрители безумно нервничали»147147
Porębski M. T. Kantor. Świadectwa. Rozmowy. Komentarze. Warszawa: Wydawnictwo MURATOR, 1997. S. 96.
[Закрыть]. Кантор работал на конкретном аффекте и на конкретной ситуации, открывал ее либидинальную основу, черпал из нее. Точная топография тоже была не без значения: социальная энергия, о которой пишет Гринблатт, никогда не бывает абстрактной. Непосредственно рядом с домом, в котором игрался спектакль (ул. Грабовского, 3), находились посты немецкой полиции и армии: на Грабовского располагался небольшой пост немецкой полиции. На боковой от Грабовского улице – сегодня улица Павликовского – отдел моторизованных войск, на улице Михаловского, 12 – полицейская комендатура и разместившиеся в школе авиаподразделения. К тому же эта внешняя угроза имела свой непристойный аспект: зрителям, проходящим через улицу Михаловского, открывался такой вид: «все окна были распахнуты, и в каждом из них загорал на солнышке обнаженный, упитанный жандарм»148148
Szczepański J. J. Цит. по: «Powrót Odysa» i Podziemny Teatr Niezależny Tadeusza Kantora w latach 1942–1944. Cz. I. Kraków: Cricoteka, 2004. S. 66.
[Закрыть].
Поэтому, может быть, одно из самых важных свидетельств об этом спектакле носит характер симптома, некой дисфункции в поле зрения. Речь идет о шлеме Одиссея.
Известно, что Кантор решил одеть Одиссея в мундир современного солдата, хотел сделать его участником шедшей тогда войны. Солдатская шинель Одиссея представляла собой скорее лохмотья, тряпку, в которую было завернуто «нечто», то есть Одиссей. Спустя годы в разговоре с Веславом Боровским Кантор упомянул, что в спектакле оказался украденный мундир, – однако не уточнил, что это был за мундир (другие свидетельства о мундире умалчивают). Именно каска («низко надвинутая на глаза») позволяла идентифицировать Одиссея как солдата вермахта, возвращающегося из-под Сталинграда. Таких солдат видели, начиная с 1943 года, на улицах Кракова. Информацию о том, что Одиссей у Кантора был солдатом вермахта, мы найдем во множестве источников, в книгах, в интервью. Самым важным свидетельством, однако, являются тексты и воспоминания Мечислава Порембского – одного из зрителей оккупационного спектакля «Возвращение Одиссея» (Кантор даже вспоминал, что Порембский помогал ему «меблировать» комнату Одиссея перед премьерой) – критика и историка искусства, а в те годы также близкого сотрудника Кантора, так что речь идет о свидетеле, на которого можно положиться. Во многих своих текстах Порембский этот факт подтверждал и комментировал: Одиссей был военным преступником, он возвращался домой только для того, чтобы заново начать тут свою преступную деятельность. Самое раннее из этих свидетельств датируется 1957 годом: «В „Возвращении Одиссея“ улыбающимся белым маскам грецких куросов противопоставлялась грязная шинель и глубоко надвинутая на глаза вермахтовская маска (курсив мой. – Г. Н.) героя, зараженного войной. Когда Одиссей брал лук и стрелял из него по женихам, из мегафона раздавался треск пулемета»149149
Porębski M. Iluzja. Przypadek. Struktura (w związku z ostatnimi i dawniejszymi pracami Tadeusza Kantora) // Przegląd Artystyczny. 1957. Nr 1. S. 23.
[Закрыть]. Добавим, что мегафон был аутентичным немецким громкоговорителем, украденным с краковских Плант.
Одиссей в спектакле Кантора не носил, однако, каски вермахта – это исключительно легенда. На фотографиях со спектакля форма головного убора Одиссея выглядит совершенно иначе. Юлиуш Кудринский, вспоминая спектакль в 1946 году, два года спустя после премьеры, не уточняет, какая каска в нем появлялась: «На Одиссее современная солдатская каска и грязная шинель»150150
Kydryński J. Krakowski teatr konspiracyjny // Twórczość. 1946. Nr 3. S. 174.
[Закрыть]. Больше деталей дает Тадеуш Квятковский, который писал о спектакле уже в 1945 году: «Одиссей возвращался в солдатской шинели и в каске 1939 г.»151151
Kwiatkowski T. Teatr w pokoju // Dziennik Zachodni. Nr 311. 24–26.12.1945.
[Закрыть] Также и другие свидетельства подтверждают, что каска для спектакля была сделана по модели касок, в которых польские солдаты воевали в сентябре 1939 года. Но уже в 1963 году тот же самый Тадеуш Квятковский писал: «Одиссея играл Тадеуш Бжозовский. Он был одет в мундир немецкого генерала»152152
Kwiatkowski T. Krakowski teatr konspiracyjny // Pamiętnik Teatralny. 1963. Z. 1–4. S. 148.
[Закрыть]. Ошибка Порембского, таким образом, предстает чем-то бóльшим, чем просто ошибка, – она является симптомом, возведенным в ранг символа.
Одиссей как солдат вермахта дождался символического увековечивания как важная фигура польской культуры. У Петра Пётровского мы читаем: «Как раз тут, в подземном театре Тадеуша Кантора, его участники, наблюдая возвращение Одиссея из-под Сталинграда, приобщались к безграничной первозданности репрессии, начинали понимать всю подлость террора»153153
Piotrowski P. Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2011. S. 27.
[Закрыть]. По мнению Пётровского, Кантор давал зрителям возможность дойти до дна военной травмы благодаря утрированию сценической реальности.
Одиссей у Кантора был в том числе (но не только) солдатом вермахта: его слова звучали через украденный уличный громкоговоритель, через который распространялись немецкие военные объявления, а появление Одиссея сопровождали звуки немецкого военного марша. Одиссей появлялся в поле столь отчетливых сигналов и столь сильных зрительских эмоций, что не так уж трудно было увидеть в нем немецкого солдата. Тем не менее он носил польский шлем – а значит, мог идентифицироваться также и с польским солдатом. Францишек Бунш запомнил военное «Возвращение Одиссея» как рассказ о «солдате-страннике в польском шлеме и военной шинели без ремня – как пленный без ремня»154154
Bunsch F. Pogmatwane początki // I Wystawa Sztuki Nowoczesnej. Pięćdziesiąt lat później. Kraków: Starmach Gallery, 1998; цит. по: Kunstgewerbeschule 1939–1943 i Podziemny Teatr Niezależny Tadeusza Kantora w latach 1942–1944. Red. Józef Chrobak, Katarzyna Ramut, Tomasz Tomaszewski, Marek Wilk. Kraków: Cricoteka, 2007. S. 13. Бунш запомнил, что это его брат, Али Бунш, наклеивал из папье-маше шлем Одиссея на реальный польский шлем образца 1939 года.
[Закрыть]. Таким образом, это могла бы быть история о польском солдате. О польском отце, который появляется после военной катастрофы как «одно основание» человека, представляющее угрозу для самых близких. «Одиссей может предложить сыну только свой цинизм и свою пустоту»155155
Kantor T. Op. cit. S. 90.
[Закрыть], – записывал Кантор в партитуре спектакля.
Одиссей в спектакле Кантора был как жертвой войны, так и преступником; останками, которые лежат под забором, и внушающим ужас преследователем; трупом и живым человеком; тем, кто полностью исключен из человеческого порядка, и тем, кто этот порядок устанавливает. Был евреем, поляком и немцем. Он воплощал в себе как опыт страха, унижения, окончательного овеществления, так и агрессии, жестокости, насилия. Ничего удивительного, что его фигура могла вызвать в поле зрения столь сильные помехи.
Одиссей в спектакле Кантора – это, скорее, фигура, которая генерирует симптомы, нежели символический персонаж. Он заполняет собой все позиции травматического события, приводит в движение в театральном пространстве сильные механизмы переноса, позволяет зрителям проектировать на сценическую реальность собственные представления, а тем самым без устали сдвигает их фантазийные позиции по отношению к сценическим событиям. Квятковский в своем воспоминании отождествлял его с жертвой безжалостного гнета. Бунш видел в нем военнопленного. Порембский делал из него жалкую, но и страшную фигуру военного убийцы.
И как раз именно эта версия, представляющая Одиссея как солдата вермахта, оказалась наиболее отчетливо запечатлена, получила символическое наполнение. Кантор никогда ее не комментировал, может даже по-тихому поддерживал, хотя в своих записках не конкретизировал ее столь детально – в любом случае он нигде не вспоминал о каске солдата вермахта. Одиссей Выспянского как солдат вермахта, возвращающийся из-под Сталинграда, появляющийся в конспиративном польском спектакле, который играется во время отступления немецких войск с восточного фронта, – это действительно материал для большой театральной легенды. Возможно, создавая спектакль, Кантор и не был чужд мысли вызвать к жизни именно такую фигуру – однако в спектакле она не была запечатлена в однозначном образе. Как раз наоборот, Одиссей представляется фигурой смазанной, неясной – по-разному запомнившейся разным зрителям.
Симптом формируется в поле неразрешимых противоречий: он укрывает и обнаруживает, является частью вытесненного опыта и служит механизмам вытеснения. Насколько «неправильное» ви́дение и плохо запомнившийся образ мы можем причислить к симптомам, настолько поливалентную фигуру Одиссея следует интерпретировать как место фантазийного избытка (ни одна отдельно взятая фантазия не способна связать этот энергетический избыток). Пойдем путем анаморфоза: объекта, лишенного узнаваемой формы. Только перемена точки зрения позволяет увидеть в нем нечто, что имело бы для смотрящего смысл. Следует, однако, принять, что видимый образ становится предметом желания, определяет субъект, а не сам объект. А на дне любых возможностей, которые анаморфичный образ может принять, находится смерть – то есть нечто, что никогда не может оказаться в символическом порядке, но зато приводит его в непрерывное движение.
В канторовском Одиссее было что-то непристойное: непристойность страха, непристойность трупа, непристойность ничем не оправданного насилия. Сцена убийства женихов была сценой огромного, унизительного страха, который превращал Одиссея в мокрое от пота, охваченное ужасом существо. Смысл события и то, что оно транслировало на уровне аффектов, устремлялись в двух разных направлениях. Образ мести и преступления принадлежал сценической фикции – истории о герое, возвращающемся из Трои и мстящем врагам своего дома. Страх, как реальный аффект, охватывал и актера, и зрителей. Мелодия парадного марша156156
Жители Кракова, помнящие время оккупации, вспоминают мелодии немецких маршей, без устали звучащие на улицах.
[Закрыть], а потом отзвук пулемета, идущий из громкоговорителя, высвобождал воспоминание о ежедневной угрозе и актуализировал его (зрители и актеры, как конспираторы, могли «провалиться»). Тадеуш Бжозовский, игравший Одиссея, спустя годы еще помнил свой страх в этой сцене, он дословно обливался потом. А Ян Юзеф Щепанский, один из зрителей, вспоминал, в каком состоянии находился Бжозовский после спектакля: «Я нашел его на кухне, где он лежал на полу, а хозяйка квартиры лила на него воду, чтобы привести его в чувство»157157
Szczepański J. J. Historyjki. Warszawa: Czytelnik, 1990. S. 199.
[Закрыть].
Развивая мысль о неоднозначности фигуры Одиссея в спектакле Кантора, а также помня о возбужденном во время спектакля аффекте, можно признать эту фигуру объектом фобийным – объектом, высвобождающим бесконтрольный страх. Для маленького Ганса, чей случай детально разобрал Фрейд158158
Фрейд З. Анализ фобии одного пятилетнего мальчика // Фрейд З. Собр. соч. в 10 томах. Т. 8. М.: Фирма СТД, 2007. С. 9–124.
[Закрыть], фобийным предметом был конь – вызывающее страх существо, пребывающее вне человеческого сообщества. Ганс освободился от своего страха, когда понял, что конь символизировал для него фигуру отца в его самой страшной, кастрирующей функции. Это решение было ему предложено Фрейдом, действующим через отца Ганса. Внушающая ужас отцовская фигура сидела также в канторовском Одиссее. Может, как раз потому он оказался столь однозначно отождествлен в условиях военного террора с одним только образом: немецким военным преступником. Поэтому имеет смысл вспомнить в этом контексте пересмотр случая маленького Ганса, предложенный Лаканом159159
Lacan J. Le Séminaire. Livre IV. La relation d’ objet, 1956–57. Ed. Jacques-Alain Miller. Paris: Seuil, 1994. P. 5–98.
[Закрыть]. В его интерпретации конь был не только фигурой кастрирующего отца, но репрезентировал для Ганса в разных моментах разных людей: отца, мать, сестру, его самого, друзей. А терапия была процессом, основанным на разыгрывании в воображении всех возможных комбинаций с участием фобийного объекта. Только исчерпанность этих возможностей воображения открыла перед Гансом перспективу участия в символическом порядке, позволила ему установить более стабильные отношения с миром. Вспомним в этом контексте последний образ, который записывает в партитуре спектакля Кантор: «Актер, играющий Одиссея, остается один, окруженный со всех сторон зрителями»160160
Kantor T. Op. cit. S. 92.
[Закрыть]. Агрессия, как кажется, принадлежит тут уже только тем, кто смотрит.
Трактовка Одиссея как солдата вермахта, как врага, систематизировала аффективное поле спектакля: давала оправдание страху и агрессии зрителей. Делала возможной разрядку аффектов: ведь страх и агрессия по отношению к врагу – это нечто само собой разумеющееся. К тому же солдат из-под Сталинграда был бедолагой, был проигравшим, пробуждал жалость. Быть может, однако, этот плохо увиденный образ заслонял другую ситуацию, принять которую было уже гораздо труднее. Кантор сталкивал зрителя с кем-то, кто прошел через шок, кто стал вещью, предметом, был исключен из числа людей: жертвой, которая предстает как монстр, принимает фантастические формы. Когда спустя много лет Кантор вернулся к оккупационному «Возвращению Одиссея» в спектакле «Я сюда уже никогда не вернусь», призрак возвращающегося Одиссея оказался сопряжен с другим призраком: отцом, убитым в Аушвице.
На дне театральной ситуации, которую привел в движение Кантор, крылась невозможность «правильно» увидеть и назвать то, что ты видишь. Зрители становились свидетелями чего-то такого, что производило на них сильное впечатление, пробуждало страх, вызывало шок, но что невозможно было поместить в усвоенные ранее модели поведения и рамки понимания. Трудно в этом случае говорить о циркуляции энергии; следовало бы, скорее, говорить об обреченной на поражение попытке разрядить слишком сильный аффект и, в связи с этим, – о чрезмерной экспонированности и в то же время невозможности видеть правильно.
Еще один пример, также указывающий на нарушения в поле зрения. В 1962 году в Театре «Людовы» в Новой Хуте появился спектакль «Дзяды» Мицкевича в инсценировке Ежи Красовского и Кристины Скушанки – признанный критикой художественным и общественным событием; публика воспринимала его в ауре огромного эмоционального напряжения161161
«На премьерах для прессы публика бывает по преимуществу холодная, сдержанная, критически настроенная. Аплодисменты звучат скупо и часто являются выражением не более чем приличий. В этот вечер не было никого, кто остался бы холоден, равнодушен, кого не удалось бы убедить. Такой разошедшейся публики давно не видели наши театры. После спектакля люди бросались друг другу в объятья, целовались, кидали на сцену цветы. Еще немного, и все бы хором запели: „Ешче Польска не згинела“» (Mamoń B. «Dziady» // Tygodnik Powszechny. Nr 25. 24.06.1962).
[Закрыть]. Сценографию, а собственно говоря – пластическую инсценировку создавал Юзеф Шайна. Спустя много лет Мария Чанерле записала странный, несколько герметичный, построенный на ассоциациях, лишенный знаков препинания монолог Шайны, в котором художник так вспоминал этот спектакль, чувствуя себя, впрочем, скорей всего (и, может, не без причины) его автором: «…потому что в театре не хватает наблюдения за явлениями жизни и углубления в них я не видел „Дзядов“ Деймека говорили что это был великий спектакль не увижу „Дзядов“ Свинарского потому что Краков сейчас от меня далеко сам я на огромной лестнице как бы на путях истории делал Импровизацию лестница пробивала горизонт и вела в никуда так что я не спрашиваю потому что мне непонятно что такое национальное искусство которое может получить международное признание потому что для меня национальный театр это не исторические декларации а современная ситуация театром стала жизнь а что по сравнению с этим театр»162162
Czanerle M. Szajna i morze // Czanerle M. Szajna. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1974. S. 14–15.
[Закрыть].
Шайна в этом монологе привел всего лишь один визуальный образ – скорей всего, он был для него самым важным. В сцене «Импровизации» в новохутском спектакле главным сценографическим элементом была огромная лестница, резко уходящая ввысь, опирающаяся на горизонт, закрашенный широкими красными полосками, которые могут ассоциироваться с адским огнем. Как лестницу прочитывали этот элемент почти все рецензенты. «Сцена поворачивается кверху – это движение идет из зрительного зала и как раз в другом, чем зрительный зал, направлении: сценография Шайны, бесконечная неровная лестница-лесенка, обретает совершенное единство с намерениями инсценировки, самой своей структурой подсказывает, что речь идет о разговоре, который ведется с Богом будущего»163163
Wolicki K. «Dziadów» tekst a inscenizacja // Dialog. 1962. Nr 8. S. 149.
[Закрыть]. В этом синтетическом описании экспонируется вертикальность сценического образа, его динамика, устремленная ввысь, а также религиозная символика. Понятая таким образом, сценография Шайны становилась еще одним вариантом мистерийного пространства польского Монументального театра. Многоуровневость, вертикальность, символика лестницы как духовного процесса преображения входили в число краеугольных элементов его формы. То, как рецензенты прочли этот образ, подтверждает, как сильно всегда довлеют над актом ви́дения культурные привычки и то, как «оснащено» символами воображение.


На цветной фотографии, сделанной Тадеушем Рольке, сценический образ производит совсем другое впечатление: он направлен скорее к земле, конструкция «лестницы» твердо, безжалостно опирается на землю, у ее подножия лежат три неподвижные (мертвые? спящие?) мужские фигуры, одна из них может ассоциироваться с опрокинутым (брошенным?) распятием. Первое, что приходит в голову: обрывающиеся железнодорожные пути. О «путях истории» как раз говорил Шайна в процитированном фрагменте; в его воспоминании сценический образ возникает из наложения двух понятий: путей и лестницы. Речь шла о том, что лестница пробивает горизонт и ведет в никуда. Так же как и в самом сценическом образе, в воспоминаниях Шайны символическое смешивается с реальным (все же речь идет о «наблюдении явлений жизни» и «углублении в них»). «Пути истории» – это метафорическое клише, но под образом лестницы, ведущей в никуда, кроется другой образ: ведущих в никуда путей, путей, ведущих к смерти. В этом контексте слова «в никуда» все еще продолжают заключать в себе мировоззренческую декларацию. Но в то же самое время оказываются связанными с конкретным историческим образом. Трудно себе представить, чтобы Шайна, узник Аушвица, читая фрагмент «Импровизации», говорящий о миллионах людей, взывающих о помощи, не помнил о тех сценах, которые он видел собственными глазами.
«Лето сорок третьего года. День и ночь приходили эшелоны в газовые камеры. Их разгружали еще на старой рампе, не вблизи крематориев, как это было позже. Дым ложился по вечерам на весь лагерь. Вонь сжигаемых тел и мяса и– и– и костей была огроменная – сладким запахом она влезала в горло, щипала глаза. Мы отдавали себе отчет, в каком аду, в какой трагедии находимся. Этот черный дым, этот клубящийся, густой дым, чуть ли не с огнем выходящий из труб, давал нам знать о трагедии, которая вокруг нас происходит, участниками которой мы тоже являемся – но, может, предназначенными на завтра»164164
Разговор с Юзефом Шайной, Музей памяти Холокоста Соединенных Штатов, 15.05.1998, видеолента RG50.030*0391 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://collections.ushmm.org/search/catalog/irn506412.
[Закрыть]. В свидетельстве Шайны, которое хранится в вашингтонском Музее Холокоста, находится еще один визуальный образ-воспоминание о людях, идущих с железнодорожной рампы на смерть в газовой камере. Дело происходит ночью, в тумане, в свете автомобильных прожекторов: «мы видели огромное, огромное шествие – нечто, что можно назвать страшным судом людей, которых выгрузили на железнодорожную рампу»165165
Там же.
[Закрыть]. «Их как бы по воздуху – вели, все вокруг терялось и, помню как сегодня, в свете автомобильных прожекторов, автомобильный свет, прожекторы их освещали – освещали новоприбывших, шли люди черные, темные, без цвета, черно-белая картина. Они уходили в это ничто и где-то дальше исчезали. Это было поразительно, и так величественно, и так, на удивление, так сказать, завораживающе, что тут разыгрывается этот страшный суд, что, может, может, так будет выглядеть, когда мы все будем уходить»166166
Там же.
[Закрыть]. Даже в этом шероховатом по своему языку фрагменте Шайна убегает к культурным ассоциациям, эта картина обретает уже свою красоту: язык и воображение работают над тем, чтобы включить ее в некий символический универсум.
В сценографии к «Дзядам» запомнившиеся Шайне визуальные образы Аушвица остаются видимыми: железнодорожный тупик, огонь крематориев, брошенные человеческие останки. Достаточно себе представить, что якобы-лестница – это железнодорожные рельсы, как их видит лежащий на земле человек. Но следы памяти вбирает в себя мощная символика: лестницы, неба, метафизической пустоты. Вертикальность вытесняет горизонтальность, столь сильно обозначенную в этой картине. Движение вверх не позволяет увидеть стремления вниз, символическое послание стирает читабельность исторических реминисценций. Но благодаря всему этому символическая интерпретация и становится симптомом: поскольку она что-то опускает, чего-то не видит, не хочет видеть. Ведь вертикальность тут – это только форма нарушенной горизонтальности, иллюзия. Хотя одновременно то, что в акте ви́дения оказалось вытеснено, влияет на прочтение сценического образа. Триумф символа оказывается подшит возможностью отрицания, но возможность отрицания мобилизует, в свою очередь, потребность символ спасти. Мы опять выходим на след уже описанной нами диалектики. Избыточная видимость образа памяти смертельно угрожает символу. Только вытеснение ситуации «я был свидетелем» способно спасти символ. Мы не только чего-то не видим. Но стараемся также не знать о том, что мы чего-то не видим. Рецензии новохутских «Дзядов» – доказательство совершенного функционирования этого механизма. Если прибегнуть к формуле Диди-Юбермана, критики принуждают образ «признать», что он является символом. В этом смысле Мечислав Яструн все же был прав, когда писал, что «Дзяды» в состоянии вобрать в себя опыт Катастрофы, смерти «миллионов»167167
Jastrun M. Dwie współczesności «Dziadów» drezdeńskich, 1945; цит. по: Listy Teatru Polskiego. Warszawa: 78, 1964. S. 46.
[Закрыть].
Вацлав Кубацкий увидел на сцене «цирковую лестницу»168168
Kubacki W. Jeszcze raz «Dziady» // Teatr. 1962. Nr 19.
[Закрыть], Зигмунт Грень – «огромные ступени»169169
Greń Z. «…Każdy z nas mógłby samotny…» // Greń Z. Godzina przestrogi. Szkice z teatru 1955–1963. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1964. S. 55.
[Закрыть], Леония Яблонкувна – «несчастную лестницу, по которой пришлось взбираться Конраду во время его поединка с Небом»170170
Jabłonkówna L. Teatru nowohuckiego droga do nieba // Teatr. 1962. Nr 21.
[Закрыть], Бронислав Мамонь – «бегущие в никуда ступени»171171
Mamoń B. «Dziady». 1962. Op. cit.
[Закрыть]. Ассоциация с железнодорожными путями не появлялась вообще. Потому ли, что она казалась неуместной, трудно объяснимой в контексте драмы Мицкевича, требующей слишком радикальной интерпретации спектакля? Каждый из рецензентов чувствовал, однако, слабость символического наполнения, поэтому лестница описывалась как «шаткая», «цирковая», «несчастная», а ступени как «неровные». В этих эпитетах как раз и кроется переживание нарушенной зримости. Спустя годы Эльжбета Моравец увидела в сценографии Шайны не только «Иаковлеву лестницу мечтаний Конрада», но также и разорванные взрывом железнодорожные пути172172
Morawiec E., Madeyski J. Józef Szajna (plastyka, teatr). Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974. S. 22.
[Закрыть]. Увидела пути, прочитав в них прежде всего прометеевскую динамику бунта, героизма, борьбы – все еще, таким образом, можно говорить о нарушении зрения. Только спустя тридцать лет после премьеры «Дзядов» в новохутском театре «Людовы» Збигнев Майхровский увидел в «цирковой лестнице» остававшийся до той поры для критиков невидимым образ железнодорожной рампы в Аушвице. Хотя ему это не помешало в то же самое время интерпретировать этот образ символически как «пути романтического путешествия по ступеням (само)познания»173173
Majchrowski Z. Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 1998. S. 128.
[Закрыть]. Проблема, однако, как раз в том, что трудно удержать равновесие между символической и исторической интерпретацией выстроенного Шайной образа. Поскольку тут действует механизм симптома, находящегося на территории неразрешенных противоречий. Симптома, который подрывает символ и наводит на след памяти, скрывшийся из поля зрения.
В «Возвращении Одиссея» запоминания удостоилось то, чего в нем не было (вермахтовский шлем Одиссея), а в «Дзядах» мимо внимания зрителей прошло нечто, что было достаточно видимым (железнодорожная рампа в Аушвице). Однако, в обоих случаях, ошибка зрения позволяла упорядочить аффективное воздействие спектакля, выявляла сильное действие защитных механизмов в рамках театральных ситуаций.
Или мы говорим о чем-то, что на картине отсутствует. Или не видим чего-то, что на ней есть. Все это указывает на некий разрыв в самом акте ви́дения: разрыв между актом перцепции и аффектом. Чистый акт перцепции предполагает, что тело наблюдающего укоренено в мире, что оно чувствует себя в нем как дома. Аффект подрывает такого рода состояние освоенности мира: указывает на неопределенность и конфликтность нашей связи с миром. Как бы нарушает акт перцепции в самой сердцевине. Этот разрыв оказывается записан в дискурсе, который старается зарегистрировать акты перцепции. Тем самым несоответствие картины, запечатленной в дискурсе, и картины, запечатленной в другом медиуме (в этом случае, например, на фотографии), стоит трактовать не как ошибку, а как событие, над которым стоит задуматься.
Розалинда Краусс, под влиянием концепций Фрейда, Лакана и Лиотара, предложила понятие оптического бессознательного174174
Krauss R. E. The Optical Unconscious. Cambridge, MA; London: MIT Press, 1993.
[Закрыть]. Образ (vision) создается не благодаря механизмам перцепции, а благодаря ее нарушениям. Акт видения совершается благодаря тому, что остается невидимым, что подверглось вытеснению, а в поле сознания отрицается. Этот процесс вытеснения требует, чтобы после него остались некие материальные останки, которые будут помещены в поле зрения, но в то же время могут оставаться незамеченными. Примером такого явления является известная картина Леонардо да Винчи: «Святая Анна втроем». Присутствующий на ней след памяти в виде цветного пятна, напоминающего своей формой коршуна, полностью меняет правила смотрения: уничтожается иллюзия трех измерений, картина становится поверхностью либидинальной записи, а религиозная тематика произведения ставится под вопрос.
Образ коршуна Леонардо да Винчи запомнил как самое раннее воспоминание детства: «[…] на ум приходит самое раннее воспоминание детства, будто я лежал в колыбели, а ко мне спустился коршун, открыл мне уста своим хвостом и много раз толкнул им мои губы»175175
Фрейд З. Воспоминание Леонардо да Винчи о раннем детстве // Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995. С. 186.
[Закрыть]. Это был образ, который ничего не значил (ни на что «больше» не указывал, ни с чем не ассоциировался), однако же он оказывал очень сильное влияние на его воображение и эмоции («Должно быть, мне на роду было назначено так основательно заниматься коршуном […]»). Остался образ и пробуждаемый им аффект – значение образа неясно, а его происхождение оказалось затемнено. Фрейд старался выявить подлинную генеалогию этого образа, который не был ни воспоминанием, ни сном: «Эта сцена с коршуном не воспоминание Леонардо, а фантазия, образованная позднее и перемещенная в его детство»176176
Фрейд З. Воспоминание Леонардо да Винчи о раннем детстве. С. 186.
[Закрыть]. Тут совершается характерный для фрейдовских генеалогических концепций двойной – диалектически сопряженный – временнóй сдвиг: запомненный образ – это реакция на вытесненное переживание и защита от его потенциально деструктивного воздействия, для субъекта он одновременно находится где-то «у истоков» и в то же время появляется с опозданием, он активно формирует судьбу субъекта и в то же время оказывается в нее вписан ретроспективно: на что-то указывает и в то же время «что-то» маскирует. Угрожает и защищает.








































