Читать книгу "Польский театр Катастрофы"
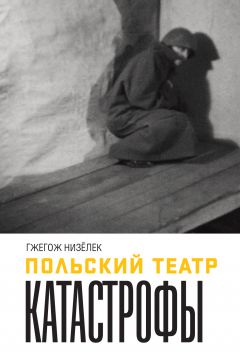
Автор книги: Гжегож Низёлек
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Театр и Катастрофа
Война еврейская, постыдная
1
18 марта 1945 года (т. е. еще до окончания войны) в недавно освобожденном и уцелевшем без значительных разрушений Кракове в воскресном выпуске газеты «Дзенник Польски» в рубрике «У писателей» появляется короткая информация о Стефане Отвиновском: о том, что он успел сделать до войны и во время войны. Мы узнаем из нее, что написанный во время войны роман «Вознесение» – это «образ внутреннего страха и внешней угрозы, которые переживают герои во время гитлеровского господства в Польше»194194
Рубрика «У писателей» // Dziennik Polski. Nr 43. 18.03.1945.
[Закрыть]. Последнее предложение заметки – это анонс новой театральный пьесы (первой была комедия «В гостях», «которую много раз читали в Варшаве на конспиративных литературных собраниях»). «В настоящее время автор заканчивает вторую пьесу: „Пасха“, романтическую драму на тему вспыхнувшего в маленьком еврейском местечке восстания – драму о памятных пасхальных днях 1943 года»195195
Ibid.
[Закрыть].
Информация о пьесе наверняка шла от самого автора. Скорей всего, именно он определил ее тему и назвал ее «романтической драмой на тему вспыхнувшего […] восстания». Очевидным образом Отвиновскому было важно поместить пьесу об уничтожении евреев в провинциальном польском местечке в рамки легко узнаваемого клише – поскольку, пожалуй, в польской литературе трудно найти более банальный литературный образец. Также и определение – «драма о памятных пасхальных днях 1943 года» наверняка шло от автора и является, конечно же, лишь предположением, касающимся коллективной памяти. Понятное дело, речь идет о восстании в варшавском гетто. Это короткое предложение – попытка твердо укоренить уничтожение евреев и память об этом событии в рамках польской истории и польской культуры. И отсылка к романтизму показалась Отвиновскому наилучшим способом это сделать. Автор романа о «внутреннем страхе и угрозе извне» времен оккупации (тема страха не входила в число тех, которыми занимался польский романтизм) должен был рассматривать «романтичность» той пьесы, которую он тогда писал, как способ символическим образом убедить общество разместить восстание в варшавском гетто на территории памяти о собственных восстаниях – общество, которое вовсе не было склонно это делать. Событиям апреля 1943 года часто отказывалось даже в том, чтобы называться «восстанием». Отвиновский, живо реагирующий на события, связанные с уничтожением польских евреев196196
См. авторское предисловие к «Пасхе» (Otwinowski S. Wielkanoc. Kraków: Centralny Komitet Żydów Polskich, 1946. S. 16).
[Закрыть], должен был отдавать себе в этом отчет. Отсюда, например, столь наивные отсылки к «Варшавянке» Станислава Выспянского – драме о Ноябрьском восстании 1830–1831 годов.
Стратегию Отвиновского можно было бы суммировать таким образом: давайте используем традиционные и необычайно живучие модели нашей культуры, чтобы польское общество не вытеснило тех событий, свидетелем которых оно стало, чтобы память о них была включена в ее, этой культуры, рамки.
В том же номере газеты «Дзенник Польски» – на той же самой странице – в фельетоне «Остатки и начала» из постоянного цикла «Литературные поездки» Чеслав Милош призвал к тому, чтобы писатели фундаментальным образом осмыслили, какие новые литературные произведения они хотят предложить польским читателям после войны, а также к тому, чтобы восстать против традиций романтизма, которые он считал анахроничными и беспомощными по отношению к событиям последних лет. «Не стоит ли пересмотреть – с самых его основ – наш культ по отношению к романтикам и, наконец, заклеймить эту романтическую концепцию жизни, которая из романтиков ХХ века сделала интеллектуальный штаб Муссолини и Гитлера? Не стоит ли опубликовать книги, которые бы представили, как в реальности обстояло дело с нашими восстаниями 1831 и 1863 годов?»197197
Miłosz Cz. Resztki i początki, cykl «Przejażdżki literackie» // Dziennik Polski. Nr 43. 18.03.1945.
[Закрыть]
Связать на страницах популярной ежедневной газеты романтическую традицию с Муссолини и Гитлером значило применить мощные инструменты убеждения перед лицом очередного романтического одурманивания, которое угрожало, по мнению Милоша, польскому обществу. Однако многие ли из читателей газеты «Дзенник Польски» знали философскую генеалогию немецкого романтизма и отдавали себе отчет, какие политические последствия он имел? Кроме того, романтическая традиция в Польше ассоциировалась с культурой жертв, а не палачей. Милош хотел посеять беспокойство, более того – вызвать шок такой ассоциацией, может быть, даже исподволь задействовать всеобщую ненависть по отношению к военным преступникам и использовать потенциал этого аффекта в целях радикального пересмотра ценностей культуры. В этом деле он уже располагал хорошо обдуманными интеллектуальными аргументами, но в то же время прекрасно знал, что романтические модели процветают и позволяют обществу эффективно защитить себя от правды его собственного опыта. Так что надо было сделать так, чтобы они, эти романтические модели, стали отталкивающими. Милош, конечно, не знал, что его фельетон будет опубликован в непосредственном соседстве с заметкой о «романтической драме» Отвиновского. Не лишне будет вспомнить, что на тему «памятных пасхальных дней 1943 года» Милош уже написал свое стихотворение Campo di Fiori, которое вовсе не потакало романтическим нуждам национального сообщества: в этом стихотворении безразличие поляков по отношению к уничтожению евреев называлось своим именем и говорилось о нем без всякой пощады. Поэт, однако, знал и то, что «нагая и беззащитная, и хаотическая действительность»198198
Miłosz Cz. Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945–1950. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1998. S. 67. Из письма Ежи Анджеевскому после прочтения «Пепла и алмаза»: «нужно принять во внимание, что у литературы – власть бóльшая, чем у нагой и беззащитной, и хаотической действительности, и что правда о 1945 годе такова, какова будет о нем литература».
[Закрыть] обречена на проигрыш рядом с литературой.
Несколько лет спустя Милош в столь же непримиримом тоне высказывался о польском романтизме в письме к Тадеушу Кронскому: «Мне противен романтизм, романтизм – это зараза, несчастные эмигранты – романтики на двести процентов, это знак их полного падения и разложения. Но поэты в Польше тоже романтичны, да так, что тошно становится […]. Я не утверждаю, что преодолеть романтизм – просто и сразу получится. Но можно этим наполнить жизнь»199199
Ibid. S. 277.
[Закрыть].
Отвращение Милоша по отношению к ритуалам польского национального сообщества было непреодолимым. Милош видит послевоенную польскую культуру как зажатую в тисках двоякого романтизма: старого – мартирологического, националистического и фашистского, а также нового, революционного, возрождающегося под влиянием России («то, что под ее влиянием романтизм заново подогрели, – одно из самых тревожных явлений»200200
Ibid. S. 278.
[Закрыть]). Обо всем этом он пишет Кронскому – ведь это под его «огромным влиянием» поэт пережил «перелом» в 1943 году: «я понял то, что до этого всего лишь туманно предполагал: что Польша межвоенного двадцатилетия закончилась неотвратимо и что абсолютно ни к чему хранить в себе ее остатки. Иными словами, я перестал быть поэтом межвоенного двадцатилетия, я становился кем-то иным»201201
Ibid. S. 230–231.
[Закрыть].
Милош в воспоминаниях о судьбе Тадеуша и Ирены Кронских не преминул отметить, что во время войны они жили в состоянии повышенной опасности: «как жили все во время немецкой оккупации, но также и по расовым причинам – он был евреем по отцу, Ирена – еврейкой»202202
Ibid. S. 230.
[Закрыть].
Проект «стать кем-то иным» нашел у Милоша свое фантазматическое выражение в сценарии о варшавском Робинзоне – человеке, живущем на протяжении нескольких месяцев среди развалин Варшавы. Милош написал его вместе с Ежи Анджеевским, под впечатлением рассказа Владислава Шпильмана, которого встретил уже после войны в Кракове: тот, выйдя из гетто, скрывался на арийской части, а после падения Варшавского восстания остался в опустошенном, разрушенном городе и так дождался конца войны. «Идея возникла у меня в Кракове, весной 1945 года, под впечатлением от поездки в Варшаву и увиденного там лунного пейзажа руин, а также нашего с Анджеевским разговора с пианистом Шпильманом, который скрывался среди развалин после восстания до тех пор, пока не вошли советские войска. Как Робинзон Крузо на необитаемом острове, которому пришлось собирать найденные предметы и каждый день бояться диких зверей и каннибалов. Только теперь это был необитаемый остров, созданный цивилизацией, которая обернулась против себя самой. Одинокий человек в пейзаже руин: такова была первоначальная идея фильма»203203
Ibid. S. 71.
[Закрыть].
Милош искал радикализм: отсюда его дружба с Кронским, отсюда завороженность судьбой Шпильмана. Он признался Кронскому, что «любит экстремальное»204204
Ibid. S. 283.
[Закрыть]. Рассказ Шпильмана, несомненно, располагался на территории экстремального. Милош, однако, ценил то, что экстремально объективно, в реальности, не поддающейся романтической мифологизации. Идею наложить мотив робинзонады на то, что пережил Шпильман, стоит причислить к радикальным: она позволяет сконцентрироваться на трудном процессе выживания – на том, как уцелеть не благодаря метафизическим силам, а благодаря собственному усилию человека. Стоило бы когда-нибудь проследить, как развивался этот мотив робинзонады – ведь в нем есть своя театральность, которую мы можем найти по крайней мере в двух знаменитых польских спектаклях: «Реплике» Юзефа Шайны и «Умершем классе» Тадеуша Кантора. Международный резонанс обоих спектаклей подтверждает правильность диагноза, который Милош поставил сразу после войны. В проекте фильма речь шла также об использовании аутентичных руин города, так же как были использованы – о чем авторы сценария тогда еще не могли знать – руины Берлина в фильме Росселлини «Германия, год нулевой». Фильм, таким образом, должен был бы стать документом. Свидетельством и в то же время своеобразной кражей свидетельства: еврейская судьба была бы в нем использована для того, чтобы создать фантазм радикального преображения идентичности. Милош концентрировался на материальности разрушений, а не на их символике. Поэтому по мере того, как руины и развалины Варшавы убирались, концепция фильма утрачивала для его инициатора свой фундаментальный смысл. И все больше раздражало его то, как эксплуатировались военные темы. Уже тогда он проницательно разглядел в этой процедуре механизмы компенсации и маскировки: «следующие 20 лет будут писать об оккупации, ведь фигуры немцев – это единственная лазейка для описания жестокости»205205
Miłosz Cz. Zaraz po wojnie… S. 283.
[Закрыть]. Возбужденное войной воображение могло питать себя картинами жестокостей, в то же время собственное зло всегда выглядело пристойно на фоне зла абсолютного, которое репрезентировали нацистские преступления.
Милошу тогда была близка идея нулевого года. Идея создания фильма совпала по времени с выраженным им публично на страницах газеты «Дзенник Польски» обвинением романтизма в духовном родстве с недавно совершенными преступлениями. Много лет спустя к идее нулевого года будет отсылать Годар в «Histoire(s) du cinéma». Для него нулевым годом был, однако, не конец войны, а время Катастрофы – время, когда европейская культура оказалась слепа по отношению к творящимся преступлениям, не разглядела смерти миллионов людей, систематически удушаемых в газовых камерах. Однако будем помнить и о том, что Милош датирует свой перелом 1943 годом.
2
Между 17 января и 23 февраля 1956 года в театре «Польски» в Варшаве пятьдесят раз была сыграна «Лилла Венеда» Юлиуша Словацкого в режиссуре Юлиуша Остервы. Спектакль посмотрели 48 977 зрителей. А до 15 апреля прошло еще сто спектаклей – можно предположить, что число зрителей тогда удвоилось. Всем, кто видел спектакль Остервы, дано было испытать, в самом что ни на есть материальном смысле, сильное напряжение между действительностью и театром, переживаемый на границе с галлюцинацией контраст между искусством и реальностью, между катастрофой и победой, между разрухой и пафосом возрождения. «Посреди руин, посреди испепеленных улиц Варшавы – сверкает лазурью и золотом, пылает свежестью и светом заново отстроенный и первым национализированный, бывший театр Шифмана»206206
Balicki S. W. Odwiedziny teatralne // Odrodzenie. Nr 9. 03.03.1946.
[Закрыть]. «Посреди развалин и руин выступает красивое, огромное здание варшавского театра „Польски“»207207
W. S. W rocznicę wyzwolenia Stolicy otworzy podwoje Teatr Polski // Robotnik. Nr 11. 11.01.1946.
[Закрыть]. «Когда кровавый свет прожекторов падает на сцену, весь театр наполняется мощным голосом Розы Венеды, проникнутым убеждением: „Мы победим…“ Это слово, хотя я уже давно за порогом театра, еще долго меня сопровождает. И еще звенит в ушах, когда я пробираюсь через грязь улицами Варшавы, среди обрушившихся домов, памятуя великую победу год назад – победу, освободившую столицу»208208
Ibid.
[Закрыть].
Конфронтация театра с действительностью, памяти о подлинном уничтожении Варшавы со звучащим со сцены плачем хора венедов об уничтожении их народа, «сверкающего» театра с «обрушившимися домами» была, судя по всему, переживанием очень сильным, оказывающим значительное влияние на восприятие спектакля. Наверняка только вера в актуальность романтического мифа могла привести к тому, что театр, рассеивая свои старосветские чары посреди моря руин, мог пробуждать столь сильные эмоции. «После шести лет ужаса и молчания, какого не знает история этого самого угнетенного народа мира (курсив мой. – Г. Н.), после шести лет чудовищной деформации польского слова ради враждебных ему целей наконец-то с подмостков собранного из обломков прекраснейшего театра в Польше – падает в онемевший в напряжении ожидания зрительный зал истинное, возвышенное, звучащее криком трагического пафоса, отвечающего трагизму данного исторического момента, – польское слово, это слово, оглушенное и обездоленное долгими годами крестной дороги, боль которой не передать словами…»209209
Miller J. N. Juliusz Słowacki «Lilla Weneda» // Robotnik. Nr 21. 21.01.1946.
[Закрыть]
Самое сильное впечатление производили в спектакле Остервы монументальные хоры венедов, театральный залог живого духа общности. «Так что огромная благодарность Юлиушу Остерве за то, что сцены с хором были как нельзя более далеки от шаблона и облечены в высочайшую художественную красоту. Сцены эти получились, пожалуй, лучше всего и покорили зрителя своей неземной красотой, достигнутой благодаря концентрации декорационных, световых, сценических и музыкальных эффектов. Трудно себе представить что-либо более совершенное в смысле композиции, чем эти двенадцать почтенных старцев в одежде жителей восточных окраин, которые, рассевшись на друидских камнях под озаряемым прекрасными цветами небом, перебирают струны своих золотых арф и поют песнь трагического народа. Стихи декламируются артистами попеременно, лишь в исключительных моментах – хором, благодаря чему зритель был избавлен от монотонности, а пафос, в плохом смысле этого слова, оказался приглушен»210210
Bacewiczówna W. «Lilla Weneda» // Dziś i Jutro. Nr 5. 03.02.1946.
[Закрыть].
Послевоенные дискуссии вокруг этой премьеры сегодня подвергаются порой слишком уж однозначной политизации211211
«Поставленная в режиссуре Остервы „Лилла Венеда“, которая не пришлась по вкусу государственным властям как „трагедия народа, сломленного насилием чужаков и обреченного захватчиками на погибель“, заставила министерство уделить более пристальное внимание репертуару и ускорить меры по подготовке театрами репертуарных планов, что давало бы возможность контролировать сверху предназначаемые для постановки пьесы» (Kuraś M. Zniewalanie teatru. Polityka teatralna 1944–1949 // Pamiętnik Teatralny. 2008. Z. 3–4. S. 119). Недовольство властей не помешало, однако, тому, что спектакль был сыгран сто раз перед почти ста тысячами зрителей, критические же комментарии по поводу постановки Остервы были опубликованы также на страницах католической прессы.
[Закрыть]. Существует убеждение, что нападки единодушно шли со стороны явно левых газет, защищали же спектакль противники «нового порядка», на страницах католической прессы. Несомненно, такой взгляд во многом обоснован, но есть в нем также немало фальшивых обобщений. Действительно, спектакль Остервы разоблачали, связывая его эмоциональную атмосферу с настроениями, якобы господствующими в политическом подполье. Но видели в нем также и апофеоз новой послевоенной действительности: как бы то ни было, угнетаемые шляхтой-лехитами венеды – это простой польский народ, предшественники сегодняшних крестьян и рабочих. Рецензентка газеты «Дзись и Ютро», в свою очередь, выражала недовольство тем, что религиозная символика недостаточно подчеркивалась, а «над гаснущим костром венедов» не появился образ Богородицы212212
Siwkowska J. O zakończeniu «Lilli Wenedy» // Dziś i Jutro. Nr 15. 14.04.1946.
[Закрыть]. Романтический миф, как видно, можно было интерпретировать самыми разными способами. Разграничительная линия, должно быть, пролегала глубже или просто в другом месте.
Через идеологическую риторику рецензий очень часто прорывалось элементарное ощущение неуместности, которое пьеса Словацкого в постановке Остервы вызывала у некоторых зрителей. Отправимся же по этому аффективному следу. Коробил пафос, излишняя поэтичность, упоение настроениями ужаса и опасности. Поклонение племенным мифам ассоциировалось у некоторых с нюрнбергскими указами, с которых начались систематические и легитимированные законом преследования евреев в Третьем рейхе213213
Рецензент газеты «Кузьница» писал о том, насколько превратно могут быть прочитаны племенные концепции Словацкого в контексте европейского и польского опыта прошедшего десятилетия.
[Закрыть]. Были ли эти ощущения лишь инструментом политических нападок на Остерву или же заключали в себе аргументы, которые стоило бы рассмотреть вне связи с политической принадлежностью тех, кто их артикулировал? – давайте не забывать об антиромантических аргументах Милоша! Замечание о «нюрнбергщине» – это, пожалуй, единственный след, который мог бы указать на существенные, исторически конкретные причины расхождения романтического мифа с действительностью. Спектакль Остервы, с одной стороны, оправдывал патетическую национальную риторику по обе стороны политического водораздела, но в то же самое время постоянно провоцировал вопрос об актуальном значении этой драмы. Кто тут венеды, кто лехиты? Подсказываемое театром предложение видеть в лехитах немцев, а в венедах поляков, в сущности, ставило под вопрос смысл драмы, служило лишь удовлетворению нарциссизма жертв. Напрашивались также и другие толкования. Лехиты – это принадлежащие к политической элите угнетатели, а венеды – это эксплуатируемый народ. Революционная риторика, однако, разбивалась об анахроничную художественную форму спектакля. Указывалось, наконец, и на возможность и такого прочтения: венеды – это вооруженное подполье, а лехиты – это новые преследователи неукротимого польского духа.
В драме Словацкого многие критики разглядели неприятное упоение упадническими настроениями. Рецензент газеты «Кузьница» писал: «не знаю, есть ли в мировой литературе другое такое произведение, в котором бы столько раз повторялся весь ассортимент слов, связанных со смертью, трупами, разложением»214214
A. S-r. Co myślisz starcze o ludach zachodnich? (z powodu wystawienia «Lilli Wenedy») // Kuźnica. Nr 5. 11.02.1946.
[Закрыть]. Нагая, беззащитная и хаотическая действительность, о которой писал Милош в письме Кронскому, домогалась, как видно, мифологизации. В польском культе руин, возникшем сразу после войны, Милош усматривал некое извращение, граничащее с порнографией215215
Miłosz Cz. Op. cit. S. 59.
[Закрыть]. Скорей всего, свой собственный сценарий «Робинзона Крузо» он трактовал как лекарство от возобновляемого тогда романтического культа руин. Он усматривал в послевоенной польской культуре извращенную жажду жестокости, радикальных крайностей и в то же время – нежелание трезво смотреть на реальность: «Это очень плохой симптом, что поляки разучиваются писать о своей стране»216216
Ibid. S. 159.
[Закрыть]. И происходит это тогда, когда, как подчеркивает поэт, «каждая польская тема – это тема международного значения»217217
Цит. по: Madej A. Falstart Przedsiębiorstwa Państwowego Film Polski // Historia kina polskiego. Red. Tadeusz Lubelski, Konrad J. Zarębski. Warszawa: Fundacja Kino, 2007. S. 66.
[Закрыть].
3
Анонсированная в начале 1945 года «романтическая драма» Стефана Отвиновского была опубликована год спустя, в третью годовщину восстания в варшавском гетто. «Пасха» вышла как седьмой том серии, издаваемой Воеводской еврейской исторической комиссией в Кракове. Ранее были опубликованы: «Документы преступления и мученичества» («антология «аутентичных свидетельств»), «Записки Юстины» Густы Дрэнгер (автор участвовала в Еврейской боевой организации в Кракове), «Университет бандитов» Михала М. Борвича (о яновском лагере во Львове), «Белжец» Рудольфа Редера («книга о могиле миллиона евреев, написанная единственным уцелевшим от газовой камеры в Белжеце»), «Литература в лагере» Михала М. Борвича («очерк о подпольной жизни и литературном творчестве узников яновского лагеря смерти во Львове»), а также «Ex brent» Мордехая Гебиртига («написанные во время оккупации произведения убитого немцами знаменитого еврейского народного поэта»). Во всех томах можно найти также фотографии, карты, рисунки, факсимиле рукописей.
К «Пасхе» издатели отнеслись как к документу, что само по себе еще не противоречило представлениям о романтической драме. «Драма Стефана Отвиновского, которую мы отдаем в руки читателя, – это не только художественное произведение, но также и документ; написанная во время оккупации, она выражает мысли и чувства, которые (из‐за физического террора оккупантов) поляки-гуманисты не могли высказать вслух. Этой драмой мы начинаем, таким образом, публикацию художественных произведений, являющихся документами указанного рода»218218
Otwinowski S. Op. cit. S. 7.
[Закрыть].
Леон Шиллер, ставя «Пасху» в лодзинском Театре Войска Польского осенью 1946 года, пошел как раз по этому пути. Он прочитал драму Отвиновского как документ авторских чувств, хотел обратиться к эмпатии зрителей, к «доброте сердца», тронуть публику, представить польский и еврейский опыт оккупационных лет «в сентиментальном свете, без показа адской машины фашизма»219219
Z tej drogi teatr nie zejdzie. Wywiad z dyrektorem teatrów łódzkich Leonem Schillerem [wywiad przeprowadził Jan Sokolicz Wroczyński] // Rozmowy z Leonem Schillerem 1923–1953. Red. Jerzy Timoszewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996. S. 250; впервые было опубликовано в газете «Głos Robotniczy». Nr 282. 12.10.1946.
[Закрыть]. Чтобы достичь этой цели, он следовал за намерениями самого автора, который сглаживал множество проблем, прежде всего старался не слишком заострять внимание на антисемитизме польского общества, хотя по необходимости был вынужден его в своей пьесе обнаружить. «Ужас действительности остается за кулисами»220220
Ibid.
[Закрыть]. Коронным coup de théâtre в драме Отвиновского было внезапное – лишенное какой бы то ни было психологической мотивировки – включение одного из героев, Сичинского, яростного антисемита, в спасение жизни еврейской девушки. Мнимое нарушение принципа правдоподобия не было, однако, исключительно результатом того, что правда о поведении поляков по отношению к евреям во время Катастрофы была в пьесе сглажена. Оно имело вполне реальную основу. Достаточно вспомнить знаменитое обращение Зофии Коссак-Щуцкой, взывающее к христианской помощи евреям и одновременно утверждающее, что евреи не перестали быть врагами поляков. Помощь должна была быть оказана ради чистоты христианской совести, а антисемитизм, находящий свое незыблемое обоснование в обеспечении интересов нации, придавал этой помощи еще больший блеск моральной возвышенности. Речь тут не шла об обыкновенной, «человеческой» эмпатии, к которой так хотел прибегнуть Леон Шиллер вслед за автором. Написанный Зофией Коссак-Щуцкой «Протест» бесподобно проанализировал Ян Блонский221221
Błoński J. Polak-katolik i katolik-Polak. Nakaz ewangeliczny, interes narodowy i solidarność obywatelska wobec zagłady getta warszawskiego // Błoński J. Biedni Polacy patrzą na getto. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008. S. 49–74.
[Закрыть], который следующим образом реконструировал стратегию писательницы: чтобы оказывать эффективную помощь евреям во время оккупации, требовалось отдать дань антисемитизму, беспрекословно признать его обоснованность. Только признание взаимной враждебности делало возможной действенную помощь в широком общественном масштабе.
Все свидетельства, которые остались о спектакле Шиллера, как представляется, указывают, что создателям «Пасхи» не удалось достичь поставленной перед собой цели, то есть воззвать к «доброте сердца» – или же эта цель оказалась достигнута лишь в очень узком смысле. Раздавались упреки: «Опять о евреях»222222
Так запомнил реакцию на спектакль Анджей Лапицкий. Множество бесценной информации по «Пасхе» в режиссуре Леона Шиллера содержит статья Анны Кулиговской-Коженевской «Между Катастрофой и погромом. „Пасха“ Стефана Отвиновского в режиссуре Леона Шиллера» (Kuligowska-Korzeniewska A. Między Zagładą a pogromem. «Wielkanoc» Stefana Otwinowskiego w reżyserii Leona Schillera // Kwartalnik Historii Żydów. Nr 1. Март 2005. S. 51–68), которая является первым детальным опытом изучения этого «забытого» спектакля. Во вступлении к тексту автор ставит вопрос как о том, почему Шиллер свой первый послевоенный спектакль посвятил тематике уничтожения евреев, так и о причинах его маргинализации в творческой биографии режиссера. Свои выводы автор основывает на опубликованных текстах, а также на разговорах со зрителями лодзинской постановки «Пасхи».
[Закрыть]. Пьеса Отвиновского разделила судьбу тех немногих литературных произведений, которые, как писал Блонский, «можно было пересчитать по пальцам – представляющих отношение польского общества к уничтожению евреев. […] Тема была горячей, писатели боялись, что войдут в конфликт с тем, что чувствуют и что ожидают от них читатели»223223
Błoński J. Op. cit. S. 26.
[Закрыть].
В опросе, который театр провел среди зрителей, появляются высказывания, позитивно оценивающие спектакль, но также и такие, в которых критика смешивается с самозащитой («Я поляк и не соглашаюсь со многими вещами в этой пьесе. Они несправедливы. Ошибки делаем мы все») или даже проявляется шокирующая агрессия («Жалко, что Гитлер не всех вас перебил»224224
Цит. по: Kuligowska-Korzeniewska A. Op. cit. S. 65.
[Закрыть]). Как сообщает автор, во время одного из спектаклей дело дошло до «антиеврейских выступлений»: «около 20 человек в ответ на пьесу свистели и топали, а в исполнителей летели тухлые яйца»225225
Mrozińska S. Z wywiadu ze Stefanem Otwinowskim, przeprowadzonego dn. 16 VII 1962 w Krakowie, Zbiory Specjalne Instytutu Sztuki PAN w Warszawie; цит. по: Kuligowska-Korzeniewska A. Op. cit. S. 66.
[Закрыть].
Разрыв цепочки эмпатии имеет в этом случае настолько глубокие причины, что спектакль Шиллера можно считать крайне симптоматичным. Особенно если признать, что позиция сочувствия, вчувствования в судьбу другого человека составляет одну из основ той связи, которая должна устанавливаться между сценой и зрительным залом, между сценическим персонажем и зрителем. Паралич коммуникационной ситуации, потока эмоций, установки на эмпатию указывал на поражение тех актов идентификации польского зрителя с представленной на сцене еврейской судьбой, которые должны были протекать в воображении. Отказ в эмпатии, невозможность к ней апеллировать, не останутся, однако, без последствий – они станут одной из причин распада традиционных символических структур польской культуры, в том числе польского театра. Чтобы возникла подлинная эмпатия, человек должен будет иначе идентифицировать себя в социуме, поскольку в немалой степени как раз символическая система и вызывала паралич, когда дело касалось сочувствия со страданиями евреев во время Катастрофы. В своих наиболее распространенных и социально укорененных парадигмах эта система оказалась слишком узкой, ее универсальность – мнимой; она оказалась закрыта по отношению к опыту инакости, сосредоточена на упоении своими несчастьями. То, что дало сбой в регистре воображения, вернется обходным путем в символическом регистре, расшатает его, разобьет и перестроит. Хотя на это уйдут целые десятилетия, в польском театре кульминационной точкой этой метаморфозы станет премьера «Умершего класса» Тадеуша Кантора в 1975 году. Потрясение, вызванное спектаклем Кантора, было результатом скрытых негоциаций, которые в течение многих лет шли внутри польской культуры между ее символическим пространством и «обыкновенным человеческим рефлексом», о котором говорил Милош, когда объяснял обстоятельства написания стихотворения Campo di Fiori226226
Gorczyńska R. Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze. Nowy Jork: Bicentennial Publishing Corporation, 1983. S. 119; цит. по: Błoński J. Op. cit. S. 15.
[Закрыть]. Помня о состоянии замороженности, каковому этот рефлекс подвергался в повседневной общественной практике, его «обыкновенность» можно считать скорее риторической условностью.
Стоит подчеркнуть, что то, что довелось пережить Шиллеру, не было в те времена исключением. Александр Форд начал работу над «Пограничной улицей» в 1946 году. С самого начала тема и подход к ней вызывали беспокойство. Наверняка из‐за этого режиссер в определенный момент перенес постановку фильма в Чехию. Сценарий неоднократно перерабатывался. Форду также не было чуждо стремление воззвать к эмпатии зрителей, коль скоро героями своего фильма он сделал детей одного из варшавских дворов – детей, чьи судьбы радикальным образом изменились и в конце концов разделились во время войны. Тридцать лет спустя Кантор в «Умершем классе», так же как Форд в «Пограничной улице», прибегнет к фигуре ребенка и опыту детства. Эти два произведения объединяет так же мотив вальса «Франсуа». В фильме, правда, он звучит только один раз – как мотив шарманки, который сопровождает экскурсию детей накануне войны, но в сценарии предполагалось, что он будет появляться многократно – как воспоминание о том мире, который был безвозвратно утрачен и уничтожен.
Станислав Яницкий назвал «Пограничную улицу» фильмом спонтанным, созданным под напором личных эмоций227227
Janicki S. Aleksander Ford. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1967. S. 54.
[Закрыть], связанных не только с Катастрофой: «Во время создания сценария „Пограничной улицы“ (1946) по Польше шла первая после войны волна антисемитизма»228228
Madej A. Na tej ulicy nikt już nie mieszka // Madej A. Kino, władza, publiczność. Kinematografia polska w latach 1944–1949. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Prasa Beskidzka, 2002. S. 185.
[Закрыть]. Фильм был закончен в 1948 году, и тогда же его показали на кинофестивале в Венеции, где он получил награду. Зимой 1948/49 года руководство «Польского фильма» обратилось к Марии Домбровской с просьбой посмотреть «Пограничную улицу» и дать ей оценку. Домбровская сразу же поняла, что ее мнение должно стать лакмусовой бумажкой, которая выявит будущую реакцию польского общества на произведение Форда. В связи с этим она переживала большое беспокойство. Ее амбивалентное отношение к фильму запечатлено в дневниках. С одной стороны, она была очень тронута: «Вся еврейская трагедия показана прекрасно и потрясает, поскольку, создавая ее, евреи-марксисты забыли о марксизме и делали ее с настоящей подлинной любовью»229229
Dąbrowska M. Dzienniki powojenne 1945–1965. Warszawa: Czytelnik, 1997. S. 374. T. 1
[Закрыть]. С другой стороны, фильм ее возмутил: «Польская часть искажена, что бросается в глаза, поскольку делали ее с едва скрываемой неприязнью. Правда, авторы отдали дань Польше, однако не смогли избежать фатальных ошибок, которые приводят к тому, что этот фильм, особенно будучи снятым в рамках государственного предприятия, представляет собой нечто возмутительное, это замаскированная антипольская пропаганда. Как теперь из всего этого выкарабкаться?»230230
Ibid.
[Закрыть] Домбровская также отметила, что фильм не достигает своей цели: вместо того чтобы бороться с антисемитизмом, распаляет его.
Действительно, реакцию Домбровской можно считать лакмусовой бумажкой. Во-первых, стоит обратить внимание на то, что писательница не сомневается, что фильм – это прежде всего еврейское произведение, состряпанное марксистами-евреями. Для нее не составляет ни малейшей проблемы отделение «польского» от «еврейского» – и она не чувствует по этому поводу никакого морального дискомфорта (а между тем к ней обратились за мнением как к человеку, обладающему моральным авторитетом). По всей видимости, война внесла в этом вопросе абсолютную ясность для всех: разграничительная линия оказалась проведена мощно и бесповоротно. Домбровская, восхищаясь в «Пограничной улице» феноменально сыгранной ролью маленького Давидки, не преминула заметить, что этот, «кажется, польский мальчик» был прекрасен в «роли маленького еврейчика». «Польский мальчик» создал, по мнению писательницы, «абсолютно еврейский типаж, даже в жестах»231231
Ibid.
[Закрыть]. Ее желание во что бы то ни стало определить «подлинное» происхождение юного актера, а также несколько двузначно звучащая похвала (основанная на отождествлении «еврейства» прежде всего с внешними чертами) могут привести в замешательство.
Нелегко также оставить без комментария замечания о «еврейской трагедии», представленной в фильме с «подлинной человеческой любовью». Во-первых, Домбровская основывается на предположении, что «подлинная человеческая любовь» в принципе не является чувством, доступным «марксистам-евреям». Во-вторых, она не задает себе вопрос, что происходило с «подлинной человеческой любовью» во время Катастрофы и пристало ли вообще в этих обстоятельствах пользоваться такими сентиментальными клише232232
О сложном, часто внутренне противоречивом отношении Домбровской к евреям Ханна Кирхнер пишет: «После войны, несмотря на сильную волну информации о размерах Катастрофы, в ней (т. е. в Домбровской. – Примеч. пер.) продолжают жить противоречивые суждения и эмоциональные рефлексы по отношению к евреям, наверняка в результате их избыточной репрезентации в структурах навязанного режима. Присуща ей и – столь живучая и сегодня – потребность соперничать в страданиях, как если бы Катастрофа – эта чужая, чуждая смерть – чем-либо угрожала мартирологии поляков» (Kirchner H. Holocaust w dziennikach Zofii Nałkowskiej i Marii Dąbrowskiej // Literatura polska wobec Zagłady. Red. Alina Brodzka-Wald, Dorota Krawczyńska, Jacek Leociak. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, Instytut Naukowo-Badawczy, 2000. S. 113).
[Закрыть]. В этом контексте стоило бы припомнить написанные также в 1940‐х годах «Размышления о еврейском вопросе» Жана-Поля Сартра. С необычайной проницательностью он показывал, каким образом евреи, в рамках европейской культуры, оказались исключены из круга – столь высоко ценимых Домбровской – «подлинных человеческих чувств». Антисемит, пишет Сартр233233
Сартр Ж.-П. Портрет антисемита. СПб.: Азбука-классика, 2006.
[Закрыть], для того чтобы отказать еврею в человеческих качествах, неизменно стремился представить его только евреем, иначе говоря – кем-то всегда видимым в социальном пространстве и потому легко поддающимся стигматизации парией, исключенным из человеческого сообщества. Демократ же как раз наоборот: позволял еврею принадлежать к общечеловеческому сообществу ценой вытеснения им своего еврейства. Это, в свою очередь, приводило к тому, что эта принадлежность становилась несколько абстрактной и слишком универсальной идеей. Так или иначе, в зеркале общества еврей всегда отражался как существо, движимое двойной мотивацией: с одной стороны, он человек, с другой – еврей. К тому же двойная мотивация самим евреем переживалась как раздирающий его изнутри конфликт, пусть этот конфликт и проецировался внутрь него из социального пространства.
В связи в записанными в дневнике Домбровской замечаниями относительно антипольского характера «Пограничной улицы» хотелось бы поставить вопрос, не является ли любой рассказ о еврейской судьбе во время Катастрофы по определению «антипольским». Опасения Домбровской, что фильм только распалит антисемитские взгляды, опять же следует противопоставить анализу Сартра, который пишет о воцарившемся во Франции сразу же после войны молчании по отношению к уничтожению евреев. Сартр не сомневался, каковы были его причины: «Вся Франция ликует, незнакомые люди обнимаются на улицах, забыв, кажется, на время о всякой социальной борьбе, газеты отводят первые полосы рассказам военнопленных и депортированных. Что ж, сказали и о евреях? Приветствовали возвращение тех, кому удалось спастись, почтили память погибших в газовых камерах Люблина? Ни слова. Ни строчки газетной. Потому что нельзя раздражать антисемитов. Больше, чем когда-либо, Франция нуждается в единстве»234234
Сартр Ж.-П. Портрет антисемита.
[Закрыть].








































