Текст книги "Польский театр Катастрофы"
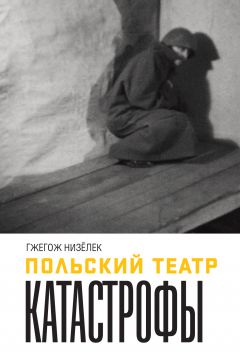
Автор книги: Гжегож Низёлек
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Когда Майзельс оказывается наедине с другом, он ему прямо объясняет причины своего смущения и неловкости: «Знаешь, Виктор, как я на них всех смотрю? Я смотрю на них так, будто хочу ответить себе на вопрос: укрыли бы они меня, хоть кто-нибудь из них, если бы каким-то недобрым чудом вдруг вернулись те времена»344344
Lutowski J. Próba sił. S. 75.
[Закрыть]. Это, пожалуй, самая беспощадная и политически самая смелая реплика во всей пьесе. Мокшицкий шокирован этим признанием, считает его проявлением болезненной сверхчувствительности, просит друга опомниться, забыть страшное прошлое, выкрикивает: «Ты должен лечиться». Это представляется обоснованным в той мере, в какой каждое возвращение к травматическому прошлому вызывает у Майзельса сильные телесные реакции: он слабеет, у него колет сердце, он задыхается, теряет дар слова или вдруг начинает кричать. Его страдающее тело воспроизводит всю ту «порнографию» страданий, бороться с которой призывал Александр Боген и которую осуждал Болеслав Берут. Также и Мокшицкий, когда слушает рассказ друга о том, каким образом во время войны его унизил польский врач-антисемит (велевший ему обнажить половые органы, а затем закрывший его, перепуганного, на ключ в своем кабинете), вдруг начинает кричать: «Прекрати это рассказывать!» После того как Майзельс уходит с дня рождения, гости коротко, но страстно обмениваются мнениями. И что характерно, трагические переживания Майзельса во время Катастрофы тотчас мобилизуют нарциссическое, страдающее польское «мы». На сочувственное замечание одного из гостей: «Да, этот человек выглядит как тот, кто через многое прошел…» кто-то другой отвечает: «А мы что, не проходили?»345345
Ibid. S. 81.
[Закрыть] Впрочем, и сам Майзельс знает, что его присутствие «отравляет» других, что его переживания исключают его из общества, что никто не хочет слушать его рассказ, что его случай неизлечим: «Я отравляю!» Когда в конце концов он встречает своего преследователя в клинике, которой заведует Мокшицкий, он переживает сильное потрясение; по распоряжению Мокшицкого его отвозят домой, то есть в очередной раз изолируют от других (хотя в этой ситуации более логично было бы оставить его в больнице). Как видно, его случай не поддается чудесному излечению в соцреалистической клинике.
Переживания Майзельса, их травматическая неизбывность относятся как раз к тому прошлому, которое в соцреалистической культуре должно было подвергнуться вытеснению, к прошлому, забыть которое требовал в своей вроцлавской речи Болеслав Берут – несмотря на то что в психике людей оно разыгрывается «и сегодня». Благодаря Майзельсу, что правда, то правда, этический порядок оказывается восстановлен в результате разоблачения противников новой реальности, но сам он оказывается в ней, этой реальности, ненужным, лишним. Поэтому его рассказ слушателям столь трудно вынести, а зрителям – невозможно принять избыточное присутствие его фигуры в поле зрения. Майзельс в самом буквальном смысле слова – лиминальное бытие. Он не является ни активным сторонником нового порядка, ни предметом коррекционных и воспитательных процедур, ни классовым врагом. Когда он исчезает со сцены, мы можем быть уверены, что его травматический опыт будет продолжать в нем жить, что сам он будет вынужден оставаться изгоем в действительности, ищущей своей идеальной формы. Одновременно, однако, мы чувствуем, что исчезает он уже раз и навсегда.
Даже если появление Майзельса отвечает поставленному идеологическим контрактом условию (разоблачение «врага»), его сценическое присутствие самим фактом своей «излишнести» и «избыточности» приобретает огромную фантазматическую силу. А фантазм как указывает на травматический предмет, который должен оставаться невидимым, так и обнажает «у самых корней» действие защитных механизмов (Майзельс – непрошеный гость, его рассказ прерывается слушателями, он сам постоянно изолирован от других, а в конце его почти что силой убирают со сцены). Фантазм создает образы, но не позволяет придать им полноту смысла. Он защищает и преследует.
Майзельс воплощает принцип нарушения порядка – принцип, который со времен проектов Просвещения ассоциировался с фантазматической фигурой еврея; он входит, таким образом, в союз с силами хаоса, распада, дезорганизации. Более того: выявляет абсурд наличной действительности. Как адвокат, по долгу службы он вынужден взять на себя защиту в судебном процессе бывшего коменданта Vernichtungslager (как только цензура это пропустила?). Если задуматься, что бы это могло значить, всплывет мотив «еврейской услужливости», которому много места посвятила в своих трудах Ханна Арендт, обращая внимание на то, что гражданам еврейского происхождения беспрестанно приходится доказывать свою лояльность по отношению к государству346346
«Из принципа, но и из‐за отсутствия выбора, они всегда были верны государству. Гордясь своей лояльностью, стремясь подтвердить ее каждому правительству, они не замечали, что благодаря этому вызывали у каждого правительства недоверие. Антисемитское обвинение в предательстве – это вымысел, но вера в него поддерживается как раз тем, как ведут себя сторонники ассимиляции» (Arendt H., Auden W. H. Drut kolczasty. Warszawa: Biblioteka kwartalnika «Kronos», 2011. S. 54).
[Закрыть]. Эта тема на тот момент должна была быть Бардини близка.
Ежи Лютовский еще раз вернулся к фантазматической фигуре еврея в третьей части триптиха «Школа филантропов» – пьесе, которую он написал несколько лет спустя, уже в изменившихся после оттепели политических обстоятельствах. Драма разыгрывается в Испании XV века и рассказывает о крушении ассимиляционной утопии. История любовной страсти между еврейкой Рахелью и испанским аристократом Алонсо показана на фоне массового изгнания евреев с иберийского полуострова, которое как раз тогда происходило. Любовный союз героев распадается, когда Алонсо выдает свое – до этого скрываемое – презрение по отношению к «еврейке», а Рахель демонстративно начинает воплощать созданный его воображением образ женщины злой, похотливой, лишенной глубоких, «христианских» чувств. Миф любви распадается под напором фантазма еврейской инакости, а христианство как универсальная религия любви обнаруживает свои границы. Лютовский в этот момент уже, очевидно, прочел «Размышления о еврейском вопросе» Сартра, но по сути все еще продолжает развивать мотив, намеченный в «Пробе сил». Ведь и там фигуру еврея отчасти создает сам факт общественной изоляции.
Попытку (рискованную) бросить этому фантазму вызов (и в то же время – бросить вызов собственному травматическому опыту и собственной позиции после возвращения на родину) и предпринял Александр Бардини в своем первом поставленном после возвращения в Польшу спектакле – но история польского театра эту попытку абсолютно не заметила. Это еще одно доказательство, что пора включить соцреализм в историю польской культуры на совершенно новых принципах, приняв предложение Войцеха Томашика интерпретировать социалистический реализм «как одно из звеньев в цепи перемен, которым было подвержено искусство ХХ века, и как часть все той же культурной системы, правила ориентации в которой наблюдателю уже известны»347347
Tomasik W. Op. cit. S. 17.
[Закрыть] – то есть не как аберрационный, изолированный от других культурных формаций идеологический конструкт, который можно подвергать лишь бесплодным ритуалам разоблачения. Прав так же и Здзислав Лапинский, когда пишет: «В основу изучения социалистического реализма должна лечь определенная рабочая гипотеза о том обществе, которое его породило. Как представляется, более существенны тут те черты, которые объединяют литературу с другими общественными институтами, чем те, которые ее от них отличают»348348
Łapiński Z. Jak współżyć z socrealizmem. Szkice nie na temat. Londyn: Polonia, 1988. S. 93.
[Закрыть]. При таком подходе соцреализм уже не представляется доктриной, полностью изолированной от того реального опыта, через который проходит данное человеческое сообщество. Более того, Лапинский указывает на лежащий в его основе аффективный компонент: «В размышлениях о роли социалистического реализма часто указывали на то, каким образом он фальсифицировал представляемую им действительность. Еще чаще его интерпретировали в качестве формы воздействия на читателей. Лично я не искал бы ключа к этой загадке ни в понятии мимезиса, ни в понятии убеждения. То, что эта доктрина и генерированные ею продукты были приняты, составляло прежде всего коллективный акт подчинения, акт самоунижения в том, что общество считало смыслом своего существования. Это принятие означало акт отречения при посредстве литературы от других – казавшихся неизбывными – ценностей, например национальных или религиозных. […] Я бы выдвинул, таким образом, гипотезу, что главная функция социалистического реализма, по крайней мере в ПНР, была подготовительная. Прежде чем будут внушены новые ценности, нужно свергнуть старые. Свергнуть не путем убеждения, а вынуждая открыто участвовать в обряде профанации»349349
Ibid. S. 95.
[Закрыть].
Лапинский обращает внимание на тот же самый аффект, который, по мнению Пётровского, подвергался в соцреализме вытеснению: униженность. Он всплывает тут, однако, уже не в рамках представляемого мира, а как то, что приводит в действие культурный ритуал унижения и самоуничижения, направленный на фундамент символической системы сообщества. Лапинский интерпретирует это явление исключительно в перспективе идеологического гнета, культуры «порабощенного разума»350350
По выражению Чеслава Милоша. – Примеч. пер.
[Закрыть], он не хочет докапываться до его сложного аффективного генезиса. А ведь «акты самоунижения» образуют остов, на котором держится вся послевоенная польская культура, не только в ее идеологических формах, но также в формах анархичных и спонтанных, и эти акты в значительной мере выходят за пределы соцреализма.
Как представляется, Александр Бардини разделял присущую и многим другим польским евреям иллюзию, что радикальный проект соцреалистической культуры сможет сыграть для них роль оборонительного щита: позволит «не быть» евреем и в то же время участвовать в великом деле культурного пересмотра. Этот механизм объяснял Роман Зиманд: «Коммунисты исполнили мечту ассимилированных евреев или же в любом случае – значительной их части. Они создали ситуацию, в которой евреи одновременно и существовали, и не существовали»351351
Zimand R. Piołun i popiół (Czy Polacy i Żydzi wzajem się nienawidzą?). Warszawa: Biblioteka Kultury Niezależnej, 1987. S. 29.
[Закрыть]. Писал об этом и Михал Гловинский: «Я уверен: к вере в то, что предлагала коммунистическая пропаганда, склонял опыт времен Катастрофы. Тот мир был царством преступления и жестокости, он был лишен смысла, а мир, к которому мы стремимся, который в поте лица строим, смысл имеет, он опирается на мудрые, благородные и справедливые принципы. Все то, что происходило в те ужасные годы, уже не повторится. Это убеждение ослепляло, в каком-то смысле – затмевало действительность»352352
Głowiński M. Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010. S. 138.
[Закрыть].
В одном моменте стоило бы поправить высказывание Гловинского: как раз повторение было принципом этой действительности. И повторение это основывалось вовсе не на таких уж простых правилах. На повторении, кстати, строится и пьеса Ежи Лютовского. Гродецкий – черный герой этой драмы – совершает два преступления. В прошлом он хотел выдать Майзельса гестапо, сейчас планировал убить Есёнека – работника-рационализатора, которого лечат в больнице от язвы желудка. Он два раза оказывается разоблачен – и Майзельсом, и Есёнеком. Это повторение является одновременно и самым последним, замыкающим фактом, который вносит абсолютную справедливость в представляемый мир. Только повторение заключает в себе обещание, что что-то больше не повторится. При этом ситуация угрозы должна иметь место еще раз, чтобы идеологический защитный механизм мог доказать свою эффективность. Условием последнего и разрешающего все конфликты повторения в пьесе Лютовского является то, что Есёнек не может поначалу вспомнить, откуда ему знакомо лицо Гродецкого. Если бы это ему удалось, не было бы второго и третьего актов. А лечение сном, которому он подвергается в больнице, на какое-то время отдаляет возможность что-либо вспомнить и, соответственно, открывает поле для повторения преступления. Если, таким образом, сослаться на классическую фрейдовскую оппозицию повторения (связанного с неустанным, неосознанным повторением травматических эффектов событий прошлого) и воспоминания (которое кладет конец травматическим повторениям благодаря осознанию того, что на самом деле случилось в прошлом), следовало бы прийти к выводу, что соцреализм стремился освободиться от травматического прошлого исключительно благодаря принципу повторения. Как я, однако, уже объяснял, пьеса Лютовского не до конца соответствует идеологическому постулату радикального повторения, которое раз и на всегда закроет прошлое, поскольку она оставляет Майзельса с его травматическим прошлым, не обещает ему выздоровления. Столь существенный для послевоенной польской культуры больничный топос, привносящий перспективу вылеченного общества, как раз тут обнаруживает свои ограничения. Стоит ли добавлять, что это составляет глубоко недогматический элемент пьесы «Проба сил».
Александр Бардини был, как представляется, необыкновенно чуток к принципу – назовем его своим именем – маскирующего повторения. Поставленная им в варшавском театре «Польски» в 1953 году пьеса Казимежа Брандыса «Справедливые люди» рассказывала о революции 1905 года в Лодзи. Многонациональность этого города тут и предполагается, и даже обнаруживается, и в то же время подвергается своеобразному замалчиванию, видоизменяется. Можно расшифровать немецкое, польское, русское или французское происхождение тех или иных героев, однако с трудом можно было бы догадаться, у кого из них еврейские корни. Единственно можно предполагать, что «немецкая» семья Краусов на самом деле репрезентирует когда-то немецких, а теперь уже несколько полонизированных евреев. Евреем мог бы быть также и Шнайдер (в некоторых спектаклях его играл сам Бардини), говорящий по-польски с легким немецким акцентом – работник на фабрике Крауса, провозглашающий лозунги интернационализма. Вот как характеризовал его Бардини в своих режиссерских заметках: «Он член СДКПиЛ353353
Партия «Социал-демократия Королевства Польского и Литвы». – Примеч. пер.
[Закрыть]. Он опытный [партийный] деятель – владеющий собой; в борьбе с капиталистами он последователен, тверд и беспощаден. Жовиальный и добродушный; в отношении с друзьями добр и сердечен. Живет в большой дружбе с Высоцкими. В обращении простой и непосредственный»354354
Bardini A. Uwagi inscenizacyjne // Brandys K. Sprawiedliwi ludzie. Warszawa: Czytelnik, 1954. S. 119–120.
[Закрыть]. Идеология СДКПиЛ, противопоставляющая себя националистическим идеологиям (в том числе – концепциям борьбы за независимость Польши), в национал-демократической пропаганде ассоциировалась, как известно, с еврейским элементом, враждебным идеям «польского духа»355355
Śpiewak P. Żydokomuna. Interpretacje historyczne. Warszawa: Czerwone i Czarne, 2012. S. 41.
[Закрыть]. Какое бы то ни было отчетливое позиционирование евреев в этом революционном и историческом прошлом было уже в то время политически и пропагандистски чем-то неудобным и даже невозможным, противоречило стратегии замалчивания. Оно могло или пробуждать враждебные позиции (евреи-фабриканты, евреи-эксплуататоры), или же подтверждать стереотип «жидокоммуны» (представляя революцию как дело еврейского пролетариата, поддержанное взбунтовавшимися отпрысками еврейских промышленников). Это представляется парадоксальным, потому что именно события революции 1905 года позволили, по мнению историков, впервые столь остро поставить вопрос: каким образом евреи, благодаря приобретающим все больший вес политическим партиям должны участвовать в политике нееврейского общества? Известно, что Александр Бардини, приступая к постановке «Справедливых людей», произвел фундаментальные исторические исследования. Впрочем, он и сам происходил из Лодзи, так что не мог не отдавать себе отчет, в какой степени лодзинские евреи участвовали в революции 1905 года.
Слово «еврей» звучит в пьесе Брандыса исключительно в финальном революционном призыве Янека – самого положительного из всех героев: «Все должны услышать. Поляк, русский, немец, еврей!» Однако мы не найдем слов «еврей» или «еврейский» в постановочных заметках Александра Бардини, которые были добавлены к изданию, когда пьеса выходила отдельной книгой. Тем самым еврей становится исключительно интенциональным, призрачным бытием, позволяющим формулировать принцип абстрактного братства (ведь другие национальности, перечисленные в финальном призыве Янека, находят на сцене своих реальных представителей). Еврей, превращенный в благородную абстракцию революционного постулата братства всех людей, породил, по мнению Ханны Арендт, современные формы антисемитизма. Тем самым идеология, которая должна была защищать – как объяснял Гловинский – от повторения Катастрофы, воспроизводила, по сути, исторические условия, которые сделали ее возможной.
О еврейском происхождении героев замалчивается также в пьесе Леона Кручковского «Юлиус и Этель», посвященной казни Розенбергов (Бардини поставил ее в варшавском театре «Польский» в 1954 году), хотя без сомнения оно должно было иметь значение для режиссера – как раз как нечто замалчиваемое, постулирующее братство всех преследуемых356356
Об эмпатической связи Сильвии Плат с судьбой Розенбергов, олицетворяющих еврейские жертвы, пишет Джеймс Э. Янг в книге: Young J. E. Writing and Rewriting the Holocaust. Narrative and the Consequences of Interpretation. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1988. P. 119–120.
[Закрыть]. Замалчивание, однако, не означало незнание. В послесловии к изданию драмы Стефан Арский таким образом распутывал цель и методы «дьявольской шпионской интриги»: «А тогда каждый гражданин Соединенных Штатов поймет, кто виновен во всех несчастьях нации. Вот на скамье подсудимых сидят прогрессивные люди, коммунисты, евреи, защитники мира и в то же самое время – шпионы, предатели, которые выдали врагу величайшую из военных тайн этой страны»357357
Arski S. Posłowie // Kruczkowski L. Juliusz i Ethel. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954. S. 111.
[Закрыть]. Быть может – в чем отдавал себе отчет Бардини – это замалчивание составляло условие для того, чтобы вызвать у зрителя эмпатию. Наверняка воображение режиссера также захватывала ситуация замкнутости, затравленности, ожидания смерти. Бардини вернется к теме «муки надежды», ставя в 1963 году в варшавском театре «Вельки» – вместе с Тадеушем Кантором – оперу «Узник» Луиджи Даллапиколо.
Спектакль «Юлиус и Этель» проехал по Советскому Союзу с триумфальным турне, везде вызывая аплодисменты зрительного зала и слезы потрясения. Главной темой драмы были последние часы жизни супругов Розенбергов, обвиненных в шпионаже по атомному проекту и приговоренных к смертной казни. Кручковский сделал акцент на эмоциональный, а не идеологический месседж (последний в определенном смысле был очевиден и вызвал памятную реакцию Владислава Броневского358358
Как передавал Александр Ват, пьяный Броневский на премьере «Юлиуса и Этель» кричал: «Тут из шпионов делают героев» (Wat A. Mój wiek. T. 1. Warszawa: Czytelnik, 1990. S. 65).
[Закрыть]). Драма говорит о том, как противостоять искушению – не прогнуться и не предать собственные идеалы (пьесу начинает сцена установки в камере Этель Розенберг телефона, который мог соединить ее с бюро генерального прокурора: признание своей вины гарантировало помилование), а также о стойкости перед лицом смерти. Это была также драма семьи, приговоренной к гибели (сцена прощания с детьми составляла одну из эмоциональных кульминаций пьесы Кручковского). Семью Розенбергов уничтожала враждебная система, а ее сценическим символом был как раз телефонный аппарат, как инструмент психического садизма: «Чиновник, которому пришла эта идея, наверняка изучал какой-то учебник по судебной психологии, которая в механистическом духе позволяет оценить выносливость нервов обреченного»359359
Natanson W. Na scenach warszawskich // Twórczość. 1954. Nr 6. S. 197.
[Закрыть]. Как и в «Пробе сил», тут появляется мотив тела, подвергнутого прессингу травматического аффекта, тела-узника, тела, мучимого памятью или перспективой гибели.

На сцене театра «Польски» Бардини создал мистерию стойкости. В аскетической, монументальной сценографии Отто Аксера, представляющей тюремную камеру («голая, уныло-серая стена, тяжелые, железные, решетчатые двери, которые закрывают путь к свободе, койка, стол, стул»360360
Szydłowski R. Bohaterowie tragedii amerykańskiej // Świat. Nr 23. 06.06.1954.
[Закрыть]), «в однообразном белом свете, который только порой, в самых трагических моментах становится немного приглушен», с поэтической выразительностью вырисовывались фигуры главных героев («фигуральные композиции плачущего дерева, в которые сливаются силуэты Юлиуса и Этель»361361
Ibid.
[Закрыть]). Убогость и однообразие действовали с огромной силой, они испытывали выносливость зрителя – что следует интерпретировать как смелую и отнюдь не часто практикуемую в то время аффективную стратегию. Однако самым сильным инструментом воздействия была музыкальная сторона спектакля: «Мне кажется, что Бардини подошел к тексту Кручковского как к партитуре прекрасной симфонии. […] Музыкальное ухо уловит эту специфику спектакля в диалогах Юлиуса и Этель, в которых Халина Миколайская и Тадеуш Кондрат никогда не выпадают из предназначенной им мелодики. Эта мелодия не навязана сверху. Она проистекает из подлинного переживания, а в то же самое время голосовые инструменты актеров настроены так, что их монологи и реплики сливаются в словесно-музыкальный дуэт незабываемого звучания»362362
Ibid.
[Закрыть]. Когда Халина Миколайская в финале шла к зрительному залу, публика плакала. Так писал Богдан Чешко: «Эти два человека излучают столько прекрасного благородства, столько правдивого, лишенного дешевого пафоса, геройства, что действительно никто не должен стыдиться слез, которые наворачиваются на глаза, когда смотришь на них и их слушаешь. Я этих слез не стыжусь, наоборот – я за них благодарен»363363
Czeszko B. Róże dla Juliusza i Ethel // Życie Warszawy. Nr 117. 18.05.1954.
[Закрыть]. А вот Роман Шидловский: «Занавес медленно падает. В зале тишина. Тронуты все, и мало у кого в зрительном зале варшавского Камерного театра не подступает ком к горлу от обиды и боли»364364
Szydłowski R. Op. cit.
[Закрыть].

Впрочем, не меньшее впечатление на зрителей производил и другой персонаж: «маленький, трусливый зверек», Дэвид Гринглас – брат Этель и предатель, «человек-тряпка»365365
Szczepański J. A. Nad «Juliuszem i Ethel» // Teatr. 1954. Nr 13. S. 16.
[Закрыть], который позволил системе унизить и запугать себя. Очевидным образом тут действовал принцип расщепления, о котором я вспоминал ранее, ссылаясь на пример романного цикла Брандыса «Между войнами». Драма Кручковского ведь была не только идеологическим инструментом шедшей тогда холодной войны (хотя в том числе выполняла и эту функцию), но также реализовывала принцип повторения как метода защиты от действия военной травмы. По одну сторону происходила сублимация страха и утверждение стойкости (супруги Розенберг), по другую – оставался животный страх, унижение, желание выжить любой ценой. Расщепление – это, как известно, стратегия защиты от нежеланного, деструктивного аффекта, которая, однако, всегда дает ему голос под прикрытием видоизмененной формы (чего проект Берута уже не предполагал). Фигура униженного человека, которая должна была исчезнуть из соцреалистического искусства, не переставала негоциировать новые и новые условия своего попадания в поле зрения, одновременно доказывая, что соцреалистический театр не был чужд психологических сложностей. «Тадеуш Сурова в течение нескольких минут обрисовывает историю жизни и подлости Дэвида Грингласа поразительным образом – и в то же время по-актерски виртуозно»366366
Szydłowski R. Op. cit.
[Закрыть]. «Есть еще поразительная сцена с Грингласом. Кручковский проявляет тут почти бернаносовское чувство справедливости и показывает крайние последствия зла – того зла, которое как бы еще вынуждено поносить добро. И как в третьей картине он тронул зрителя образом победы добра, так тут поражает образом моральной бездны, звериности, используемой антигуманным общественным строем»367367
Misiołek E. «Juliusz i Ethel» // Dziś i Jutro. Nr 23. 06.06.1954.
[Закрыть]. «Сурова точно следует концепции Кручковского, прекрасно передает психопатические состояния Гринграса, его возбуждение, метания, словно крысы в клетке, и смену охватившего его, как Иуду, чувства вины радостью, что он спасся, остался жив»368368
Jaszcz [Jan Alfred Szczepański]. Kruczkowskiego «Juliusz i Ethel» // Trybuna Ludu. Nr 143. 24.05.1954.
[Закрыть]. «Показать в течение нескольких минут всю жизнь и характер ничтожного, подлого человека – нелегкая задача. С ней в полной мере справляется в прекрасной сцене Тадеуш Сурова – как брат-Иуда Этель, Дэвид Гринглас. Еще одна замечательная роль. Есть в этом персонаже граничащая с безумием неврастения человека, который стал палачом своей сестры. Есть рефлекс остатка совести, который заставляет его молить ее в последнюю минуту ее жизни о прощении. Наконец, есть тупое, ограниченное мышление глупца и все превозмогающий страх, соединенный со звериным эгоизмом, который заставляет его на глазах зрителей еще раз капитулировать и предать свою сестру уже кардинальным и необратимым образом. Обнаружение пружин когда-то совершенного предательства в этой сцене, повторяющей сжато и концентрированно еще раз этот отвратительный психический процесс – шедевр как автора, так и актера, играющего эту замечательную роль»369369
Szarzyński S. Zwycięstwo człowieka // Sztandar Młodych. Nr 121. 22.05.1954.
[Закрыть]. Также, однако, как и в случае с фигурой адвоката Майзельса в пьесе Лютовского, эпизод Грингласа, по мнению некоторых рецензентов, «полностью выпадал из рамок пьесы» и даже производил «досадное впечатление»370370
Beylin K. Okrutnie wyróżnieni // Express Wieczorny. Nr 121. 22–23.05.1954.
[Закрыть]. Отмечался стилистический разнобой, который по отношению ко всему остальному спектаклю вносила эта сцена, ее порывистость, «экспрессивность»371371
Misiołek E. Op. cit.
[Закрыть], критике подвергалась излишняя «истеричность» актера372372
Czeszko B. Op. cit.
[Закрыть]. Стилистическое и аффективное неслияние эпизода Грингласа с целым этого спектакля я прочитываю как след выпадшей из поля зрения другой фигуры униженного человека, то есть как сопротивление идеологически рекомендуемой и психологически приветствуемой героизации военного опыта.

4
Казимеж Выка, подводя итоги первого послевоенного театрального сезона, сокрушался, что он принес на польские сцены стихийный ренессанс творчества Запольской373373
Wyka K. Renesans Zapolskiej, czyli omdlenie teatru // Twórczość. 1946. Z. 3.
[Закрыть]. (Напомним, что Александр Бардини в день келецкого погрома давал премьеру «Открытого дома» Балуцкого374374
Сопоставимого с Габриэлей Запольской автора комедий нравов. – Примеч. пер.
[Закрыть].) Легко представить как то, по какой причине критик был огорчен, так и то, почему директора театров принимали именно такие репертуарные решения. Выка формулирует их открыто. Ожидания были другие: послевоенную жизнь театра должна была бы открывать постановка «Стойкого принца»375375
Пьеса Кальдерона в переводе Юлиуша Словацкого. – Примеч. пер.
[Закрыть] – Выка, указывая на это название, наверняка вспоминал довоенную постановку Остервы, которая объездила почти всю Польшу, собирая массовую – насколько это возможно в театре – публику. Руины театра «Вельки», как предлагает Выка, могли бы стать местом представлений под открытым небом, на манер довоенных спектаклей «Редуты». Именно к такому этическому пафосу должен был бы после войны обратиться театр. Нетрудно догадаться, чем был вызван такого рода репертуарный выбор: за ним стояла потребность возвысить недавние страдания, вписать их в парадигму польского романтизма, столь сильно разбуженного к жизни в функциях как призыва к борьбе, так и утешения в поражении в годы оккупации. Театр должен был стать не свидетелем разрушений, а как раз наоборот – residuum неуничтожимого коллективного духа, преемственности культурных основ. Польский романтизм представлял стратегию беспамятства, которая вполне могла соревноваться с берутовской идеей распространения культуры.
В таком как раз ключе Мечислав Яструн сразу же после войны требовал возвращения на сцену «Дзядов»: «Действительность концентрационных лагерей, крематориев, массовых захоронений, гибели миллионов заново актуализировала произведение, написанное сто лет назад»376376
Jastrun M. Dwie współczesności «Dziadów» drezdeńskich, 1945 // Listy Teatru Polskiego. Warszawa, 1964. Nr. 78. S. 46.
[Закрыть]. Эта фраза, прочитанная с сегодняшней перспективы, может удивлять. Только необычайно сильная, даже отчаянная потребность поместить невообразимую катастрофу в рамки понятного для сообщества символического порядка могла продиктовать Яструну эти слова. Остается, впрочем, открытым вопрос, формулировал ли он свое собственное мнение или действовал как медиум коллективных желаний. Гибель евреев, сигнализированная тут через метонимию крематориев, появляется уже как общая часть общего страдания, «гибели миллионов». Нет причины отделять ее от остальных военных переживаний и выделять особо – она становится частью общей судьбы, которую можно заключить в известную парадигму, объяснить и выразить с помощью драмы Мицкевича. Заново оживают сильные традиции польского театра как театра определенного сообщества. Процесс универсализации Катастрофы начинается как раз в рамках романтических и театральных кодов польской культуры377377
См.: Duniec K., Krakowska J. Nie opłakali ich? // Didaskalia. 2011. Nr 105. S. 2–9.
[Закрыть]. Тут, на территории театра, быстрее всего отмирает модель культуры как свидетельства чужого страдания, уступая место романтической модели соучастия, тотального сообщества – готового вобрать любую форму исторического катаклизма в «извечный» язык мифов и символов, триумфально обновляемый в условиях исторической катастрофы. Наилучшим примером является тут послевоенная постановка «Лиллы Венеды» Словацкого, открывающая деятельность театра «Польски», все еще окруженного руинами: публика этот спектакль просто штурмовала, он бил все рекорды посещаемости.
Это ведет нас к специфике театра как медиума, который хуже всего переносит разрыв с мифическим фундаментом культуры, дольше всего он защищает созданные сообществом образы. То, что польский театр с таким пароксизмом припал к мифическому фундаменту, стало одной из самых сильных (по моему мнению – автотерапевтических) тенденций послевоенной польской культуры; это явление, впрочем, было предметом многократных и исчерпывающих комментариев, вписывающих его в широкий горизонт традиционных моделей и мифов этой культуры.
Процитированную мною фразу Мечислава Яструна об усилившейся в результате военных переживаний актуальности «Дзядов» можно прочитать как симптом, то есть как сквозь призму того, что она выражает, так и через то, что она скрывает. Во-первых, зашифрованным остается, как я уже отмечал, опыт Катастрофы. Фраза-симптом требует, чтобы ее смысл или же буквальное значение были прочитаны наоборот. Буквально фраза эта значит: огромное, невообразимое страдание позволило обновить смыслы нашей культуры, тех текстов, которые заложили ее основы. Вспоминается иронический комментарий Словацкого, вложенный в уста Доктора в «Кордиане»: «Гибнет нация, дабы на эту тему / Поэт великий написал поэму»378378
Словацкий Ю. Кордиан // Словацкий Ю. Избранные сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Гослитиздат, 1960. С. 659. – Примеч. пер.
[Закрыть]. Романтическая этика свидетельствования о коллективных страданиях компрометирует сама себя, она путает причины со следствиями. Внезапная актуализация романтических моделей в момент окончания войны, несомненно, носила характер симптома. Пожалуй, каждому должно быть ясно, что «действительность концентрационных лагерей» скорее лишила актуальности романтическую драму, чем актуализировала ее.
В «Поколении» Богдана Чешко есть такая сцена: во время пикника в июне 1943 года (то есть уже после апрельского восстания в гетто) «обливающийся потом» Владек Милецкий читает и комментирует фрагменты Великой Импровизации379379
Из «Дзядов» Мицкевича. – Примеч. пер.
[Закрыть]. Внимание читателя обращает конфронтация «великого текста» с прозаическим, материальным, историческим и телесным контекстом этого чтения поэзии Мицкевича. Конфликт стилистических интонаций и радикальный проект пересмотра романтической традиции, набросок которых дает роман Чешко380380
Роман опубликован в 1951 году. – Примеч. пер.
[Закрыть], в театре этого времени еще отсутствуют. Театр тут опаздывает, он все еще с ностальгией смотрит в прошлое, хотя вскоре отменно радикализует факт своего опоздания, например, в спектаклях Ежи Гротовского.
– Ну, не лицедей ли? – небрежно комментировал он поэму. «Я мастер… на небеса кладу протянутые длани…» – рычал он с пафосом, попивая смородиновый напиток. – Любопытно, что сказал бы маэстро Адам про ликвидацию варшавского гетто. Послужил бы он, как я, в Luftschutzhilfsdienst, да постоял на посту с брандспойтом в руке [следя, чтобы не сгорела тюрьма] на Павяке, наблюдая [одновременно], как матери-еврейки выбрасывают из окон пылающих домов детей постарше, а потом выпрыгивают сами с младшими на руках, прижимая их изо всех сил к груди, чтобы те ничего не видели и не орали благим матом. С Богом спорить нетрудно, а вот с людьми…381381
Чешко Б. Поколение. М.: Художественная литература, 1977. С. 134–135. В скобках добавлены слова, опущенные при издании русскоязычного перевода.
[Закрыть]
Принадлежит ли приведенный выше фрагмент «Поколения» исключительно, как хотел бы это видеть Лапинский, к сталинистским, спущенным сверху ритуалам самоунижения польской культуры или также обнаруживает импульс, который польская культура будет последовательно развивать и за пределами соцреалистического контекста?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































