Читать книгу "Польский театр Катастрофы"
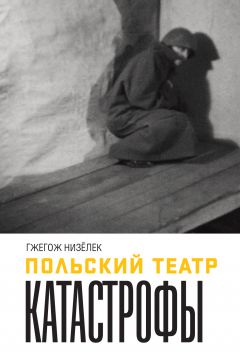
Автор книги: Гжегож Низёлек
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Представляется, что прав был Сартр, а не Домбровская. Любой нарратив об уничтожении евреев (а не только тот, который «неправильно» рассказали) должен разъярить антисемита, поскольку любой такой нарратив подрывает миф Единства и тем самым становится нарративом антипольским или антифранцузским.
4
Можно только добавить, что такое положение вещей не было явлением, характерным исключительно для первых послевоенных лет, а продолжало существовать в Польше еще много десятилетий. Оно закрепилось в форме общественного автоматизма, приобрело черты рефлекторных реакций. Удачно это явление было недавно описано Пшемыславом Чаплинским235235
Czapliński P. Prześladowcy, pomocnicy, świadkowie. Zagłada i polska literatura późnej nowoczesności // Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania. Red. Przemysław Czapliński, Ewa Domańska. Poznań: Wydawnictwo «Poznańskie Studia Polonistyczne», 2009. S. 155–182.
[Закрыть]. Любой нарратив о Катастрофе вызывает в Польше «репульсивную реакцию», поскольку провоцирует рефлекторный страх, что этот рассказ неизбежно, рано или поздно, выявит соучастие поляков в процессе Катастрофы, позицию «слишком пассивных свидетелей». Тем самым приводится в движение система «глухой коммуникации». И более того: свидетель (или же жертва) Катастрофы оказывается поставлен лицом к лицу «с таким реципиентом, о котором он вправе предположить, что тот не захочет его слушать, будет испытывать неприязнь, недоверие – и именно на языке такого реципиента он будет формулировать свое свидетельство»236236
Ibid. S. 172.
[Закрыть]. На это явление уже ранее, под конец 1970‐х годов, обращал внимание также и Ежи Едлицкий237237
Jedlicki J. Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczone // Dzieło literackie jako źródło historyczne. Red. Zofia Stefanowska, Janusz Sławiński. Warszawa: Czytelnik, 1978. S. 341–371.
[Закрыть]. По его мнению, нарративы о Катастрофе попадали в Польше в пространство общественного вакуума, поскольку коммуникационная ситуация оказалась подорвана как раз со стороны реципиента. Писал об этом и Ян Блонский: «Почти во всем, что на эту тему в Польше было написано […] чувствуется скрываемый или подавляемый страх, как бы мы, поляки, „не выглядели плохо“, как бы нас не приняли за людей бессердечных и бессовестных»238238
Błoński J. Myśleć przeciw własnemu komfortowi // Błoński J. Op. cit. S. 44.
[Закрыть]. Условием того, чтобы поляки могли себя воспринимать как людей, способных к сочувствию, было, таким образом, исключение или корректировка рассказов о еврейских судьбах во время Катастрофы.
Как Чаплинский, так и Едлицкий не анализируют это явление исключительно с психологической стороны – как отказ от сочувствия, вызванный, например, вытесненным чувством вины. Они переносят вопрос в символическое пространство культуры и языка: именно там разыгрывается драма глухой коммуникации. Стоит, таким образом, начать с многократно констатируемого факта, что польский язык стал одним из основных языков литературы Катастрофы. По очевидным причинам. Процесс Катастрофы происходил прежде всего на польской земле: тут перед войной существовала самая большая еврейская диаспора в Европе, тут во время войны были организованы гетто и лагеря смерти. Для множества жертв это был единственный язык, на котором они могли артикулировать и записать свои переживания. Здесь же было и больше всего свидетелей Катастрофы. Что означает, что в польской культуре – если за ее границы принять границы языка – существует гигантский корпус текстов (не только литературных), которые в массе своей мало известны носителям этого языка, принимаются ими неохотно, текстов маргинализированных или же полностью вытесняемых с территории культурной памяти и сознания. Это создает состояние сильного напряжения и делает все более навязчивым вопрос о причинах такого отторжения. Особенно если вспомнить мнение Хенрика Гринберга, что «у польской литературы больше достижений в тематике холокоста, чем у „сверхдержав“»239239
Grynberg H. Holocaust w literaturze polskiej // Grynberg H. Prawda nieartystyczna. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2002. S. 141.
[Закрыть]. А также о его убеждении, что Катастрофа – самое важное событие, с которым польской литературе пришлось столкнуться.
Явление использования «чужого» языка на собственном опыте в венгерской культуре анализировал Имре Кертес, который после войны решил возвратиться в Будапешт и писать по-венгерски. Собственную ситуацию он представил проницательно и безжалостно. Обращаясь к Катастрофе, он должен был использовать язык, который есть «отражение безразличного функционирования общественного сознания»240240
Кертес И. Язык в изгнании. Речь в берлинском театре «Ренессанс», 2000 // Кертес И. Язык в изгнании. М.: Три квадрата, 2004. С. 164. (Другой вариант перевода: язык, который суть «сознание общества, продолжающего далее равнодушно выполнять свои функции». Автор книги в дальнейшем использует формулу из польского перевода: «общество, ставшее равнодушным». – Примеч. пер.)
[Закрыть]. Уже сам язык, его клише, заезженные и укорененные формулировки оттесняли нарратив Кертеса на обочину, представляли его как голос «жертвы», голос «выжившего», то есть превращали в случай особый, чуждый и сверхординарный, а тем самым – такой, который легко поддается маргинализации. Язык ставил писателя перед необходимостью конфронтации с формулировками, которые стали ритуализированы и эвфемистичны и тем самым должны были способствовать стиранию подлинного опыта, оттеснению его на территорию «универсального, общечеловеческого страдания». Кертес ощущал, что он взял напрокат язык, предназначенный совсем не для него, что ему предоставили в нем приют из жалости, на время и на определенных условиях: «я пишу свои книги на таком заимствованном языке, который само собой разумеющимся образом отторгает от себя „этих“, или в лучшем случае терпит их где-то на периферии собственного мировоззрения»241241
Там же. С. 171.
[Закрыть].
В записках Домбровской мы можем увидеть этот же механизм с другой стороны – с перспективы «полномочных» хозяев языка: тут прочитывается непоколебимая уверенность писательницы относительно собственной культурной принадлежности, а также ее сильное убеждение, что она обладает привилегией решать, что является польским, а что еврейским – и где проходит между ними граница. Для одних у нее припасено сочувствие, но одновременно она защищает доброе имя других. Домбровская совершенно открыто дает понять, что, по ее мнению, фильм Форда протаскивает контрабандой еврейский марксизм и эта контрабанда представляет угрозу полякам. Единственное, что она могла бы предложить фильму Форда, – это сочувствие «еврейской трагедии», то есть чуточку эмпатии, снабженной многочисленными оговорками и проявляемой неохотно. Заметки Домбровской – это пример синдрома сочувствия под условием враждебности, с которым мы уже встречались, когда говорили о «Протесте» Зофии Коссак-Щуцкой. Единственное, что в этом случае эта эмпатия, кажется, исчезает под напором возмущения по поводу антипольского послания фильма. Нетрудно предположить, что Домбровская говорит в дневнике больше и менее осторожно, чем наверняка решилась бы сказать публично. Вроде бы доверительно обращаясь к самой себе, она позволяет, в сущности, выговориться языку общества, ставшего равнодушным, – общества, которое считает, что оно вправе торговаться по поводу любой неудобной для себя правды, касающейся Катастрофы, и цензурировать ее (ведь от имени как раз такого общества писательница должна была сформулировать свое мнение и защитить его, это общество, от неприятного для него нарратива). По всей видимости, «дани», отданной, по ее словам, в фильме Польше, не было достаточно.
Ежи Едлицкий обратил внимание, что язык всегда защищает культурные наросты, поддерживает эпистемологические и этические схемы, отвергает акт тотального уничтожения человеческой индивидуальности, сформированной культурой. Напрашивается мысль, что Домбровская в своем дневнике стала невольной жертвой этого языка. Ведь она, как известно, прекрасно отдавала себе отчет, что опыт Катастрофы не вмещается в границы языка, что он фундаментально нарушает его нормы. Как предполагает Владислав Панас, единственное неполиткорректное предложение за весь свой творческий путь Домбровская написала как раз в рассказе, посвященном уничтожению евреев242242
Panas W. Zagłada od zagłady. Szoah w literaturze polskiej // Panas W. Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej. Lublin: Wydawnictwo DABAR, 1996. S. 1–24.
[Закрыть]. Героиню этого рассказа, прячущую во время оккупации свою подругу-еврейку, преследует абсурдная мысль: «Dlaczego Warszawa nie zrobi tej rzece zagłady od zagłady» – «Почему Варшава не истребит этот поток истребления». Это странное предложение Панас считает парадигматическим для польской литературы, посвященной Шоа: оно воплощает ее семантический и коммуникационный коллапс.
Едлицкий пишет, однако, что язык защищает себя от такого рода коллапса: «установленные ранее системы мышления, обретшие свои нормы, не распадались даже в эпицентре миросотрясения. Националисты оставались националистами, либералы либералами, католики католиками, коммунисты коммунистами»243243
Jedlicki J. Op. cit. S. 353.
[Закрыть]. Каждая из этих систем вбирала в себя опыт Катастрофы или же отвергала его. Нет уже ничего общего. «Общее только то, что люди уже не создают историю, а только растаптываются ею. Но, прежде чем это наступит, возникают отгороженные друг от друга „взаимоисключающие миры“, разнящиеся в своих правах на жизнь и на смерть. Миры, в которых даже язык отличается, как отличался язык подполья и восстания от языка лесных партизан, как иным был язык гетто, язык Павяка или Lagersprache»244244
Ibid. S. 345–346.
[Закрыть]. В этом мире без общей судьбы перекладина эмпатии, как объяснял Едлицкий, оказывается установлена очень высоко.
Это еще одно объяснение того, почему эмпатический проект Леона Шиллера – несмотря на то что он реализовывался в театре, то есть в рамках самой непосредственной из всех возможных коммуникативных ситуаций – был обречен на неудачу. Сначала ведь должен был распасться язык сообщества, который устанавливал перед этим сообществом оборонительный щит. Взятый напрокат язык – воспользуемся еще раз метафорой Кертеса – возвращается сообществу его пользователей как безоружный и в то же время мстительный. Поскольку язык, который артикулирует опыт Катастрофы, должен быть – пишет Кертес – «столь ужасным и скорбным»245245
Кертес И. Указ. соч. С. 173.
[Закрыть], должен нести гибель тем, кто им пользуется. В польском контексте стоило бы помнить о той угрозе, которую язык Катастрофы нес польским мифам и героическим нарративам – интереснее всего, пожалуй, написал об этом психиатр Антоний Кемпинский246246
Kępiński A. Dulce et decorum // Refleksje oświęcimskie, wybór i wstęp Zdzisław Jan Ryn. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005. S. 117–130.
[Закрыть].
Уже во время войны польская литература стала свидетельницей расхождения судеб: прежде всего польских и еврейских. Открытие этой разницы оказалось, пожалуй, самым трудным опытом польской литературы. Неизбежным образом оно должно было ударить по польскому обществу, которое в конце концов не без причины чувствовало себя не только свидетелем чужого страдания, но и жертвой. Аффективная сила этого удара, однако, почти всегда сразу же подвергалась процессам вытеснения. Их источником был страх перед тем, чтобы услышать рассказ о собственном зле, тем более что речь тут не шла о зле возвышенном, метафизическим, а – как в 1945 году писал Казимеж Выка – о низком и постыдном поведении, связанном с материальными выгодами, с наживой на чужом преступлении. «На немцев вина и преступления, для нас ключи и касса». И подытоживал: «вряд ли найдешь более паскудный пример морали»247247
Wyka K. Życie na niby. Pamiętnik po klęsce. Kraków; Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1984. S. 157.
[Закрыть].
5
В польской культуре после Катастрофы произошла беспрецедентная конфронтация двух регистров – символического и реального. Было предпринято небывалое усилие для того, чтобы (даже ценой издевательской провокации) вдохнуть жизнь в символические каноны, особенно романтические – ради того, чтобы они стали более открытыми, вместительными, способными универсализировать экстремальный опыт, который принесла война. Речь шла о том, чтобы скрыть факт распада символического сообщества и доказать, что романтические коды и мифы в состоянии вобрать в себя даже самые травматические переживания. Поэтому то, что было самым реальным, то есть все самое травматическое, должно было утрачивать свое имя, лишаться своей исключительности. Любой слишком конкретный нарратив о Катастрофе этому усилию реконструировать символический порядок был опасен. В этой борьбе символического с реальным в самой слабой позиции оказался регистр воображения, без которого невозможен, как известно, какой бы то ни было акт эмпатии, но который, в свою очередь, лишенный поддержки со стороны регистра символического (то есть того, который является общим, общественным, языковым), ведет к агрессивным, соперническим и деструктивным конфронтациям с образами инакости. Как свидетельство достаточно вспомнить истерические реакции в Польше на фильм Клода Ланцмана «Шоа»: у нас в нем увидели только польских крестьян и их равнодушие к Катастрофе. Лакан мог бы предложить, таким образом, весьма правдоподобное объяснение явления глухой коммуникации, в которой застряли в польской культуре нарративы о Катастрофе.
На то, что в дискурсе о Катастрофе регистр воображения оказался исключен, обратил внимание Жорж Диди-Юберман, подчеркивая, что «стопор воображения» сначала сделал возможным массовое уничтожение евреев, а затем парализовал и догматизировал какую бы то ни было дискуссию по этому поводу. По его мнению, как раз регистр воображения, благодаря тому что он обращается к «картине ужасающего», позволяет сформулировать «мольбу» пережить внутренний разрыв, внезапно взорвать окаменелости, накопившиеся в сообществе248248
Didi-Huberman G. Obraz-fakt czy obraz-fetysz // Didi-Huberman G. Obrazy mimo wszystko. Przeł. Mai Kubiak Ho-Chi. Kraków: Universitas, 2008. S. 65–113.
[Закрыть].
В 1945 и 1946 годах в польской прессе появилось немало статей, посвященных тематике польского антисемитизма. Значительная их часть была спровоцирована драмой Отвиновского и двумя ее сценическими постановками: лодзинской и краковской249249
Премьера пьесы Отвиновского в режиссуре Владислава Возьника прошла в Старом театре 4 декабря 1946 года.
[Закрыть]. О польском антисемитизме писали среди прочих Ежи Анджеевский, Казимеж Брандыс, Станислав Дыгат, Мечислав Яструн, Тадеуш Бреза, Станислав Оссовский, Стефан Отвиновский, Казимеж Выка. Часть этих статей составила сборник «Мертвая волна», опубликованный в 1947 году. Столь бурное обсуждение этого вопроса в следующий раз случится лишь спустя сорок лет, когда Ян Блонский опубликует в еженедельнике «Тыгодник Повшехны» свою статью «Бедные поляки смотрят на гетто». Послевоенную дискуссию, конечно, разжигала информация о следующих один за другим погромах, направленных против тех, кто уцелел: в Жешуве, Кракове, Кельце. Звучали очень горькие слова, под поверхностью слов таился ужас от позиции польского общества по отношению к уничтожению евреев. Тема оставалась неизменной: «Польский антисемитизм не был выжжен в руинах и на пепелищах гетто»250250
Andrzejewski J. Zagadnienie polskiego antysemityzmu // Odrodzenie. Nr 27–28. 07.07.1946 и 14.07.1946.
[Закрыть]; «Антисемитизм не исчез вместе с гекатомбой евреев»251251
Breza T. «Wielkanoc» Stefana Otwinowskiego // Odrodzenie. Nr 19. 12.05.1946.
[Закрыть].
Их авторы были непосредственными свидетелями Катастрофы (а к тому же – в большинстве своем писателями, наделенными чутким слухом и зрением), они, таким образом, должны были немало видеть и слышать, коль скоро позволяли себе столь однозначные формулировки. Как хотя бы эта: «польская нация во всех своих слоях и во всем своем интеллектуальном разрезе от наивысшего до наинизшего была настроена антисемитски и после войны продолжает быть настроена антисемитски»252252
Andrzejewski J. Op. cit.
[Закрыть]. Это слова Ежи Анджеевского, автора одного из первых литературных свидетельств Катастрофы – рассказа «Страстная неделя», написанного под непосредственным впечатлением от восстания в варшавском гетто. Столь же бескомпромиссна формулировка Казимежа Выки: «единственной страной в Европе, где антисемитизм продолжает жить и приводит к политическим и моральным преступлениям, является Польша. Страна, где евреи были истреблены самым фундаментальным образом и где во время оккупации сила сопротивления немцам была самой отчаянной»253253
Wyka K. Potęga ciemnoty potwierdzona // Odrodzenie. Nr 43. 23.09.1945.
[Закрыть]. Писал это Выка, который в другом месте выразил убеждение, что «центральным психо-экономическим фактом периода оккупации, безусловно, останется факт удаления миллионной еврейской массы из торговли и посредничества»254254
Wyka K. Op. cit. S. 155.
[Закрыть]. Картины одичания, жестокости, а в лучшем случае равнодушия должны были быть воистину поразительными, коль скоро они диктовали слова, столь безжалостно направленные против собственного общества – без того, чтобы взвесить резоны и нюансировать аргументы, даже без того, чтобы выразить сочувствие по отношению к его, этого общества, страданиям. Нетрудно почувствовать, что за формулой «польского антисемитизма» скрываются перерастающие ее конкретные картины – те, которые Диди-Юберман назвал «картинами ужасающего»: события физического, символического и языкового насилия, в каковых осталась запечатлена в памяти реакция поляков на опыт Катастрофы.
Мечислав Яструн приводил обрывки диалогов, которые он слышал среди жителей Варшавы во время восстания в гетто – как те призывы, что были обращены к молодым чиновницам, которые выбежали из бюро, чтобы увидеть горящее гетто: «Айда смотреть, как жарят котлеты из евреев»255255
Jastrun M. Potęga ciemnoty // Odrodzenie. Nr 29. 17.06.1945.
[Закрыть]. Такого типа нарративы приобрели уже фантазматический характер: даже если невозможно подтвердить их правдивость, они не прекращают атаковать коллективную память (и постпамять). Наиболее симптоматична в этом смысле история карусели на площади Красинских, которую запечатлел в своем стихотворении Чеслав Милош. С несравнимым чувством ответственности за символическое пространство польской культуры он привил ей образ карусели, крутящейся под стенами сражающегося гетто, он принудил польское общество к конфронтации с этим образом. Ничего удивительного, что предпринимались попытки доказать фантазматический характер этой карусели, постыдной для польской совести: многие яростно отказывали ей в существовании, ее пытались подать как просто мифотворческий жест поэта. Символическое измерение поэтического образа оказалось использовано как аргумент против его реальности. Много усилий было потрачено для того, чтобы доказать, что карусель на площади Красинских не работала в то время, когда шло восстание в гетто. Например, писали: «Карусель, крутящаяся поблизости пылающего гетто, превратилась в расхожий символ польского антисемитизма и равнодушия к судьбам убиваемых евреев. Это очень эффектно с литературной точки зрения, но по сути лживо…»256256
Wolak Z. Efektowny symbol literacki, ale fałszywy. Цит. по: Szarota T. Karuzela na placu Krasińskich. Czy «śmiały się tłumy wesołe»? Spór o postawę warszawiaków wobec powstania w getcie // Szarota T. Karuzela na placu Krasińskich. Studia i szkice z lat wojny i okupacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, Fundacja «Historia i Kultura», 2007. S. 159.
[Закрыть]
К сожалению, исторические изыскания Томаша Шароты заставляют признать неопровержимым фактом крутящуюся в пасхальную неделю 1943 года карусель и развлекающихся на ней поляков. Кое-что из подобного рода поведения запечатлел также Ежи Анджеевский в уже упомянутом рассказе. Возможно, наиболее ужасающий пример – это охота верещащей банды польских детей на скрывающегося еврейского мальчика, выкуривание его из убежища на залитую солнцем, заполненную толпой прохожих Пулавскую улицу. Такую картину Александр Форд в «Пограничную улицу» включить не отважился. Стоит, однако, обратиться прежде всего к запискам Эммануэля Рингельблюма, который представил польско-еврейские отношения во время войны, к докладам Яна Карского или же к дневнику Зигмунта Клуковского, чтобы отдать себе отчет, какую конкретно форму приобретало отношение польского общества к уничтожению евреев.
Авторов, пишущих о польском антисемитизме непосредственно после войны, поражало то, что уничтожение евреев не стало для польского общества моральным шоком, не пробудило сочувствия – максимум довольно слабую реакцию осуждения, продиктованную спущенным сверху чувством морального долга. Станислав Дыгат в рецензии на «Пасху» в режиссуре Шиллера вспоминал, что события по ту сторону стены в сознании варшавских жителей отплыли «куда-то за тридевять земель, как происшествия из жизни Китая, Мексики или Аляски»257257
Dygat S. Wielkanoc // Kuźnica. Nr 41. 21.10.1946.
[Закрыть].
Столь «отдаленный» еврейский опыт старались исключить из символического регистра польской культуры. Тадеуш Бреза, комментируя пьесу Отвиновского, обращал внимание на характерное явление258258
Breza T. Op. cit.
[Закрыть]. Восстание в варшавском гетто воспринималось многими поляками исключительно как проявление биологического инстинкта выживания, так что любые попытки включить это событие в пространство совместной истории пытались игнорировать – несмотря на то что предводители восстания обращали на это включение особое внимание: как формулируя лозунг борьбы «за нашу и вашу свободу», так и вывешивая на домах польские и еврейские флаги. Бреза писал, что в ушах многих людей уже самое определение «еврейское восстание» вызывало предельное удивление: уже на уровне языка оно казалось неподобающим и внутренне противоречивым, звучащим как смысловой диссонанс, а скорее всего – вообще как нонсенс. Борьбу в гетто рассматривали скорее в сфере «голой жизни», чем в рамках символической традиции вооруженных польских восстаний, чьей целью было сохранить человеческое достоинство. Для многих польских евреев польская культура и польская история, однако, были единственным читабельным для них символическим регистром, который мог бы защитить их чувство собственного достоинства. Однако обратиться к нему они могли только через отрицание.
Владислав Шленгель, который в варшавском гетто был свидетелем того, как Януш Корчак с детьми из дома сирот вышел на Умшлагплатц, написал под впечатлением этого события стихотворение, которое начиналось с констатации простого факта: «Сегодня я видел Януша Корчака…» В этом стихотворении Шленгель называет опыт Катастрофы «войной еврейской, постыдной», а заканчивает его сильным, патетическим (хотя нарочно выраженным несколько неуклюже и аритмически) утверждением: «Януш Корчак умер, чтобы / было у нас также свое Вестерплатте»259259
Szlengel W. Kartka z dziennika akcji // Odrodzenie. Nr 35. 29.07.1945.
[Закрыть]. Ведь оказалось, что символическое пространство польской истории стало для польских евреев очередной территорией исключения: метафора Вестерплатте в стихотворении Шленгеля говорит как раз об этом. Поэтому Бреза заканчивает свою статью драматическим призывом: не допустить, чтобы «каждая из этих наций снова стекла в свои собственные, огороженные друг от друга, жизненные русла»260260
Breza T. Op. cit.
[Закрыть].
6
Леон Шиллер, ставя «Пасху» Стефана Отвиновского в лодзинском Театре Войска Польского, должен был отдавать себе отчет, на какую территорию общественного равнодушия и враждебности он вступает, тем более что во время репетиций в польской прессе шла дискуссия, спровоцированная погромом в Кельце. В Лодзи бунтовали рабочие, которых заставляли подписываться под воззваниями, осуждающими келецкие убийства. В то, чтобы дать оценку этим событиям, были вовлечены все политические сферы: власти на всех уровнях, церковь, политическое подполье, эмиграционные круги. Именно при таких обстоятельствах Шиллер вел репетиции и, что, может быть, самое необычное, пытался обратиться к эмпатии зрителей, к самым элементарным рефлексам солидарности, взволновать, вызвать какую бы то ни было позитивную эмоциональную реакцию.
Установка на эмпатию, как утверждает Доминик Ла Капра, является основой любого процесса проработки травматического опыта. Эмпатия, по его мнению, позволяет приблизиться к чужому опыту без того, чтобы стирались различия и инакость, она защищает как от нежелательной идентификации, так и от изоляции. Эмпатия составляет аффективный компонент актов понимания, однако такой компонент, который нарушает ход этих процессов. Она позволяет свидетелю сохранить автономию и не стремится к идентификации с жертвой261261
LaCapra D. Writing History, Writing Trauma. Baltimore; London: The Johns Hopkins University Press, 2001. P. 102–103.
[Закрыть]. Если обратить внимание на специфику польского опыта, следовало бы еще добавить, что эмпатия позволяет также не вступать в соперничество с жертвой. Ла Карпа обращает также внимание на то, что эмпатическая установка освобождает субъект из неволи абстрактных и универсальных моральных обязанностей (а это наверняка составляет случай Зофии Коссак-Щуцкой и ее знаменитого воззвания), всегда переносит его в сферу конкретного человеческого опыта и в конце концов никогда не оказывается отделена от действий в общественной сфере, всегда имеет практические последствия. Эмпатия, однако, не должна быть политически запрограммирована, не должна подвергаться контролю. Именно так можно, на мой взгляд, интерпретировать замысел как Леона Шиллера, так и Александра Форда. Проницательно уловил это Эдвард Чато, когда писал, что для автора «Пасхи» было важно «сделать установку на такое отношение поляков к евреям, которое было бы подобающим, справедливым и – как говорят специалисты по этике – „долженствующим“; это, таким образом, аксиологическая пьеса, посвященная этическому вопросу формулировки определенных норм»262262
Csató E. «Wielkanoc» Otwinowskiego // Csató E. Interpretacje. Recenzje teatralne 1945–1964. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. P. 99.
[Закрыть]. О фильме Форда в подобном же духе писал Леон Буковецкий: «Фильм этот – кроме всех прочих своих достоинств – потрясает до глубины души; а чего бы и стоило искусство, если бы оно не волновало, не оставляло сильных впечатлений? […] Совершенно справедливо показывает Форд тех или иных евреев такими, какими они были, во всей экзотике их костюмов и привычек, слов и молитв, быта и некоторых своих поговорок. Речь идет о том, чтобы зритель сказал себе: „да, это евреи“, чтобы он заинтересовался ими, чтобы подумал, что там творится в этой симпатичной голове Давидки под черной ермолкой»263263
Bukowiecki L. Prawda nie ma granic // Kuźnica. Nr 14. 10.04.1949.
[Закрыть].
Стефан Отвиновский писал свою драму во время войны. Первым импульсом для ее возникновения было посещение летом 1942 года небольшого поселения, из которого исчезли все его еврейские жители; следующим импульсом – восстание в варшавском гетто. Действие драмы разыгрывается в трех картинах, разделенных во времени. Пролог происходит перед самой войной в небольшом городе, в корчме пани Фрейд, где появляется главный герой драмы – Станислав Лаский, который сначала становится свидетелем антисемитских проявлений местных жителей по отношению к хозяйке корчмы, а потом знакомится с ее детьми Самуэлем и Эвой. Акты I и II разыгрываются во время Пасхи 1943 года в том же самом городе, в котором за день до ликвидации здешнего гетто разгорается бунт, вдохновленный подобными же событиями в Варшаве. Тогда в квартире доктора Пшипковского появляется Эва Фрейд, умоляя о помощи, сея страх и растерянность, нарушая праздничную атмосферу польского дома. Третий, последний акт разыгрывается в начале августа 1944 года, когда разражается Варшавское восстание, в квартире Станислава Лаского, который укрывает Эву.
Даже из поверхностной обрисовки конструкции драмы видно, что Отвиновский пытается совершить ряд слишком уж заметных операций в символическом пространстве. Связать между собой польское восстание и еврейское восстание. Объединить Самуэля Фрейда и Станислава Лаского общей страстью к истории польской Реформации и польского Просвещения (по мнению автора, единственной, хоть и очень слабой традиции, которая могла бы создать некую общность между поляками и евреями). Еще более интересными представляются стратегии Отвиновского в том, как он компонует символический пейзаж городка, в котором разыгрывается акция. Самыми важными ориентационными пунктами являются тут костел, памятник Тадеушу Костюшке и статуя св. Иосифа. Это, конечно, символическое пространство польского духа: его патриотических и религиозных традиций. Четвертым символическим местом, к которому Эва Фрейд ведет Станислава Лаского во время их первой прогулки (вопреки воле ее матери), является колодец, с которым связана суровая легенда. Во время антисемитских волнений в этом колодце жители городка утопили набожного еврея, возвращающегося домой из синагоги. Отвиновский, без сомнения, неслучайно перенес столь ужасный образ в неопределенное легендарное прошлое (чтобы, конечно, не провоцировать антисемитов и в то же время, через аллюзию, обратиться к столь же чудовищным событиями недавнего прошлого). В том же самом колодце погибает во время Пасхи 1943 года, отбиваясь от гитлеровцев, Самуэль Фрейд, один из предводителей восстания в здешнем гетто. Тем самым образ колодца приобретает новое значение и оказывается вписан – исключительно по воле автора – в совместное символическое пространство. Нетрудно разгадать эту шараду. История колодца – это эмоциональный трюк, использованный автором, чтобы включить восстание в варшавском гетто в пространство польской истории и благодаря изумлению героизмом его участников и сочувствию к их судьбе парализовать антисемитские рефлексы264264
Эта идея понравилась рецензенту еврейского журнала «Опиния»: «Легендарно-реальный еврей на дне глубокого польского колодца… В начале действия мы узнаем, что еврея сюда бросили, в конце другой еврей вынужден сюда прыгнуть: эту смыкающуюся как рамка авторскую канву, как символ, стоит признать очень удачной композиционной идеей» (Sz. Sp., Dwa oblicza jednego problemu // Opinia. Nr 7. 08.11.1946).
[Закрыть]. Поэтому, по воле автора, скрывающаяся на арийской стороне еврейка в финале драмы отдает дань Варшавскому восстанию, играя на фортепиано.

Делая тут понятную для публики отсылку на известную драму Станислава Выспянского266266
«Варшавянка». – Примеч. пер.
[Закрыть], Отвиновский пытается найти место для еврейского восстания в символическом пространстве польской культуры. То, что Станислав произносит слово «опять», имеет двойное значение: это слово относится как к недавнему восстанию в гетто, так и к польским восстаниям XIX века267267
В том числе – к восстанию 1830–1831 годов, которому посвящена упомянутая драма Выспянского. – Примеч. пер.
[Закрыть]. В финале спектакля Эва играет, однако, не «Варшавянку», а – как мы можем догадаться из интервью, данного Шиллером – «Революционный этюд». Предпринимая все эти усилия, Отвиновский осознавал, что уже невозможно говорить ни о какой общей судьбе («Пусть только никому из нас не покажется, что судьба поляка, вооруженного соответствующим документом, могла походить на судьбу еврея»268268
Otwinowski S. Wspólny los // Odrodzenie. Nr 37. 12.08.1945.
[Закрыть]) и что польское общество отчаянно защищается перед тем, чтобы принять к сведению этот факт.
Драма Отвиновского вызвала немало критических замечаний: ее обвиняли в схематизме, идеологизации, сентиментальности, художественной вторичности и неуклюжести. Нападкам подвергался и главный тезис пьесы, состоящий в том, что Реформация, ослабляя влияние католицизма, могла бы освободить польское общество от призрака антисемитизма – Отвиновского справедливо упрекали в том, что как раз на родине Лютера родились самые страшные формы современного антисемитизма, поставившего целью истребление евреев.
Очень интересную статью о «Пасхе» написал Эдвард Чато, оправдывая многие ее слабости. Он интерпретировал драму Отвиновского как открытую конструкцию, которая не была систематизирована интеллектуально и эмоционально. Отдельные сцены драмы, не складывающиеся в связное целое, он признал «взрывом чувств автора, который, высвобождая эти чувства, стремился разрешить для себя проблему оккупации, а внутри этой проблемы – уже более частный вопрос честного взгляда на муку еврейского народа». И добавлял: «Поэтому столько раз он в этой пьесе колеблется, обрывает мысль, по-экспрессионистски калечит предложения, убегает в символизм, что служит свидетельством, что проблема еще не полностью разрешена»269269
Csató E. Op. cit. S. 99.
[Закрыть]. Иначе говоря, Отвиновский, призывая публику к эмоциональной и эмпатической реакции, осознавал, что это могло быть возможно только в результате распада «символических окаменелостей» польской культуры – что патетическая и благородная в своем послании аллюзия к «Варшавянке» Выспянского не разрешит проблему. Сам автор подчеркивал, что его драма была опубликована как политическая брошюра (а не полностью сформированное литературное произведение) в серии документов, которые должны были оставить память о Катастрофе (редактированной и издаваемой сразу после войны Михалом Борвичем). Характер документа имела не столько представленная в драме действительность, сколько записанная в ней эмоциональная и моральная реакция автора по отношению к Катастрофе. Несомненно, этот эмоциональный мотив пьесы должен был изумить и Шиллера, который услышал его – как это обычно с ним происходило – в очень точных музыкально-ритмических категориях.
Более безжалостен был по отношению к драме Отвиновского Тадеуш Пайпер: обнажил всю ее поверхностность, излишний вербализм, статичность акции. Признал, однако, что два момента в пьесе приносят автору честь и хвалу. Оба стоило бы признать сценической анатомией страха. Первый из них показывает вторжение Эвы Фрейд пасхальным вечером в тихий дом доктора Пшипковского. Две реплики обратили на себя внимание Пайпера: отчаянная мольба Эвы о какой бы то ни было форме помощи: «Нам все подойдет», – и повторяющийся вопрос: «Где, где?» – в ответ на предложение найти себе безопасное укрытие. Как раз тут, по мнению Пайпера, Отвиновскому удалось выразить, «пожалуй, самое страшное, что было в еврейской трагедии» – «из множества потрясающих образов войны, прежде чем развеется ее вихрь, он уберег один из тех, который более всего заслуживает того, чтобы остаться в памяти»270270
Peiper T. Stefana Otwinowskiego «Wielkanoc» // Odrodzenie. Nr 51–52. 22–29.12.1946.
[Закрыть]. Другой выделенный Пайпером момент относится к поведению Станислава Лаского, заявлявшего о себе как о филосемите: в момент вторжения Эвы Фрейд он прячется в соседней комнате, боясь, что не сможет ответить на тот вызов, который бросает ему судьба. В конце концов он, впрочем, преодолевает свой страх: решает вывезти Эву в Варшаву и укрыть в собственной квартире. Этот момент Отвиновский подвергает особому психологическому анализу. Есть несколько причин преодоления страха: стыд, идеализм, неприязнь к националистическому антисемитизму, репрезентируемому Сичинским, а также желание пережить любовь посреди военных ужасов. Пайпер проницательно замечает, что «среди четырех мотивировок его преображения вообще не шла речь о сочувствии к евреям»271271
Ibid.
[Закрыть]. И более того, признает этот факт глубоко симптоматичным.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!







































