Читать книгу "Польский театр Катастрофы"
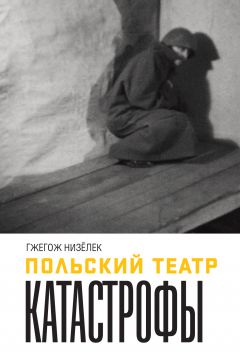
Автор книги: Гжегож Низёлек
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
2
В случае польского послевоенного театра следовало бы говорить не столько о границах репрезентации, сколько о том, в какой мере могли быть прочитаны заключенные в спектаклях свидетельства, – то есть об опыте амнезии, приводящей в действие работу повторения. Механизмы, блокирующие акты правильного прочтения заключенного в них исторического опыта или мешающие этому, были невероятно сложны. Конечно, на этот факт могли повлиять уже и сами по себе те художественные стратегии, которые стремились к сильно метафорическим формам (как у Шайны) или же сознательно делали ставку на то, чтобы разрушить механизмы референциальности (как в театре Кантора). Другим источником такого рода помех в интерпретации были идеологические операции, которым подвергалась коллективная память о войне и уничтожении евреев. Действовали тут как механизмы вытеснения, связанные с ощущением вины равнодушных или враждебно настроенных свидетелей Катастрофы, так и формы аутентичной амнезии (в 1968–1980 годах тему уничтожения евреев почти полностью исключили из школьных учебников; то есть по крайней мере одно поколение было сформировано в условиях полной исторической амнезии). Поэтому невозможно предположить, что художники театра и зрители обладали одним и тем же фундаментом знания и памяти о Катастрофе. Писать о памяти Катастрофы в послевоенном польском театре – это, собственно говоря, значит впадать в явный анахронизм, который не позволит уловить сложной игры между памятью и забвением, знанием и неведением, активизированием памяти и ее выработкой, защитными механизмами и шоком от того, что они оказываются сломаны. Особенно если признать, что термин «Холокост» в той же мере относится к историческому событию уничтожения европейских евреев, сколь и составляет систему сложных, часто внутренне противоречивых правил интерпретации этого события, конструирует разнообразные стратегии позиционирования его в коллективной памяти, формулирует этические заповеди свидетельствования и поднимает вопрос о разнообразных формах репрезентации (в том числе в искусстве)7676
На это обращала внимание Александра Убертовская в предисловии своей книги «Свидетельство – травма – голос», формулируя в то же самое время тезис, что польская культура – это место, откуда «плохо различим» Холокост. Можно добавить, что модальности и формы этого «плохого ви́дения» и сформировали самые значительные явления польского послевоенного театра. Ubertowska A. Świadectwo – trauma – głos. Kraków: Literackie reprezentacje Holokaustu, Universitas, 2007. S. 22–23.
[Закрыть]. Польский театр, работающий в течение нескольких послевоенных десятилетий в условиях как избытка, так и дефицита памяти, оказался вне этой историко-идеологической конструкции. Исследования театра, который существует всегда ради конкретной публики в конкретном времени и месте, должны отбросить этический ригоризм такого рода. В противном случае мы рискуем утратить из поля зрения механизм повторения, который для описываемой мною формации польского послевоенного театра имел и продолжает иметь ключевое значение. Александра Убертовская писала, что с перспективы польской культуры Холокост «плохо различим». Можно, однако, этот тезис перевернуть. С перспективы Холокоста (понимаемого прежде всего как форма дискурса об исторических событиях) плохо различима послевоенная польская культура.
Шошанна Фелман вслед за Дори Лаубом, который изучал свидетельства Катастрофы в перспективе своей психоаналитической практики, занялась поисками структур скрытого или вытесненного свидетельства Катастрофы в текстах, которые непосредственно к ней не относились. Под этим углом зрения она проанализировала два романа Камю («Чуму» и «Падение»), а также теоретические работы Поля де Мана7777
Felman S., Laub D. Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History. New York; London: Routledge, 1992.
[Закрыть]. Фелман прочитывает метафору чумы у Камю исключительно в негативном смысле: она не ищет аналогии между ситуацией города, пораженного эпидемией заразы, и Катастрофой, а старается указать на изощренную технику укрытия подлинной темы романа. Ни одна метафора не в состоянии вместить в себя историческое событие Катастрофы. Чума, таким образом, выступает в романе Камю не в сильной, универсализирующей функции метафоры, а лишь в слабой позиции метонимического следа, указывающей скорее на беспомощность, невозможность найти литературный эквивалент тому событию, к которому она отсылает. Более того, Фелман утверждает, что исчезновение реальности, которое несет с собой любая аллегория (стремящаяся заменить конкретику общим смыслом), выражает некую истину о характере самого события, на которое аллегория в этом случае указывает. Аллегория делает действительность нереальной – а именно такого рода переживание и было дано наблюдателям Катастрофы.
Фелман формулирует, таким образом, тезис о «событии, лишенном референциальности», отсылая тем самым к тезису Лауба о «событии без свидетеля». Стоит отметить, что Лауб анализировал прежде всего свидетельства жертв и травматический эффект потери реальности, Фелман же занимается литературными свидетельствами наблюдателей Катастрофы, а также распадом нарративной модели истории, поэтому над ее концепцией стоит задуматься в контексте исследования послевоенного польского театра в перспективе памяти о Катастрофе. Фелман объясняет: «Я предлагаю тут исследовать, каким образом история как холокост [history as holocaust] повлияла на те субъекты истории, которые не были ни экзекуторами, ни ее жертвами, самым непосредственным образом от нее претерпевшими, но ее историческими наблюдателями, ее свидетелями»7878
Ibid. P. 96.
[Закрыть]. Поскольку невозможно представить себе само историческое событие, свидетель призывает на помощь воображение, но также старается передать ту его – в данном случае основополагающую – черту, какой является собственно «невообразимость». На место исторического факта нужно, таким образом, подставить другой нарратив и обнаружить их взаимную несовместимость. Именно так Фелман рассматривает под увеличительным стеклом текстуальные следы исчезающего события. Например, она приводит такой фрагмент: «Пройдя войну, с трудом представляешь себе даже, что такое один мертвец. И поскольку мертвый человек приобретает в твоих глазах весомость, только если ты видел его мертвым, то сто миллионов трупов, рассеянных по всей истории человечества, в сущности, дымка, застилающая воображение»7979
Камю А. Чума // Камю А. Избранное. М.: Радуга, 1988. С. 119.
[Закрыть]. Метафорическая «дымка, застилающая воображение», по мнению Фелман, указывает на реальный дым крематориев, является его текстуальным следом и в то же время – записью самого процесса исчезновения. Остатком визуального образа и результатом работы забвения.
Самый сильный тезис, представленный Фелман в анализе «Чумы», касается читателя как опоздавшего свидетеля, который в процессе чтения развивает способность своего воображения – к переживанию в собственном теле того, что случилось в теле другого. Читатель переживает акт чтения как состояние непосредственного, физического включения в реальность. Как раз по этой причине я хотел бы то, что предлагает Фелман, применить к театру, как к той сфере послевоенной польской культуры, которая привела в движение самые сильные механизмы защиты – защиты от того, чтобы принять позицию свидетеля Катастрофы, и в рамках которой одновременно позиция свидетеля оказалась воссоздана c почти что галлюционной интенсивностью непосредственного, аффективного переживания. В том числе и введенная Фелман категория «события, лишенного референциальности» представляется в этом контексте ключевой.
Попытку наиболее методического объяснения механизма аффективного включения в акт чтения представил Эрнст ван Альфен8080
Alphen E. van. Affective Reading. Loss of Self in Djuna Barnes’s «Nightwood» // The Practice of Cultural Analysis. Exposing Interdisciplinary Interpretation. Ed. Mieke Bal. Stanford, CA: Stanford University Press, 1999. P. 151–170.
[Закрыть], отсылая к книге Элейн Скерри Body in Pain, в которой феномен боли оказался представлен как состояние, лишенное интенционального объекта. Боль является чистым состоянием, она всегда идет впереди мысли о его причине, она вызывает помехи в референциальных возможностях языка, а в крайних случаях даже полностью их уничтожает. На противоположном полюсе размещено воображение, работу которого можно уловить исключительно через механизм референтности: невозможно себе представить воображение в чистом состоянии, без какого бы то ни было объекта, без «предмета воображения». К воображению можно приблизиться исключительно через состояние воображения себе «чего-то». Скерри, чтобы лучше дать почувствовать описываемые ею феномены, отсылает к ситуации, когда ты дотрагиваешься до какого-либо предмета (например, до колосьев). Чем более мы ощущаем, что до чего-то дотрагиваемся, в то время как сам предмет исчезает в акте перцепции, тем ближе мы находимся к полюсу боли. А чем более наше внимание концентрируется на предмете, а наши непосредственные чувственные ощущения ослабевают, тем ближе, в свою очередь, мы оказываемся к полюсу воображения. Ван Альфен признает, что акт чтения находится, как правило, ближе к полюсу воображения; однако, по его мнению, существуют и исключения. Если читатель сильнее переживает свои собственные аффекты и перестает отдавать себе отчет, какие объекты их вызвали, тем более акт перцепции становится беспредметным, отсылающим к самому себе, и акт чтения приближается к полюсу боли.
Ван Альфен заканчивает свои размышления радикальным выводом по поводу двух способов позиционировать себя по отношению к объектам культуры: «я хотел бы отделить аффективное чтение от чтения, более направленного на объект […]. Вместо того чтобы идентифицировать объект, уловить его, пришпилить, вобрать в акте понимания, аффективное чтение устанавливает другие отношения с объектом культуры: оно до него дотрагивается. Такой акт – это вызов, бросаемый оппозиции внешнего и внутреннего, которая чаще всего определяет любые эпистемологические вопросы. Акт осязания разыгрывается на трудноуловимой границе между внутренним и внешним. И именно это, как я смею утверждать, превращает такие акты чтения в практику культуранализа. Именно когда читатель, в буквальном и конкретном смысле слова, находится вне книги, которую он читает, он находится внутри культуры, которая позволяет ему эту книгу понимать. Дотрагиваться до объекта – это значит участвовать в культуре самым интенсивным из всех возможных способов»8181
Alphen E. van. Affective Reading. Loss of Self in Djuna Barnes’s «Nightwood». P. 170.
[Закрыть]. Аффективное чтение располагается, по мнению ван Альфена, там, где расположены тело, боль, осязание, потеря «я» и утрата способности понимания.
3
Роберт Иглстоун8282
Eaglestone R. Identification and the genre of testimony // Immigrants & Minorities. 2002. 21:1-2. P. 117–140.
[Закрыть] приводит рассказ Шарлот Дельбо о ее подруге по Аушвицу и о ее муже, который, желая приблизиться к тому, что пережила жена, вбирал в себя всевозможные исторические работы, рассказы свидетелей, литературные тексты, приехал в Польшу, чтобы увидеть «это место» собственными глазами. В конце концов он знал об Аушвице «больше», чем его жена, мог «поправлять» некоторые ее воспоминания, например в отношении определенных топографических деталей. Дельбо оказывается не в состоянии перенести этой ситуации, она отказывает мужу подруги в праве на какое бы то ни было знание по поводу Аушвица, прерывает свой визит в их доме, уезжает. Нет знания об Аушвице без того, чтобы самому пережить Аушвиц, – такова позиция Дельбо, которая через Аушвиц прошла.
Суровая этика свидетельства устанавливает границы нежелательных идентификаций, сдвигов, переработок, злоупотреблений и мистификаций, воспринимаемых как заслуживающая этического осуждения апроприация чужого переживания. Более того, театральная ситуация в определенном смысле становится моделью такой апроприации, основанной на неконтролируемом акте повторения. Роберт Иглстоун прибегает к понятию чрезмерной идентификации (over-identification), в процессе которой приводится в действие внутренний театр: мы видим себя в разнообразных ролях, связанных со сценой насилия, представленной в свидетельстве. Эта модель, понятное дело, заклеймена Иглстоуном как этически неправильная.
Непростые механизмы апроприаций, связанных с позицией жертвы, оказались сегодня в центре исследовательских интересов, концентрирующихся вокруг понятия травмы. Наиболее вдумчиво, пожалуй, принимая во внимания также этическую перспективу, проследил их Доминик ЛаКапра8383
LaCapra D. History in Transit: Experience, Identity, Critical Theory. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004.
[Закрыть], критически настроенный по отношению к концепции травмы, в которой доминирует лакановский дискурс и понятия конститутивного недостатка, потери, отсутствия. Как раз случаи, которые в дискурсе, анализирующем этические границы репрезентации Катастрофы, оказываются «заклеймены» и маргинализированы, тут становятся объектами пристального внимания. Что, в свою очередь, приводит к изменениям в самой рефлексии над этими этическими границами. Правильно заметил Эрнст ван Альфен8484
Alphen E. van. Symptoms of Discursivity: Experience, Memory and Trauma. In: Acts of Memory. Cultural Recall in the Present. Ed. Mieke Bal, Jonathan Crewe, Leo Spitzer. Hanover; London: Dartmouth College, University Press of New England, 1999. P. 24–38.
[Закрыть], что дискурс об этических границах репрезентации Катастрофы часто принимает в качестве исходного пункта два понятия, значения которых определяются слишком жестко: одно из них – это «репрезентация», другое – «Холокост». Именно благодаря этому их взаимные отношения могут подлежать этическому контролю, а невыразимость Холокоста начинает тогда означать неадекватность традиционных, устоявшихся систем репрезентации по отношению ко столь чудовищному историческому событию. Ван Альфен предлагает другой подход: с самого начала признать историческую изменчивость категории репрезентации, а разрыв между переживанием и формами его репрезентации признать парадигматическим – его невозможно преодолеть и именно он кладет начало стихии повторений.
Так что, как утверждает Альфен, все те проблемы, что связаны с репрезентацией Катастрофы в произведении искусства, являются повторением ситуации свидетеля, пытающегося дискурсивно оформить пережитый опыт и неспособного найти стабильную субъективную позицию внутри дискурса, так же как и установить нарративные рамки для своего повествования. Отсюда необходимость театра как модели такого опыта. Тезис Альфена, таким образом, ставит под вопрос то, что сформулировал Клод Шумахер в предисловии к Staging the Holocaust. Этическая позиция означает в этом случае не столько готовность морализировать от имени жертв, сколько необходимость принять любые последствия, вытекающие из фундаментальной неясности собственных позиций, как субъекта и объекта, в границах ведущегося дискурса, а также из утраты устоявшихся нарративных рамок, в границах которых представляемое переживание могло бы поместиться. Поэтому ни «неправильное» позиционирование субъекта, ни «неправильное» прочтение события не могут быть этически стигматизированы и отвергнуты – их следует включить в дискурс, правила которого должны измениться. Поэтому ван Альфен предлагает пользоваться понятием «симптома дискурсивности». Симптом указывает на работу либидо. Без нее он становится всего лишь фигурой, сконструированной осознающим себя субъектом – а значит, идеологической.
Отыгрывая еврея
1
В рамках дискуссии об этических границах репрезентации Катастрофы метафоры театра оказались в поле моральной амбивалентности: без них невозможно уловить, что в Катастрофе было исключительного и уникального, но в то же самое время они становятся объектом идеологического надзора как модель неконтролируемых процессов переноса (особенно потому, что театральные метафоры обладают силой деконструировать любой догматизм). Медиум театра не в состоянии подчиниться таким ригористическим правилам, а принятие позиции жертвы не может быть исключено из репертуара возможных ролей. Особенно польский театр, пересматривающий после 1945 года те жертвенные мифы, которые были заложены в основу его идентичности, предстает как крайний случай злоупотребления «перспективой жертвы»: даже не с целью стабилизации традиционной идентификации, а как раз для того, чтобы поставить ее под вопрос путем представления зрителю такого образа страдающего человека, которого они не в состоянии принять, включить в горизонт культурных норм, гарантирующих возможность отождествления или эмпатии.
То, что театр как медиум памяти о Катастрофе был маргинализирован, может удивлять уже и потому, что метафоры театральности – явные или скрытые – оказались в центре почти всех основных дискурсов, посвященных событиям Катастрофы и памяти о них. Так, как если бы театр существовал только как метафора самого себя, как медиум, лишенный культурного значения, полезный только как инструмент для описания любых опосредованных форм опыта.
Этот колонизаторский захват театра как поставщика удобных метафор высвободил презрение относительно его самого как медиума, отодвинул театр на обочину эстетических перемен и позволил пройти мимо его участия в процессе негоциаций значений прошлого. А также исключил его из регистра истории культуры, убирая из поля видимости его изменчивость, его полиморфичность, способность ставить под сомнение собственные правила (ведь определения «театральности» должны были обнаруживать определенную универсальность и постоянство, чтобы можно было их использовать в негативном смысле для описания исторических явлений, исключительных и переломных).
В связи с моими размышлениями мне хотелось бы выделить четыре группы таких метафор. Первая из них касается распределения ролей, вторая – вопроса идентичности, третья – проблематики видимого, а четвертая – идеи повторения8585
На полях я хотел бы заметить, что все указанные типы метафор описывают одновременно медиум театра в концепции Сэмюэля Вебера, так что следовало бы предположить, что такой взгляд на театр имеет историческую обусловленность – этот взгляд сформировался в условиях посттравматической культуры. Правда, сам Вебер на такой контекст непосредственно не указывает, однако он вполне однозначно замечает, что представленная им концепция театральности носит исторический характер и вписана в процесс радикальных философских и эстетических пересмотров (связанных с развитием новых средств коммуникации). Можно сказать, что он развивает положения Делеза, который, противопоставляя «театр представления» «театру повторения», указывает на Ницше и Кьеркегора как на мыслителей, изобретших «в философии невероятный эквивалент театра, основывая, тем самым, театр будущего и одновременно – новую философию». Делез Ж. Различие и повторение… – с. 21.
[Закрыть]. Все они указывают на театр как на место, в котором проходит разграничительная линия: между участниками театрального события, между фактами и репрезентацией (то есть, в сущности, между тем, что находится внутри театра и вне его), между актером и персонажем, между полем зрения и пространством, находящимся за его пределами (которое всегда присутствует в сознании зрителя – именно там исчезают актеры).
Краткое представление этих групп следует начать с концепции Рауля Хильберга, вводящего распределение ролей в процессе Катастрофы: экзекуторы, жертвы и свидетели – эти роли дифференцируют степень активности, возможность непосредственного вмешательства и точку зрения8686
Hilberg R. Perpetrators Victims Bystanders: The Jewish Catastrophe, 1933–1945. New York: Aaron Asher Books, 1992.
[Закрыть]. При помощи театральных метафор анализируются также радикально понимаемые вопросы идентификации: навязанной, проигрываемой, расщепленной, отрицаемой, что ассоциируется с ситуацией театральной игры, актерской импровизации, самопознания в процессе разыгрывания роли. Уже во время самой Катастрофы возник богатый лексикон слов, которыми определялись скрывающиеся евреи: академик, актер, англичанин, артист, бедуин, деревенщина, испанец, итальянец, кадет, китаец, крашеный, лыжник, негр, похожий, румын, тиролец, француз, ченстоховец, шляпочник, Яцек8787
Blumental N. Żydzi na «aryjskich papierach» (Ze słownictwa czasów okupacji) // Przełom. Nr 20. 30.03.1949.
[Закрыть]. Многие из них (и все вместе) указывают на ситуации, когда надо притворяться, разыгрывать роль, надевать маску, играть комедию. Этот мотив мы найдем и в произведениях Хенрика Гринберга, и в военных дневниках Тадеуша Пайпера. Ему также посвящена книга Малгожаты Мельхиор «Катастрофа и идентичность»8888
Melchior M. Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni «na aryjskich papierach». Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2004. См. также: Pietrzykowska M. Ciało pod powierzchnią i na powierzchni. O ukrywaniu się Żydów po aryjskiej stronie // Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki. Red. Anna Wieczorkiewicz, Joanna Bator. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2007. S. 102–121.
[Закрыть]. В рамках театральной метафорики ставится также вопрос, насколько видимы или, наоборот, незаметны были факты Катастрофы для общества и, прежде всего, связанный с этим вопрос непристойности, то есть нежелательного вторжения в зону видимого. О непристойном характере Катастрофы много раз писал Славой Жижек8989
«…казни Холокоста даже самим нацистским аппаратом воспринимались как непристойная грязная тайна, не обсуждаемая в обществе…». Жижек C. Чума фантазий… C. 111.
[Закрыть]. Также и анализ травматического опыта – в индивидуальной и общественной перспективе – невозможен без привлечения метафор театральности, в особенности же ключевой для изучения травмы метафоры отыгрывания, повторения.
То, что сам медиум театра легко перепутать с его метафорами, используемыми в дискурсе о Катастрофе, стало, может быть, как раз причиной нефункциональности многих инструментов познания при анализе собственно-театральных форм памяти о Катастрофе или же причиной того, что эти инструменты применялись не по назначению. Однако, кажется, что это также подтверждает особенную открытость и чувствительность театра по отношению к феномену повторения, проявляющемуся в неясных, эфемерных, деформированных формах.
Не стоит, однако, забывать о предостережении Джеймса Э. Янга, который, обращая внимание на богатство фигуративного языка, присутствующего в дискурсе о Катастрофе, замечал, что этот язык «никогда не является абсолютно невинным и почти всегда несет часть ответственности за те действия, которые мы производим в действительности»9090
Young J. E. Writing and Rewriting the Holocaust. Narrative and the Consequences of Interpretation. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1988. P. 84. Это не означает, однако, что нужно отказаться от метафоры и осудить ее. Метафоры не только фальсифицируют действительность и противодействуют фактам, но также способствуют доступу к ним. Позиционировать Аушвиц вне каких бы то ни было метафор означало бы исключить его из языка и тем самым раз и навсегда окончательно мистифицировать.
[Закрыть]. Это касается в том числе и театральных метафор. Если придерживаться распределения ролей, предложенного Хильбергом, стоило бы, таким образом, поставить вопрос и о распределении театральных метафор в рамках этих ролей. Для экзекуторов театр становится прежде всего моделью управления тем, что видимо, и тем, что остается невидимым, создания механизмов иллюзии. Стоит только вспомнить, что первая газовая камера, примененная для уничтожения, не только была названа «баня», но и выглядела как баня. В свою очередь, наблюдателям метафоры театра служат для оправдания собственной пассивности: мы не могли ничего сделать, мы вынуждены были смотреть. Граница между сценой и публикой обозначает в этом случае линию утраты ответственности за то, что ты видишь. А для жертв, которым удалось выжить, ключевым переживанием была смена идентичности, связанная с игрой, где на кону стояла жизнь. Описанные Малгожатой Мельхиор приемы, при помощи которых евреи скрывались, живо напоминают приемы характерного актерства XIX века, со всем спектром доступных ему средств (грим, костюм, изменение способа речи и поведения).
Несмотря на то что эти метафоры отсылают к самым традиционным представлениям о театре (иллюзорность, пассивность зрителей, принятие на себя в процессе игры чужой идентичности), в дискурсе о Катастрофе они всегда проявляются в трансгрессивной форме: в ситуации, когда границы между видимым и невидимым, между репрезентацией и событием, между актером и персонажем, между актером и зрителем, между пассивностью и активностью оказываются нарушены, перейдены. Театр как модель обозначения границ, ограничения поля зрения и распределения активных и пассивных позиций стал зловещей матрицей Катастрофы. Ведь в основе определения, что такое феномен театральности, не лежат в этом случае какие бы то ни было механизмы культуры, в основе тут – политическое и физическое насилие.
Именно эта зловещая и непристойная театральность Катастрофы не позволяет исключить ее из истории культуры и трактовать как «ночь», «затмение», «нечто невообразимое», «варварство». Как заметил Станислав Лем (или, собственно говоря, Асперникус – фиктивный автор несуществующей книги об Endlösung, о которой рассказывается у Лема), для экзекуторов Катастрофы более важны были духовные цели, чем материальные: «Если […] утверждает он, преступление из спорадического нарушения норм превращается в правило, господствующее над жизнью и смертью, оно обретает относительную самостоятельность, так же как и культура»9191
Лем C. Хорст Асперникус. Народоубийство // Лем C. Библиотека XXI века. Пер. с пол. М.: АСТ, 2002. С. 451.
[Закрыть]. Лем задумывается, например, над тем, почему жертвы Endlösung всегда должны были гибнуть нагими (иначе это выглядело в случае других жертв нацизма). Откуда эта потребность вызвать эсхатологический эффект, уже выходящий за пределы чисто функциональных концепций Катастрофы? И объясняет: «дело было не только в полезности преступления, но и в удовлетворении, которое оно доставляло само по себе»9292
Там же. C. 446.
[Закрыть]. И даже более того: «Мерзость лжи была узаконенным наслаждением нацистской машины человекоубийства, и злу было бы просто жаль отказаться от такого источника дополнительных удовольствий»9393
Там же. C. 458.
[Закрыть]. Лем, таким образом, утверждает, что маскирующие, театральные процедуры в виде словесных эвфемизмов, создания иллюзии (газовые камеры как душевые) не только служили бесперебойному действию машины Катастрофы, но и приносили экзекуторам дополнительное удовольствие. Сваливая ответственность на фиктивного Асперникуса, Лем идет в своих выводах еще дальше: театральность Катастрофы свидетельствует, по его мнению, о «принадлежности немцев к христианской культуре, которая наложила на них отпечаток настолько глубокий, что они при всем желании не смогли окончательно выйти за пределы Евангелия»9494
Там же. C. 447.
[Закрыть]. С одной стороны, они чувствовали себя обязанными скрывать некоторые свои действия, считая их чрезмерно непристойными. Используемые эвфемизмы, маски и камуфляжи свидетельствовали о попытке поддерживать непрерывность культуры как некоего комплекса медиацийных инструментов, используемых ради посторонних наблюдателей – при желании уничтожить всех евреев. А с другой стороны, в самой сердцевине оберегаемой от нежелательного взгляда непристойности они подчинялись потребности театрализовывать собственные действия. «А значит, какой-нибудь стиль и какие-нибудь образцы не могли не заполнить беспримерную пустоту конвейерного умерщвления, и ими оказались самые расхожие образцы, усвоенные еще во младенчестве, – образцы и символы христианства; и, хотя, став нацистами, палачи от него отреклись, это не значит, будто им удалось вычеркнуть его из памяти совершенно»9595
Там же. C. 464.
[Закрыть]. Результатом такого рода театрализации был сценический китч, расцветающий в самом эпицентре преступления.
«Как же должны предстать подсудимые на Страшном суде? Нагими. И Страшный суд наступил – повсюду была долина Иосафата. Раздетым жертвам отводилась роль осужденных в спектакле, где все было поддельным, от доказательств вины до беспристрастности судей, – все, кроме конца. Но ложь оборачивалась здесь правдой, ведь им и вправду предстояло погибнуть. […] Разумеется, если описывать все именно так, нельзя не увидеть, что мистерия, которая день за днем, год за годом разыгрывалась в десятках разбросанных по Европе мест, была тошнотворным фарсом. […] Поистине, исполнять роль Бога Отца в этой пьесе – с ее отвратительными барачными декорациями между рядов колючей проволоки – было непросто […]. Было бы слишком бессмысленно и безнадежно исполнять эту роль без сокращений и отсебятины, следовать ей чересчур пунктуально; убийцы, пресыщаясь все больше, довольствовались уже немногими эпизодами действия, скупыми фрагментами Страшного суда, генеральными репетициями, но непременно с настоящим концом. Уровень исполнения падал, трупы не желали гореть, из могил после их утрамбовки сочилась кровь, летом смрад сжигаемых трупов давал о себе знать даже в удаленных от крематория домиках лагерного персонала, но смерть, по крайней мере, всегда оставалась доподлинной»9696
Лем C. Хорст Асперникус. Народоубийство. C. 462–463.
[Закрыть].
Можно увидеть сходство «театра» Катастрофы, столь суггестивно обрисованного Лемом, с образом христианского барочного театра «падшей истории», который дал Вальтер Беньямин, образом, который возникает на руинах трагического театра и средневековых пассийных пьес: «История в мире, лишенном знаков трансценденции, история, лишенная каких бы то ни было предохранительных механизмов, – это катастрофическая стихия, стихия […] не столько вечной жизни, сколько вечного разложения»9797
Lipszyc A. Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina. Kraków: Universitas, 2012. S. 196.
[Закрыть]. Адам Липшиц, реконструируя беньяминовское ви́дение театра, созданное в двадцатых годах ХХ века, представляет его – сознательно или нет – в силуэтах Холокоста; в книге Беньямина о немецкой драме траура он высматривает черты «будущей» катастрофы. Барочный театр «падшей истории» – полон крови и безвкусен, он осязаемо материален и временен, а присущие истории механизмы уничтожения превращают людей в марионетки. «В этом мире смерть не имеет ничего возвышенного, жизнь – это только генерирование останков, которое продолжается беспрерывно, начинаясь со стрижки волос и ногтей, и не факт, что кончается в момент смерти, поскольку и тогда волосы и ногти не перестают расти»9898
Ibid. S. 198–199.
[Закрыть]. Как противостоять такого рода протяженности «традиции», в какую складываются в этом случае история театра и история театральных метафор (не позволяя возвышенно исключить Катастрофу из регистра культуры)?
Знал ли Лем «Бригаду смерти» Леона Величкера – изданное в Лодзи сразу после войны свидетельство молодого львовского еврея, работавшего в зондеркоманде Яновского концлагеря? Сама собой напрашивается мысль, что он должен был эту книгу читать. Более того, его собственное произведение представляется в большой степени – именно комментарием к «Бригаде смерти». У Величкера постоянно возвращается одна и та же картина: люди, раздевающиеся у предназначенной им общей могилы, мы находим у него бесконечные, монотонные описания одних и тех же сцен: трупы извлекают из могил, складывают в груды, сжигают; повторяются описания запаха гниющих и горящих тел, хождения в лужах крови, инфернального пейзажа с вечно полыхающим огнем и густым черным дымом. Сожжение человеческих тел в укрытых долинах и ущельях в предместьях Львова длилось неделями. «Сущий ад», – комментирует один из сотоварищей Величкера. В этом изолированном пространстве – только жертвы и их преследователи-садисты. Нет никаких зрителей, ротозеев, посторонних наблюдателей9999
Особенным вариантом повторения было, таким образом, неприятие критиками и публикой произведения Кшиштофа Пендерецкого «Бригада смерти», основанного на дневнике Леона Величкера. Его первое исполнение имело место 24.01.1964 на концерте Польского музыкального издательства. «Все это должно остаться в музее и показываться тем, кто хочет знать, как выглядели человеческие судьбы в лагерях» (zmc [Zygmunt Mycielski], Nieporozumienie // Ruch Muzyczny. 1964. Nr 5. S. 9).
[Закрыть]. Каратели, однако, не могут устоять перед потребностью в театре: «Унтерштурмфюрер […] приказал трем шорникам, которые работали в мастерской на нужды немцев, чтобы они сделали для обоих брандмейстеров шапки с рогами – как у настоящих чертей. Начиная с этого дня они шагают на пару во главе целой бригады, как символические фигуры, с черными рогами на голове и с метлами в руке, которыми шуруют в огне. Они всегда просмолены от огня, они черные, в черных кожухах и черных ботинках. Настоящие черти»100100
Weliczker L. Brygada śmierci (Sonderkommando 1005). Łódź: Pamiętnik, Wydawnictwa Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich, 1946; reprint: Lublin: Ośrodek Brama Grodzka, 2012. S. 84.
[Закрыть]. Их проход сопровождается музыкой, исполняемой лагерным оркестром. Величкер записывает, какое впечатление произвел их дьявольский проход на других узников лагеря: «Люди из лагеря, видя, что наша бригада направляется к ним, спрятались в бараки. А мы, маршируя, пели. Ведь мы не выглядим так уж устрашающе? Это наши два брандмейстера, выглядевшие, как настоящие черти в шапках с рогами на голове и с кочергами в руках, – сеяли такой переполох»101101
Weliczker L. Brygada śmierci… S. 89.
[Закрыть].
В христианском театре Средневековья была известна фигура еврея, породненного или даже отождествленного с чертом. Так же как и рога (в виде ли pileum cornutum или изображения рогатой фигуры) бывали в христианской Европе знаком, к ношению которого евреев могли обязать102102
Трахтенберг Дж. Дьявол и евреи: Средневековые представления о евреях и их связь с современным антисемитизмом. М.; Иерусалим: Гешарим, 1998. С. 43.
[Закрыть]. Величкер, однако, не осознает этих культурных ассоциаций. Кошмарную театрализацию рабского труда он принимает за еще одно проявление неограниченной власти палачей над жертвами. Он не признает, впрочем, за этой «театральной мистерией» права быть адекватным выражением ситуации узников, работающих в зондеркоманде, и не считает ее самым ощутимым из переживаемых страданий и унижений. Хотя до него абсолютно доходит тот факт, что как живые заключенные, так и трупы являются для палачей всего лишь марионетками (Величкер несколько раз пишет о том, что мучители называли их Figuren). Однако в своем отчете он старается дистанцироваться по отношению к этой овеществляющей человека театральности, не позволить уничтожить себя инфернальному «зрелищу» и навязанной «роли». Вот так писала о Величкере Рахеля Ауэрбах, которая после войны помогала ему редактировать его дневник: «Как следует из его автобиографии, способность выжить в трудном и опасном положении присуща ему в высшей степени. Многократно оказываясь в руках немцев, раз за разом он находит случай – убежать. Даже когда он стоит уже раздетый над могилой в ряду людей, которых готовятся расстрелять, – а он к тому же тяжело болен – он не капитулирует. Он не отказывается от жизни. Не поддается фатализму тяги к уничтожению, которому сомнамбулически подчинялось столько евреев. Он старается себя спасти, и удача ему сопутствует»103103
Auerbach R. Uwagi wstępne // Weliczker L. Brygada śmierci… Op. cit. S. 13.
[Закрыть]. Из рассказа Величкера вытекает, что искусство выживания требовало надеть маску, стать комедиантом: «Унтерштурмфюрер все время приходит и спрашивает, довольны ли мы. Каждый из нас понимает, что нельзя сказать „нет“. При этом он спрашивает того и этого, почему у него такая грустная мина, может, ему что-то не нравится, так в этом случае он может отослать его обратно в лагерь. Мы все знаем, что у него „лагерь“ означает огонь. Вспомнили мы слова полицая, так что с сегодняшнего дня стараемся быть „в веселом настроении“. Превращаемся в комедиантов. Сердца плачут, а лица – веселые»104104
Weliczker L. Brygada śmierci… Op. cit. S. 66.
[Закрыть].








































