Текст книги "Кандинский. Истоки. 1866-1907"
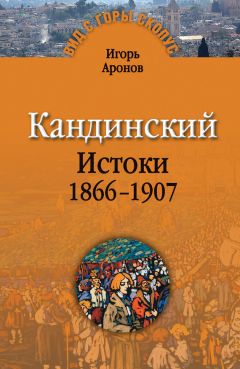
Автор книги: Игорь Аронов
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Визит Кандинского в Москву осенью 1903 г. пробудил в нем много воспоминаний. Он писал об этом Габриэле:
Я испытываю действительно странное чувство здесь, в Москве. Сотни воспоминаний, частично забытых образов, весь характер древнего русского города, который я еще в состоянии понять, эти церкви, дрожки, помещения, люди, которые одновременно так знакомы и так далеки. Я покинул Москву семь лет назад и только сейчас и впервые неожиданно переживаю все это[147]147
В.В. Кандинский – Г. Мюнтер, 9 окт. 1903 г., из Москвы в Мюнхен (ФМА); см. также: [Barnett 1995: 97].
[Закрыть].
В основу Гомона легли скорее личные переживания Кандинского, чем исторические мотивы. В этом его произведение отличается от картин Аполлинария Васнецова, запечатлевшего исторически достоверные сцены из жизни Москвы XVI–XVII вв., например Базар. XVII век (1903; ГИМ).
Среди «сотен воспоминаний, частично забытых образов», которые охватили Кандинского, по его признанию, в Москве в 1903 г., было, вероятно, и воспоминание о самом близком друге его юности, Николае Харузине, семью которого он сейчас посетил. Отношения Кандинского с Харузиным были сложными, но именно в них Кандинский искал то, что он назвал близостью между «сердцами однозвучащими». Чувство внезапности утраты и беспомощности перед смертью, звучащее в письме Харузину 1894 г. и вновь пережитое Кандинским, когда в 1903 г. скончалась его тетя, могло лишь усилиться с ностальгическим воспоминанием о друге, внезапно умершем в 1900 г.
Такое наслоение переживаний и воспоминаний обусловливает внутренний путь, которым шел Кандинский к композиции центральных фигур в Гомоне и Приезде купцов. Два маленьких мальчика в самом центре на переднем плане стоят близко друг к другу, лицом к лицу. Их близость подчеркивает неоднозначность фигур юношей, которые стоят по обе стороны от детей, напротив друг друга, но не смотрят друг на друга, будучи внутренне разъединены. За этой неоднозначностью стоит несколько подтекстов. Отношения между Кандинским и Харузиным при жизни последнего были неоднозначными. Смерть окончательно разъединила их физически, но воспоминания Кандинского вновь соединили его с другом. Намек на это содержится в деталях изображения. Грустный юноша слева, одетый в простой кафтан, держит шапку в руках, обнажив голову, как по русскому обычаю обнажают голову в знак почтения перед покойным. Второй юноша справа, в более богатом одеянии и с шапкой на голове, стоит в одиночестве, повернув голову к толпе и городу. Он наблюдает бурную жизнь, не участвуя в ней.
Переживание художника легло в основу образа-символа, который стал духовной реальностью через воплощение в чувственной форме. Факты действительности, вызвавшие переживание, уходят в тень в образе-символе, который направлен на выявление вечных истин. Уже в гравюре Гомон в зародыше содержится образ России, который Кандинский разовьет в своих последующих произведениях. Каждый персонаж ксилографии имеет индивидуальные черты, выраженные в его облике, позе, движении, действии, жестах. В своей совокупности люди формируют единый организм. Сложное целое кажется внешне хаотичным в своей жизни, но на самом деле свободное существование элементов уравновешивается их ритмической организацией. Положения фигур, как составляющих группы, так и стоящих отдельно, повторяются с ритмическим единообразием, выраженным и в игре черных и белых пятен. В глазах Кандинского Россия была единой «пестрой сложностью» [Кандинский 1918: 22], в частности отраженной в образе Москвы, о котором он писал в «Ступенях»:
Москва: двойственность, сложность, высшая степень подвижности, столкновение и путаница отдельных элементов внешности, в последнем следствии представляющей собою беспримерно своеобразно единый облик; те же свойства во внутренней жизни [Там же: 53–56; Kandinsky 1982: 382].
«Эту внешнюю и внутреннюю Москву, – говорил Кандинский, – я считаю исходной точкой моих исканий» [Кандинский 1918: 56]. Гравюра Гомон – один из первых подступов художника к воплощению этих исканий. Выбор сцены из жизни Руси XVI–XVII вв. определялся его стремлением включить созданный им образ в русский исторический и духовный контекст, то есть сделать его «вечным» или, иными словами, реализовать в нем неразрушимую духовную реальность. Гомон, шумное внешнее и внутреннее многоголосье жизни, противостоит силе мрака, смерти и разрушения, представленной в образе черного чудовища в Змее (ил. 34).
Девятое визуальное стихотворение, Прощание (ил. 37), переносит нас из Руси в рыцарские времена западноевропейского Средневековья[148]148
Этот образ повторен Кандинским в цветной ксилографии бо́льших размеров (хранится в АК).
[Закрыть]. Романтическая сцена прощания рыцаря с дамой происходит у выхода из черного леса, у границы между мглой и светом, в символизме которых зашифрован смысл образа.
2 сентября 1903 г. Кандинский написал Габриэле письмо, полное любви, закончив его словами: «Только думай обо мне, хорошо?». В письмо он включил сочиненную им на немецком языке «песню», в которой он интерпретировал символику света и тьмы через метафорическое противопоставление белого облака черному лесу:
Die weiße Wolke, der schwarze Wald
Ich warte auf dich. O, komme doch bald.
So weit ich sehe, so weit nach vorn,
Das glänzend, goldene, reife Korn.
Du kommst ja nicht. O welcher Schmerz!
Es zittert und blutet mein armes Herz.
Ich warte auf dich. O, komme doch bald!
Ich bin allein im schwarzen Wald[149]149
В.В. Кандинский – Г. Мюнтер, 2 сент. 1903 г., из Мюнхена в Бонн (ФМА); см. также: [Barnett 1992: 105].
[Закрыть].
Белое облако, черный лес.
Я жду тебя. Приди же скорей.
Я вглядываюсь вдаль,
Сверкает золотая, спелая рожь.
Ты не идешь. Какая боль!
Бедное сердце дрожит и кровоточит.
Я жду тебя. Приди же скорей!
Я одинок в черном лесу.
Лирический герой Кандинского видит свет за пределами черного леса, но по загадочной причине остается в лесу, ожидая в темноте таинственную возлюбленную.
В октябре 1903 г., почувствовав некую холодность в письмах Габриэлы, которая не могла понять причин его затянувшегося развода с женой, Кандинский написал ей из Москвы письмо, которое много добавляет к пониманию его личности и связи между его жизнью и искусством:
Твое первое письмо в Москву было еще более холодным. И оно сильно огорчило меня. <…> Только на днях я понял твою беспрестанную тему «я не понимаю этого», которая со времени Кохеля всегда была у тебя на устах. <…> Ах! Любовь, мне жаль тебя. Кажется мне порой, что ты вовсе не знаешь, что такое радость, РАДОСТЬ, прекраснейшая, чистейшая радость, которая не от людей приходит, не от людей происходит. Но это божественное чувство, которое внезапно проясняет почти все непонятное. Я искал то, чего мне недоставало, я непременно хотел этого. Но кажется мне, что невозможно когда-либо найти это. – «Чувство потерянного рая» – так я назвал однажды такое состояние души. Лишь много позже я обрел глаза, которыми порой могу подсматривать через замочную скважину Врат Рая. Я слишком скверен и слаб и не способен всегда держать эти глаза открытыми. Я все еще ищу слишком много на земле. А кто искал здесь внизу, не искал, конечно, совершенно ничего наверху. Да, Элла, я могу предоставить тебе подиум и т. д. Это еще в силе[150]150
В.В. Кандинский – Г. Мюнтер, 11 окт. 1903 г., из Москвы в Мюнхен (ФМА).
[Закрыть].
Кандинский был одержим своими недостижимыми идеалами. В юности он безуспешно ждал, что Николай Харузин ответит на его мечту о близости между «сердцами однозвучащими». Он надеялся, что найдет с Анной «счастье, которое не сознаешь», но столкнулся лишь с «тяжко обманутыми надеждами» и понял, что «не может же быть на земле такого счастья, о котором когда-то мечталось». Сейчас Кандинский ожидал, что Габриэла будет соответствовать его идеальному представлению о любви как «божественном чувстве», «прекраснейшей, чистейшей радости».
Кандинский, подобно герою романа Сенкевича «Без догмата», пытался испытать в жизни то возвышенно-романтическое переживание любви, известное по образам-мифам. В сказочном романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген» (Heinrich von Ofterdingen, 1802) странствующий поэт Генрих находит в юной Матильде воплощение своих духовных исканий. Любовь, соединившая их души в той божественной радости, о которой мечтал Кандинский, открыла им смысл вечности. После внезапной смерти возлюбленной страдающий Генрих отправляется в странствие. В «огромном, суровом лесу» у дерева, в свете таинственного луча, ему предстало мистическое видение Матильды, принесшее покой его душе:
Святой луч извлек все страдание и заботы из его сердца; душа его сделалась снова чистой и легкой, и дух свободным и веселым [Novalis 1960: 321–322].
В русском символизме Владимир Соловьев так передавал чувство светлой радости души, преодолевшей «огонь» земных переживаний:
Вся в лазури сегодня явилась
Предо мною царица моя, —
Сердце сладким восторгом забилось,
И в лучах восходящего дня
Тихим светом душа засветилась,
А вдали догорая дымилось
Злое пламя земного огня
[Соловьев 1990: № XIV].
Новалис и Владимир Соловьев открыли в любви мистические грани. На Новалиса оказала большое влияние ранняя смерть его любимой Софии фон Кюн (Sophie von Kühn). Владимир Соловьев, которого Блок назвал «рыцарем-монахом», пришел к своему идеалу духовным путем. И Новалис, и Владимир Соловьев развили в образах любви глубокие эстетические и религиозно-философские идеи. Новалис связал образ Матильды с несуществующим на земле голубым цветком – многомерным символом духовного в природе, человеке, поэзии. Владимир Соловьев понимал под своей «царицей» мировую душу, вечную женственность, Софию – Божественную Премудрость.
То, что Кандинский в письме Габриэле назвал любовь «божественным чувством» радости, «которая не от людей приходит, не от людей происходит», говорит о том, что его влекла мистическая сторона любви. В то же время он писал ей: «Я все еще ищу слишком много на земле. А кто искал здесь внизу, не искал, конечно, совершенно ничего наверху». Мистическая любовь, очищенная от земных страстей, находилась «наверху». Он искал свой духовный идеал «внизу», узнавая на собственном опыте сложность, изменчивость, непредсказуемость человеческих отношений и часто затрудняясь отличить истину от иллюзии. Здесь, «на земле», таинственная духовная реальность заслонялась действительностью жизни. Кандинский в своем личном стремлении к идеалу в этой жизненной реальности желал больше, чем ближние могли дать ему. Он упрекал Габриэлу в том, что она не знала «божественного чувства» радости. Говоря о своей готовности предоставить ей «подиум», он предъявлял ей требование реализовать его мечту. Одновременно его влекла к ней страсть. «Я испытываю, – писал он Габриэле в том же письме о моментах интимной близости с ней, – сильное чувство, я ничего не думаю. Я только чувствую»[151]151
В.В. Кандинский – Г. Мюнтер, 11 окт. 1903 г., из Москвы в Мюнхен (ФМА).
[Закрыть].
Чтобы выявить истину, скрытую в сложном духовном подтексте действительности, Кандинский использовал образы-символы. Его стихотворение «Белое облако, черный лес» отражает духовную реальность его исканий идеала в жизни в образе символического пейзажа. Когда Кандинский надеялся осуществить идеал «на земле», ему казалось, что он «подсматривал через замочную скважину Врат Рая». Разочаровавшись, он переживал «чувство потерянного рая». В этом контексте его внутреннее состояние символически описывается как существование между светом и тьмой в их многообразных изменениях. Один из моментов переживания конфликта между светом и тьмой выражен в стихотворении, герой которого внутренне бессилен преодолеть тьму в самом себе. Причина его бессилия объяснена самим Кандинским, который утверждал, что обрел глаза, чтобы «подсматривать через замочную скважину Врат Рая», но тут же признавался: «я слишком скверен и слаб и не способен всегда держать эти глаза открытыми». Герой его стихотворения ждет, что истинная любовь освободит его от страданий во мраке черного леса, даст ему ощущение внутренней свободы и покоя, которое метафорически выражается в образе пейзажа с белым облаком над золотой рожью.
В отличие от героя Кандинского в стихотворении «Белое облако, черный лес», рыцарь в Прощании готовится покинуть черный лес и свою даму и отправиться в странствие. Он напоминает Лоэнгрина, оставившего жену во имя служения Граалю.
В контексте ситуации Кандинского, переживающего внутреннюю раздвоенность между чувствами к Анне и к Габриэле, Прощание дополняется образом ожидающей дамы в десятой гравюре, Ночь (ил. 38), повторяющей мотив ранней одноименной гуаши (ил. 22), выполненной художником в подарок Габриэле в начале 1903 г. На более глубоком уровне обе гравюры, отсылающие к «наивному» мотиву средневекового рыцарского романа о любви, касаются проблемы внутреннего оправдания жертвы ради исканий духовного идеала.
Эта же тема обнаруживается в подтексте одиннадцатого визуального стихотворения Поединок (ил. 39). Схватка рыцарей перед распятием подразумевает обычай «Божьего суда» (см.: [Лависс, Рамбо 1897: 52–56]) и символизирует внутренний конфликт Кандинского, находящегося в состоянии между самоосуждением и самооправданием.
Двенадцатая гравюра, Охота (ил. 40), снова отсылает к Руси. Лучник на коне охотится на белых лебедей, прилетевших издалека, из-за белых облаков. О восприятии лебедей в русской народной традиции писал Николай Харузин в своем труде о пудожских крестьянах. Лебеди считаются благородными, священными птицами, связываются с народными представлениями о красоте и верности в любви. В русских сказках лебедь часто оказывается заколдованной царевной. Народный обычай запрещает стрелять лебедей, охота на них считается грехом. По поверьям, охотник, совершивший этот грех, будет несчастлив и даже может погибнуть [Харузин 1889а: 379, 382–383].
В поисках идеала «на земле» Кандинский приходил от надежды к разочарованию, от новой надежды к новому разочарованию. Он пытался объяснить себе и Николаю Харузину причины их отдаления друг от друга:
Мне кажется только, что все недоразумения последнего времени – только внешние проявления внутреннего разлада. Мы, по-видимому, не понимаем друг друга и, как это ни странно, не доверяем друг другу. Почему? Потому что еще мало знаем друг друга, мало соли съели. Это одно. <…> А другое, что, м[ожет] б[ыть], самое главное (для меня самое главное), это то, что наша близость была отчасти лишь воображаемая[152]152
В.В. Кандинский – Н.Н. Харузину, 23 сент. 1893 г., из Васильевского (АХ, ф. 81, д. 5, л. 35–39).
[Закрыть].
После заключения брака с Анной Кандинский писал:
Ведь не может же быть на земле такого счастья, о к[о]т[о]ром когда-то мечталось, счастья, когда не боишься копнуть поглубже, чтобы не выскочило нисколько тяжко обманутых надежд, счастья, к[о]т[о]р[о]е не сознаешь, за которое не цепляешься[153]153
В.В. Кандинский – Н.Н. Харузину, 25 нояб. 1891 г., из Милана (АХ, ф. 81, д. 15, л. 109–110).
[Закрыть].
Затем он признавался Габриэле, что ему кажется невозможным когда-либо обрести «божественное чувство», «прекраснейшую, чистейшую радость, которая не от людей приходит, не от людей происходит»[154]154
В.В. Кандинский – Г. Мюнтер, 11 окт. 1903 г., из Москвы в Мюнхен (ФМА).
[Закрыть]. Каждый раз, когда он болезненно осознавал недостижимость идеала, он разрушал свою мечту, которую связывал с близкими ему людьми. Но в не меньшей степени он причинял боль им, разрушал их надежды. Поэтому его лучник в Охоте, совершающий грех убийства белых лебедей, находится в черном лесу под черным небом.
Развитие тем «Стихов без слов» завершается заставкой Вечность (ил. 41), в которой Кандинский использовал христианскую символику. Светлая тропа, ведущая к храму, означает путь к Богу. Храм – духовный центр мира. Изображение храма напоминает церковную архитектуру Русского Севера[155]155
Например, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове (ок. 1156). Фотография собора была опубликована в: [Толстой, Кондаков 1889–1899(6): Ил. 216].
[Закрыть]. Солнце символизирует божественный свет и вечное обновление жизни.
По Метерлинку, когда люди в мгновения глубоких переживаний горя, радости, страха открывают свою связь с вечным, происходит их духовное рождение. С каждым таким духовным рождением они становятся ближе к Богу. Но подобные события пронзают душу насильно, подобно свету, проникающему в темноту. Люди похожи на слепых из легенды, которые пришли к храму, чтобы услышать Бога, но ворота храма оказались запертыми для них. Хотя голос Бога звучал в храме, они не слышали его, а только ждали, когда ворота откроются. Кто любит глубоко, знает, что душа велика как мир. Но недостаточно видеть вселенную, когда мы находимся в «тени смерти», в «свете радости» или в «пламени красоты и любви». Надо научиться жить постоянно в «красоте и мудрости», смотреть на людей «внутренним оком», чтобы полюбить «вечное» и «божественное» в их душах. Этот путь приведет нас из тьмы к свету, очистит «духовную атмосферу» вокруг нас, откроет ворота храма в душе. Люди знают это, но бродят «под ударами судьбы и смерти» в поисках истины. Недостаточно «знать истину»; надо, чтобы истина «владела нами» [Метерлинк 1915(2): 253–279].
Кандинский знал «мгновения» глубоких переживаний. Он искал духовные истины в жизни и в искусстве. «Бог находится в моем сердце», – утверждал он, говоря о «мгновениях» творческого вдохновения[156]156
В.В. Кандинский – Г. Мюнтер, 10 авг. 1904 г. (ФМА); см. также: [Barnett 1995: 81].
[Закрыть]. Эсхатологический образ в титульном листе «Стихов без слов» (ил. 24) говорит о необходимости духовного спасения. Двенадцать визуальных стихотворений символически представляют духовные искания Кандинского, его внутренние страхи, конфликты и искание пути из тьмы к свету. Финальная заставка утверждает истину в вере. Тем не менее этот образ создает противоречивое впечатление. Тьма здесь господствует над светом. Кандинский еще не научился «жить в красоте и мудрости», любить «вечное», «божественное» в душах других людей. Истина еще не овладела им в жизни, но в своем искусстве он осознал путь к ней.
«Стихи без слов» свидетельствуют о серьезном прогрессе в использовании Кандинским мифотворческого метода для формирования собственного художественного языка символов. Принцип символистского мифотворчества был сформулирован Вячеславом Ивановым только в 1908 г. в работе «Две стихии в современном символизме». Но базовые положения этой теории позволяют прояснить смысл произведений Кандинского, потому что мифотворчество вообще характерно для символизма. Миф, по Вячеславу Иванову, отображает подлинную, вечную реальность. В основе мифов лежат древние представления о таинстве «божественного всеединства». Один и тот же мифологический образ имеет разные смыслы в различных мифах. Каждый смысл выражает один из аспектов «божественного всеединства». Различные смыслы связываются вместе в «великом космогоническом мифе». Символизм показывает человеческому сознанию «вещи» окружающей действительности «как символы, а символы как мифы». Символ – многозначный «таинственный иероглиф», для прочтения которого необходим ключ. Различные значения символа в разных «планах бытия», в «земной» и мистической «сферах сознания» восходят к религиозному (мифологическому) «чувствованию связи всего сущего и смысла всяческой жизни». Создание нового мифа (мифотворчество) заключается не в субъективном толковании древнего мифа, а в более глубоком проникновении в его сущность. Новый миф «есть новое откровение тех же реальностей» [Иванов 1974: 536–537, 554].
Кандинский пришел к мифотворчеству своим путем. В детстве он рос на русских и немецких сказках. В молодости он открыл для себя мир фольклора и крестьянского искусства во время своих занятий этнографией. Ученые XIX в. активно изучали связи между древними языческими мифологическими представлениями и поздними народными верованиями, обычаями, обрядами, сказаниями. Кандинский сам исследовал следы языческой религии (мифологии) в современных ему верованиях зырян. Как и многие ученые того времени, он обнаружил в народном мифотворчестве переплетение язычества с христианством.
Народная традиция сохраняла структурные принципы мифологии: повторяемость мотива в разных мифах в тех или иных иконографических и смысловых вариациях; наслоение различных образов в мотиве; связь всех образов с первоначальным, глубинным представлением. Эти принципы, положенные Вячеславом Ивановым в основу символистского мифотворчества, были известны Кандинскому по собственному этнографическому опыту. В народных верованиях старые образы «забывались», заменялись новыми представлениями, но не исчезали. Старое наследовалось новым в зашифрованном виде, как «культурный пережиток» (по Тайлору и Спенсеру). Естественное развитие мифологического мышления вело к различным результатам. В одних случаях сохранялась определенная степень преемственности между старым и новым. В других случаях смысл древнего мифологического образа искажался до неузнаваемости. Например, Кандинский считал, что одна зырянская пословица удержала имя древнего чудского бога в измененной форме [Кандинский 1889b: 105] (см. об этом вторую главу).
Мифологическое мышление, поддерживаемое проходящей через поколения традицией, неосознанно или естественно основывалось на принципе сложного, всеобъемлющего единства в разнообразии элементов. В своем творчестве Кандинский сознательно строил собственную мифологическую систему взаимосвязанных образов-символов. Он не иллюстрировал легенды, но на основе традиционных мотивов создавал собственные символы-мифы, стремясь передать новое переживание и осмысление «вечных» истин. К концу 1903 г. он сформировал ряд устойчивых единиц своего мифотворчества. Среди них – лодка, рыцарь (всадник), трубач, молящийся юноша, замок (крепость), древнерусский город, церковь, символические ландшафтные мотивы. Кандинский шел по пути увеличения, усложнения и разнообразия мотивов и их иконографических вариаций к системе (мифологии) символов.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































