Текст книги "Кандинский. Истоки. 1866-1907"
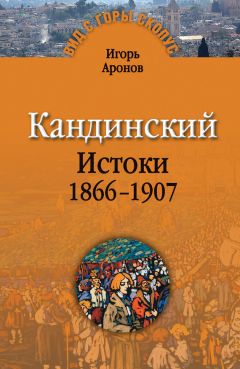
Автор книги: Игорь Аронов
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Влюбленные у дерева не замечают витязя, скачущего к ним на пегой лошади, которая похожа на лошадь Русского рыцаря (ил. 15) и связана с буланкой в яблоках из детства Кандинского[212]212
Кандинский использовал мотив буланки в яблоках в ряде произведений: Праздничная процессия (1903, Bush-Reisinger Museum, Harvard University Art Museums, Cambridge, Massachusetts); Битва в красном и зеленом [Barnett 1992: № 107]; Принцесса и волшебная лошадь [Barnett 1992: № 151].
[Закрыть]. Витязь приближается к паре, подняв меч и закрыв глаза, а копыта его лошади почти касаются девушки с венком. Он не видит ни города, ни окружающей его жизни в долине. Его «слепота» – оборотная сторона замкнутости в себе.
Кандинский осознавал разрушающую силу в собственной личности. Его лучник в Охоте (ил. 40) стреляет в белых лебедей – символ любви, а в 1907 г. он писал Габриэле:
Для чего я должен мучить лучших, самых лучших людей, которых я так люблю? Грешник ли я, который не заслуживает прощения? И почему другие должны страдать со мной? Что все это значит? И почему эти лучшие, чистейшие люди полюбили меня? Лучше было бы мне не приходить в этот мир. Или это значит слишком много просить?[213]213
В.В. Кандинский – Г. Мюнтер, 20–21 февр. 1907 г., из Севра в Париж (ФМА).
[Закрыть]
Но задавая эти вопросы, Кандинский не пытался объяснить Габриэле причин разрушительного импульса внутри себя. Даже в 1915 г., когда он все больше внутренне отдалялся от нее, он утверждал: «От меня продолжает ускользать ясное понимание себя»[214]214
В.В. Кандинский – Г. Мюнтер, 11 марта 1915 г., из Москвы в Цюрих (ФМА).
[Закрыть]. Кандинский сам загнал себя в порочный круг: он ощущал одиночество, потому что близкие люди не понимали его; это вызывало его реакцию против них, что в свою очередь обостряло одиночество. Кандинский трансформировал эти переживания в образ витязя – символ слепой силы разрушения[215]215
Вайс пишет: «Описание Шегреном археологических находок, в числе которых был ржавый меч, могло вдохновить художника на включение в картину скачущего воина» [Weiss 1995: 49].
[Закрыть].
За витязем расположена церковь у реки, отделяющей земной мир от города на горе. Этот дальний план композиции заполнен мелкими фигурами (ил. 63). Два человека молятся у входа в церковь. Согбенный человек с палкой следует за похоронной процессией. Двое дерутся перед церковью, а калека, опирающийся на палку, наблюдает за ними. Люди вовлечены в повседневное течение жизни и не думают о городе на горе.
Три человека у костра слева от церкви кажутся исключенными из повседневности. Они образуют изолированную сцену вне жизни вокруг церкви. Символически они связаны с таинственным заречным лесным пространством и городом на горе[216]216
По Вайс, «дым костра противостоит церковной башне христианского кладбища, напоминая об изучении Кандинским почитания огня зырянами» [Weiss 1995: 52]. Но то, что люди сидят у костра, еще не превращает их в огнепоклонников. Кроме того, Кандинский лишь отметил, что зыряне почитали огонь, бросая в него грязную посуду для ее очищения [Кандинский 1889b: 105].
[Закрыть]. По русскому обычаю, описанному Мельниковым-Печерским в его знаменитой книге «В лесах» (1875), люди совершали паломничество в лесные верховья Волги, чтобы почтить Китеж-град, чудесный белокаменный город со златоглавыми соборами. Паломники проводили ночи у костра, рассказывая легенды о Китеже. Связь сцены у костра в картине Кандинского с этим обычаем является только предположением. Но в любом случае легенда о Китеже важна для понимания образа города в Пестрой жизни.
По легенде, когда монгольский хан Батый пришел на Русь, Бог сохранил город Китеж, сделав его невидимым до Судного дня. Кто придет в город с чистым сердцем и истинной верой, удостоится увидеть его. Кто придет с намерением исполнить свои желания, не увидит города, так как Бог превратит его в лес или поставит на неприступной вершине горы. Люди, осквернившие святое место, будут осуждены Господом, но чистые душой спасутся в городе, когда настанет конец света. Бог накроет город своей дланью, и те, кто будет жить в нем, не узнают горя, которое принесет Антихрист, их жизнь будет наполнена покоем и духовной радостью [Мельников 1958(2): 301].
Легенда о Китеже была так же важна для русской культуры, как легенда о Святом Граале для культуры Западной Европы [Бердяев 1989: 441–462; Дурылин 1913: 36–38]. В образе духовного города Кандинский соединил личные искания с народными исканиями земного города счастья, подобно странникам из книги Мельникова-Печерского, говорившим: «Странствуем – града настоящего не имея, грядущего взыская» [Мельников 1958(2): 301][217]217
Ср. новозаветный текст (Евр. 13: 14).
[Закрыть]. Белый город спасения в Пестрой жизни, освещающий темный мир, ждет людей с чистым сердцем.
На правом склоне горы, между городом и церковью с кладбищем, видна лесная хижина на столбах. По русской народной традиции, сохранившей следы славянских языческих верований, над могилой могла возводиться избушка, в которой, вероятно, поселялась душа умершего. В XIX – начале ХХ в. исследователи русского фольклора считали, что «избушка на курьих ножках» Бабы-яги является сказочным воплощением надгробного домика, а сама ведьма – мифологическая персонификация смерти [Афанасьев 1965–1869(2): 83, 594–595; Генерозов 1883: 19–20; Котляревский 1891: 94–251; Красовский 1916: № 146; Потебня 1865а: 85–232][218]218
Николай Рерих в картине Изба смерти (1909; ЧС, Москва) соединил надгробный сруб и избушку Яги. Вайс интерпретировала лесной домик в Пестрой жизни как зырянскую охотничью избушку. В дохристианские времена, пишет Вайс, «подобные хижины использовались как места для хранения идолов». Исследовательница заключает: «холм в Пестрой жизни можно понимать не только как символическое место, на котором стоит монастырь св. Стефана, но и как изображение, основанное на фактах древней истории зырян» [Weiss 1995: 49]. Таким образом, Вайс снова превращает символ в иллюстрацию к историко-этнографическим фактам.
[Закрыть]. В сказках избушка Яги находится в темном лесу, дорога через который ведет в чудесные города и царства «иного света». Герой посещает ведьму, добивается ее помощи в отыскании этой дороги, выполняет свою задачу и возвращается домой, в мир живых, победив, таким образом, смерть. В Пестрой жизни лесная избушка – знак язычества с его идеями материальности души и загробного мира. Церковь у реки, церковное кладбище, погребальная процессия – знаки христианства. Церковь, включенная в обыденное течение жизни в долине, представляет то, что Бердяев вслед за Мережковским называл «историческим христианством». Это – «старая церковь», которая приспособилась к миру, оторвав его от истинного учения Христа [Бердяев 1999: 5–50]. Ни язычество, ни догматическое христианство, в глазах Кандинского, не обеспечивает вечную духовную жизнь в белом городе, окрестности которого безлюдны.
В юности Кандинский критиковал языческий «примитивный материализм», но так же скептически относился и к христианской идее посмертного существования. В Пестрой жизни он еще не преодолел скептицизм, в котором Мережковский видел проблему русского интеллигента:
С одной стороны, христианство – только «пережиток того, что отживает и уже почти отжило», обломок старины, не имеющий никакого отношения к будущему; с другой – христианство есть вечная цепь, соединяющая прошлое с будущим, в христианстве – «вечная правда и красота, составляющие главное в человеческой жизни и вообще на земле». Как выйти из этого противоречия? <…>. Религия прогресса, здешней вечной жизни становится религией нездешней вечной смерти, религией небытия <…>. Это-то и есть истинная смерть, не только телесная, но и духовная, вечная смерть, предсказанная в Апокалипсисе, вторая смерть, от которой нет воскресения [Мережковский 1906: 60–110].
Кандинский, подобно народным духовным искателям и русским религиозным философам, искал свой путь к духовному городу спасения вне церковных догм. В центральной части композиции, на переднем плане одинокий старик-странник идет своей дорогой по «долине жизни» (ил. 64). Сергей Максимов в книге «Бродячая Русь» (1877) писал о таких крестьянах, что с их лиц, изборожденных морщинами, никогда не исчезает печальное, задумчивое выражение [Максимов 1987: 421]. Распространенное в русском народе странничество опиралось на пример страннической жизни Христа: «В странстве жизнь провождаем <…>. Ведь и господь на земле-то во странстве тоже пребывал, от того и нам, грешным, странство подобает», – говорил один из героев книги Мельникова-Печерского «В лесах» [Мельников 1958(2): 301][219]219
О духовном странничестве см.: [Милюков 1994(2, ч. 1): 57–153].
[Закрыть]. Николай Бердяев видел в духовном странничестве «высшее выражение русской души», подчеркивая, что свободные творческие искания «грядущего града» в XIX – начале ХХ вв. формировали новую религиозную народную жизнь, которая отрицала официальную «утилитарную религиозность» [Бердяев 1989: 441–462].
Старик-странник в картине Кандинского удаляется от города. Он, кажется, движется в сторону молодой матери с ребенком на руках, возвращаясь к началу всех исканий, к первичной чистоте «духовной атмосферы». Но фактически он погружен в себя и, не видя ни города, ни людей вокруг, продолжает свои одинокие скитания по миру. В его образе есть черты, напоминающие Агасфера, который изображался в христианской иконографии странствующим одиноким стариком с очень длинной седой бородой, с посохом в руке и мешком за спиной[220]220
См., например, иллюстрации Г. Доре к «Легенде о вечном жиде» («La Legenda del Judio Errante», Paris, 1862, plate I).
[Закрыть]. Кандинский сам сравнивал себя с Агасфером, «странником без дома и земли»[221]221
В.В. Кандинский – Г. Мюнтер, 2 нояб. 1904 г., из Одессы в Бонн (ФМА).
[Закрыть]. Это ощущение преломилось в образе старика-скитальца – символе вечного странствия. Здесь Кандинский близок Брюсову, утверждавшему, что «мысль-Агасфер» должна вечно искать, странствовать, не удовлетворяясь найденной истиной, и видеть свою цель в самом пути [Брюсов 1975: 57–61][222]222
П. Вайс утверждает, что образ старика-странника в Пестрой жизни был вдохновлен описанием Бехлингом нищего с огромным мешком. Затем она заявляет, что старик – типичный русский паломник, но его «нереальная зеленая борода» говорит о его связи со «сверхъестественным». Следовательно, он является «старым колдуном»-шаманом. Старик держит посох, который для шаманов некоторых сибирских племен служит для путешествия в другие миры [Weiss 1995: 47, 50–51]. Однако неочевидно, что посох странника является «конем» шамана; отсутствуют и этнографические данные, свидетельствующие о зеленой бороде как о знаке колдуна-шамана. Вайс не объясняет, почему старик Кандинского, если он является шаманом, несет мешок, но не имеет традиционных шаманских атрибутов, таких как бубен и священные амулеты на одежде. Вайс также не объясняет свое предположение о связи русских паломников с колдунами и финскими или сибирскими шаманами.
[Закрыть].
Пространство за странником заполнено острыми конфликтами (ил. 63). Здесь лучник целится в белку, яркость красного цвета которой подчеркнута темным фоном. Рыже-красный зверек называется белкой, от слова белый, так как в славянском фольклоре красный цвет связан с белым через их взаимную ассоциацию со светом. Красный и белый означают свет и красоту в известных выражениях «красно солнце», «красна девица», «белая лебедь», «белый свет (мир)» [Потебня 1914: 32–36]. В Пестрой жизни белка, сидящая на ветке сосны, над страстями и конфликтами долины, – символ красоты в природе, которая выше и чище человеческой жизни внизу. Лучник, подобно витязю, внутренне слеп. Он представляет разрушающую силу в «духовной атмосфере» долины[223]223
По мнению Вайс, сцена с лучником и белкой основана на описании Бехлингом «происшествия с пьяным крестьянином, который вообразил, что белка на ели охотилась на щебечущего воробья». С другой стороны, Вайс связывает эту сцену с жертвоприношением лесному духу [Weiss 1995: 49–51], несмотря на отсутствие этнографических данных о таких жертвоприношениях.
[Закрыть].
В тени, у дерева с белкой мы видим сцену раздора, где человек в красном угрожающе поднял руку с кинжалом. Задумчивый белобородый старик, сложивший руки на посохе и напоминающий «крестьянского философа» из Приезда купцов (ил. 55), спокойно наблюдает за происходящим. Его спокойствие среди общего возбуждения сродни внешней безучастности крестьянского судьи на картине Сергея Коровина На миру (1893; ГТГ), изображающей суд в крестьянской общине; крестьянин показан художником со спины, сидящим на бревне. Кандинский был глубоко впечатлен русским крестьянским правом, которое он изучал в студенческие годы в Московском университете и во время этнографического путешествия по Вологодской губернии. Наряду с жестокими и морально развращающими обычаями народного права он обнаружил, по его словам, истинно гуманный, внутренний принцип принятия судебного решения «глядя по человеку», то есть принимая во внимание «душу» подсудимого, а не внешние факты преступного деяния (см. об этом первую главу). В Пестрой жизни раздор загрязняет «духовную атмосферу», тогда как судья представляет духовный элемент, который призван восстановить ее чистоту.
Тема раздора переходит в сцену драки у реки. «Враждебные, воинственные чувства», писал Кандинский, делают «духовную атмосферу» нечистой, порождая войны, которые еще больше заражают ее [Кандинский 1992: 81]. Находящиеся у реки, за которой возвышается белый город на горе, дерущиеся люди более всего удалены от него внутренне. Среди них выделяется человек в белом, поднявший руки, как бы призывая на помощь и стараясь остановить драку. Он, подобно «судье» в сцене раздора, противостоит загрязнению «духовной атмосферы». Напряжение воинственных эмоций ослабляется в направлении к освещенному «лугу любви», где «духовная атмосфера» очищается.
Одинокий гребец в лодке плывет в сторону зеленого луга слева и церкви в лесу на правом склоне горы, но его цель – таинственная неизвестность за поворотом реки (ил. 63). Образ гребца, символизирующий стремление к сокрытому духовному миру, является иконографическим вариантом героев-искателей в прежних работах Кандинского (ил. 43–44). Если старик-странник на переднем плане Пестрой жизни ищет свою истину в «долине жизни», гребец на дальнем плане картины, возможно, ищущий иной путь к белому городу, устремлен в неведомое за пределами долины. Обе фигуры одиноких духовных искателей представляют сущностные черты личности Кандинского[224]224
Карандашный эскиз Кандинского Церковь на горе (1906–1907; ФМ, 336) варьирует мотивы Пестрой жизни. Спешившийся странник-всадник в длинном кафтане, напоминающем белый кафтан юноши из Пестрой жизни, стоит рядом с конем перед горой, покрытой лесом. На вершине горы – церковь. У подножия горы – костер. Странник одновременно близок к своему «духовному храму» и далек от него.
[Закрыть].
Кандинский завершил Пеструю жизнь в марте 1907 г. [Fineberg 1984: 71]. В это время и в последующие два месяца, несмотря на усиление реакции, продолжалась Первая русская революция. Роспуск 2-й Государственной думы 3 июня 1907 г. фактически означал конец революции. На протяжении всего периода освободительного движения, исход которого был еще неясен, ведущие русские религиозные мыслители были заняты вопросами о путях революции, о судьбе России, миссии и роли в этой миссии интеллигенции.
Лучше понять Пеструю жизнь можно в контексте идей С.Н. Булгакова, Д.С. Мережковского и Н.А. Бердяева, которых объединяла мысль о религиозном кризисе в революционной России и в мире вообще и вера в возможность выхода из кризиса через религиозное возрождение.
В 1906 г. Булгаков писал, что «предвестие грядущего перелома» было связано с конфликтом между «отвлеченным гуманизмом» социализма и религией. По его мнению, социализм и «экономический коллективизм» не устраняет «ужа сов одиночества и разъединения». «Действительное объединение людей может быть только мистическим, религиозным». Антирелигиозное «историческое творчество» показывает свое бессилие, но является также «диалектическим моментом развития, религиозным антитезисом». Оно ведет к высшему синтезу, к усвоению человеком «божественного содержания жизни» через «свободное развитие чисто человеческой стихии».
Историческая задача современного «духовного творчества» состоит в преодолении раскола жизни на светскую и церковную. Вступив в союз с «темными историческими силами», старая Церковь стала консервативной, реакционной. Ей необходимо противопоставить идеал новой «церкви творящей, растущей, развивающейся» на основе взаимодействия «мистической основы и человеческой стихии». Церковная жизнь должна вновь возродиться на почве «свободного общения и соборного творчества» [Булгаков 1997: 347–348].
Мережковский в статьях 1906–1907 гг. представлял сложную картину внутреннего состояния русского общества, совмещающего «противоположные крайности». Он видел основное противоречие революционной России в конфликте между многоликим «духовным мещанством» и силами «духовного благородства и свободы». «Мещанство» началось с «мертвого позитивизма», рожденного в Европе и ставшего «бессознательной религией», которая отреклась от Бога и оторвала человека от собственной личности. Эта ложная религия оформилась в социализме, предопределяющем социальное развитие, и в разрушающем анархизме.
«Духовное мещанство» выявилось как «рабство» и «хамство». В России «Грядущий Хам» получил три лица. Его первое лицо – самодержавие, которое отделяет народ от интеллигенции и церкви. Второе – православие, соединенное с самодержавием. Его третье и «самое страшное» лицо определено Мережковским как «хамство, идущее снизу, – хулиганство, босячество, черная сотня». Силы мещанства объединились «против трех начал духовного благородства»: народа, церкви и интеллигенции. Эти начала Мережковский назвал соответственно «живой плотью», «живой душой» и «живым духом» России.
Для того чтобы эти «начала духовной свободы» объединились против «начал духовного рабства и хамства», необходимо соединение интеллигенции, церкви и народа на основе религиозно-общественного возрождения, которое спасет Россию. Религиозное сознание должно пробудиться прежде всего в русской интеллигенции, у которой уже есть «великая и все возрастающая религиозная жажда» и которая начала и продолжает «освободительное движение». Подлинная «совершенная свобода» будет достигнута через обнаружение божественной истины. В Ветхом Завете Отца открылась истина как власть Бога, в Новом Завете Сына – как любовь, в Грядущем завете Духа она откроется как свобода, которая победит Грядущего Хама [Мережковский 1992: 81–105].
К апрелю 1907 г. Бердяев завершил разработку идеи Мережковского о новом религиозном сознании. Он подошел к проблеме в более обоснованной и менее схематичной форме, чем это сделал Мережковский. По Бердяеву, современный мир переживает религиозный кризис. Утратив религиозное ощущение, люди чувствуют ужас, безысходность жизни, «распад» мира. Эта утрата связана с позитивистским «пессимизмом», который отрицает божественный смысл жизни, заменяя его субъективным смыслом. Революция требует жертв, так как обесценена божественная суть жизни. В свою очередь, причина позитивистского пессимизма лежит в «старом религиозном сознании», в «историческом христианстве», которое оторвало истинную религию от земной судьбы человечества. Евангельская истина была признана «несбыточной утопией». Старая Церковь пошла на компромисс, соединившись с государством. Древняя языческая идея «ассирийского абсолютизма» и божественной царской власти перешла в первый Рим, соединившись с католичеством, а затем во «второй Рим» – Византию и в «третий Рим» – Россию. Здесь абсолютизм объединился с православием в обоготворении человеческой власти и воли, которые подменяют божественную волю. Самодержавие продолжает вдохновлять «черную сотню» и насилие в революционной России.
Идея абсолютизма проявилась и в мечтах о всемирном социалистическом государстве. Социализм претендует быть религией человечества, обещая освободить его от страдания. В действительности он подчиняет жизнь «хлебу насущному», разжигает классовую ненависть, обоготворяет пролетариат и превращает человечество в средство достижения конечного блага. Эсхатология социализма стремится не к духовному преображению, а к закреплению существующего безбожного мира.
Другая крайность – анархизм, который старается разрушить государство через атеизм, через уничтожение веры в человеческих сердцах. Атеизм ведет к иррационализму, хаотической мистике и общественному нигилизму.
Мировое освободительное движение против государственного абсолютизма поднимало значение личности и ослабляло государственное зло, но не могло его уничтожить. В социально-политическом отношении русская революция является «элементарным этапом» мирового движения. Но она выявляет религиозные противоречия культуры и ведет к осознанию «неправедности всех путей человеческой власти». Она обнажает «ложь официальной церковности» и внушает необходимость религиозного возрождения, которое уже происходит в мире. Революция проясняет религиозную миссию России в мире.
В революции «разлагается не русский народный организм», а русское самодержавие, крушится «религиозно-метафизическая идея Русской Империи». Революция ставит вопрос о вступлении народа на теократический путь. Народ имеет «естественное право совершить революцию во имя своего идеала добра», но часто революции создают новую «человеческую ложь», которая позволяет совершать насилие во имя общественной пользы, и которая дробит народ. Подлинная революция является внутренней, религиозной. Она стремится к высшим ценностям и основывается на «воле народа» как целостного «мистического организма», объединенного божественным духом.
В «новом религиозном сознании» раскрывается мистическое ощущение личности, тайна индивидуальной судьбы, связь личности с божественным смыслом жизни. Творческой задачей личности и исторической задачей человечества является вхождение в «абсолютную мистическую церковь». Россия и весь мир стоят на «пороге религиозного возрождения», «мистического переворота», в котором «правда индивидуализма» перейдет к «правде соборности», к «новой религиозной общественности на земле», к «вселенской церкви». Для этого нужно слиться с «органической жизнью народа, с вселенской культурой, с мировой душой, которая и есть становящаяся церковь». Но окончательный исход из трагического раздвоения жизни, в которой «божеское» отделено от «человеческого», произойдет «лишь в конце мира и преображении его». Истина о личном и всеобщем спасении будет «осознана лишь в конце мирового процесса, лишь в трансцендентном завершении религиозной трагедии» [Бердяев 1999: 5–284].
Пестрая жизнь Кандинского представляет мир в кризисе, в преддверии переворота. Жизнь в долине видится сложной и «раздробленной», по Бердяеву; «соединяющей крайности», по Мережковскому. Трагизм этой жизни – в ее оторванности от поднебесного духовного белого города, который является параллелью Кандинского к идеалу новой «творящей Церкви» Булгакова, царству «Грядущего завета Духа» Мережковского или «мистической церкви» Бердяева. Само сосуществование духовного идеала и «раздробленной» жизни в пределах одного образа говорит, что Кандинский как русский интеллигент, подобно Булгакову, Мережковскому и Бердяеву, верил в грядущий духовный исход – для себя, для русского народа и для мира – из трагизма жизни вне божественного смысла[225]225
Б.М. Соколов бегло характеризует отдельных персонажей Пестрой жизни, сосредотачиваясь на «реконструкции» основной идеи картины. По мнению исследователя, Кандинский в соответствии со своим пессимизмом представил «больную» Россию, гротескный образ народа, погруженного в хаос. Художник изобразил «“град обреченный”, который не сохранил своей святыни и не может более войти в кремль на вершине холма». Сам белый город на горе истолкован Соколовым как «кремль с маленькой буквы, как синоним крепости». Затем Соколов связывает Пеструю жизнь с тем, что он называет «покаянным мессианизмом» в русской мысли. Ссылаясь на линию, развиваемую Мережковским, Соколов объясняет смысл «покаянного мессианизма»: русский народ сделается народом-богоносцем через апокалипсическое разрушение и «вольное страдание» [Соколов 1996b: 227–237]. Такое толкование переводит сложный символический образ, созданный художником, а также русскую философскую мысль в однозначный план. Из этого объяснения выпадает «творческое богоискание», характерное для Кандинского, русского народа и русской интеллигенции, включая Мережковского и особенно Бердяева, на которого Соколов не случайно не ссылается. М. Веренскольд утверждает, что русский город в Пестрой жизни, как и во всех работах Кандинского 1901–1917 гг., символизирует теорию «Москва – Третий Рим» в контексте идеи «Третьего Завета» Мережковского [Werenskiold 1998: 98, 100]. По мнению Мережковского, политическим результатом этой теории было подавление церкви любви и свободы государством насилия. Глава государства стал Антихристом. Это породило старообрядческое искание истинной веры, завершившееся революцией 1905–1907 гг. Революция положила конец лживому православию и монархии вместе с идеей «Москва – Третий Рим». Третий Завет начинается со стремления к истинному пришествию Христа, к его вселенской церкви [Мережковский 1914: 37–50, 92–97]. Кандинский, как и Мережковский, был настроен против монархии. Он мечтал о свободной России, а не о воплощении монархической теории «Москва – Третий Рим».
[Закрыть].
Андрей Белый считал, что в истинном художнике есть два «я». Природное «я» является частью внешней действительности и отражает ее закономерность. Другое «я» – творческая сущность художника, выражающего подлинную, «переживаемую» жизнь. Искусство освобождает творящее «я» от законов внешней реальности, внутренний смысл которой воплощается в творчестве, заключающем «“тайну жизни” художника». За гранью видимого образа действительности (природы) – «музыка» души художника, «поющие» в нем «переживания». Творческое «Я» должно стать «законом» для него. Он «должен стать собственной формой: его природное “я” должно слиться с творчеством». Символизм открывает «путь к познанию религиозному» как «системе последовательно развертываемых символов». Система символов представляет «прерывные образы», которые не связаны внешней логикой, но внутренне раскрывают «разные стороны единого». «Искусство – всегда опосредованная религия личности» [Белый 1994: 247, 249, 334–338, 393–394].
Сложный ритм форм и образов Пестрой жизни создает, по определению Кандинского, «симфоническую композицию». Каждый образ-символ имеет здесь собственный смысл-«звук» творческого «я» художника, в которое трансформировалось его природное «я». Совокупность внутренне взаимосвязанных символов образует систему, выражающую «религию личности» Кандинского в виде его «эсхатологического мифа» об искании духовного преображения себя и мира. Цель исканий – духовное очищение плоти, гармония между духом и материей, внутренним и внешним, содержанием и формой, искусством и жизнью. Пестрая жизнь – самый глубокий в то время результат постижения Кандинским себя и мира, представленный в символическом образе России, который напоминает метафору Андрея Белого: Россия – это «зеленый луг», ожидающий пробуждения своей души, которая есть «Мировая душа» [Белый 1994: 328–334].
Кандинский продолжил тему Пестрой жизни в трех картинах конца 1907 г. Паника, выставленная в сентябре-ноябре 1907 г. в Одессе, известна по фотографии и эскизу в гуаши (ил. 64). Набатный колокол, выставленный в октябре 1907 г. в Париже, известен только по фотографии. Обе картины изображают катастрофу [Barnett 1992: № 223–224]. Утренний час (ил. 65), выставленный вместе с Набатным колоколом, изображает мир после бедствия.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































