Текст книги "Ангелы живут в аду"
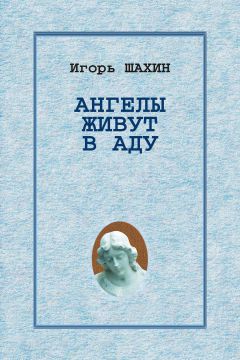
Автор книги: Игорь Шахин
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Не жизнь, а смех, обхохочешься. Как бы еще милиция или рыбнадзор за жабры брали, а то шерстят вполсилы, да и то молоденьких. И кто там у них! Олежек, Крепдешин, сынок офицерский, бывший дружок Красавчика. Не здоровается, как не знает. А приезжую инспекцию на меня только так наводит. Вот тогда самая карусель и бывает – «улыбнитесь, каскадеры». Жених моей старшенькой эту песню крутил. Она у него на магнитофоне была записана. Дочь сказала, что тот мне песню с намеком крутит. Я его намек вместе с «Шарпом» в окно выкинул… Стерпел. Поженятся. Хорошо жить будут.
* * *
Я много думал о моем первом браке. Ни ранним, ни поздним его не назовешь. Не было никакой стихийности, как у Звонарева, не было и особого расчета, как у Черепанова. Одно из самых сильных моих увлечений пришлось на то время, когда заканчивал интернатуру, все вокруг меня уже переженились, у некоторых появились дети.
Да и у меня уже возникло такое чувство, что «нагулялся», порок, вроде бы, пошел на убыль. И самое главное, я совершенно ясно понимал, что хочу быть отцом, хочу, чтобы у меня был ребенок. Тем более что кандидатская дала мне знание о том, как предупредить отклонения в поведении ребенка.
Невеста была наивной неумехой и, как мне казалось, слепо верила в меня, во все мои начинания. А было же ощущение в момент бракосочетания, что все-таки что-то у нас с ней не так складывается. Не совсем понятны были слезы моей матери, тщательно скрываемые ею. Смущала излишняя сдержанность отца, как и чрезмерная веселость и панибратские хохмочки тестя-инженера. Холодная же распорядительность тещи, инспектора районо, ничего, кроме снисходительной улыбки, во мне не вызывала. Даже безапелляционное решение моей невесты по организации свадьбы и медового месяца никоим образом не настораживали.
Я великодушно предоставил каждому возможность вести себя так, как ему заблагорассудится. Но ведь было это непонятное ощущение: «что-то во всем этом не то», было же! Нам бы приостановиться, призадуматься. Но очарование новизны происходящего сотворило с нами свою извечную шутку.
Жене нравилось брать на себя принятие многих немаловажных решений. Я уступал ей, то ли в силу того, что она была старше меня на два года и уже несколько лет сама зарабатывала себе на жизнь преподаванием в школе, то ли в силу своих чувств к этой наивной капризнице.
Проводить медовый месяц мы отправились в Анапу, вместо того, чтобы поехать в поселок моего детства, к родителям: ни тебе хлопот по обустройству быта, ни забот о пропитании, да и старикам могли бы немало помочь в саду и огороде. Ну да что ж, море так море. Это были лучшие дни из всей нашей шестилетней совместной жизни.
Мы приткнули нашу палатку возле становища «блатных». Дикарям тут местный милиционер размещаться не разрешал, а этим – пожалуйста. Глава семьи, рыжий весельчак, имел на винзаводе в Абрау-Дюрсо влиятельную родственницу, каждый день ездил на своем «жигуленке» к ней и привозил канистру сухого вина. Пока его супруга с детьми и я с моей суженой бултыхались в море, пеклись на солнце, он опорожнял бачок наполовину, приходил к нам с гитарой и горланил казачьи песни. Начинал всегда с одной и той же: «Ой да не вечер, да не вечер… Мне малым мало спалось…» Этот уголок морского побережья пустовал, и ему было самое раздолье реветь о своей «буйной голове».
Поздно, когда мы с женой после долгих ночных купаний возвращались к себе, он скребся в крышу палатки и шептал: «Доктор, выдь на минутку, дело есть».
Моя уставшая женушка сквозь сон благословляла: «Смотри у меня, чтобы утром тут был», и я выходил допивать с ним остатки сухого и петь песни. Пели мы далеко-далеко от становища, чтобы не будить своих близких, пели громко, с полустоном, обращаясь к шелестящему волнами морю, к луне и к чему-то тревожному внутри нас, внутри наших печальных сердец.
И так все дни, целый месяц. В те дни я выпил все то вино, которое причиталось мне на всю жизнь.
Нередко можно услышать фразу: «жил, словно во хмелю». Ничего лучшего для объяснения своего состояния придумать не могу. Впрочем, позже я это назвал «месяцем тихого помешательства». И все же это было неповторимо. Днем я отсыпался на солнцепеке, обгорал, в моменты пробуждения забирался в море или, поедая похрустывающие от песка консервы, читал через плечо супруги «Ночь нежна». Знать бы, каким намеком был мне этот роман…
Через два года у нас появился малыш, и моя жена вся, целиком повернулась к нему. Как-то незаметно они с тещей отодвинули меня от сына. Упаси бог было возразить их решениям, принимаемым по отношению к ребенку!
Она частенько убегала к подружкам, или они приходили к ней, и всякий раз ее мама брала малыша на себя – «дочери нужны отвлечения, она так устает». А я каким-то образом отошел от приятелей, потерял интерес к общению с ними, да и работа забирала уйму нервов и времени. Приходилось брать дополнительные дежурства в больнице, чтобы жена могла, по ее словам, «одеваться не хуже других».
Постепенно втянулся в ритм работы, накапливался опыт, а с ним и удовлетворение от всего того, что приходилось мне делать. Все шло к тому, чтобы я мог посчитать себя врачом с большой буквы. Со временем «доброжелатели», которые всегда «вовремя» оказываются под рукой, доложили, что моя жена бывает не только в обществе своих подруг, но и появляется в компании солидных мужчин. Изменять-то она мне не изменяла, в этом я был почти уверен. Не стала бы изменять, хотя бы в силу развившейся в ней после рождения ребенка фригидности.
Но духовная измена, когда женщина не относится к тем «незатейливым любвеискательницам», ранит намного сильнее, гораздо мучительнее, нежели случайная слабость, вовлекающая в объятия придуманного ею полубога, оказывающегося затем, как правило, мало что для нее значащим мужчиной. Я думаю, духовная измена первична, а уже все остальное – естественные печальные последствия.
От частой эмоциональной несдержанности тещи, желающей во что бы то ни стало избавить свою дочь «от этого чудовища», от меня, следовательно, от покрикиваний дочери, свято верящей в мамин житейский опыт, от моей реакции на все это – хлопанья дверью и уходы на дежурства обыкновенные или, по такому случаю, выдуманные, – у мальчика развился невроз.
В очередной раз, когда мне предложили убираться к «своим психам», и желательно навсегда, я больше уже не вернулся. Раздражитель исчез, там стало более спокойно. Это, в какой-то мере, помогло малышу. Сейчас он уже школьник, мы неплохо ладим, хотя во многом он меня не понимает. Но это и ясно – я тоже кое в чем не могу понять моего отца.
* * *
…Нет, примерно до того как пойти ему в школу, он понимал меня так хорошо, словно между его и моим мозгом была невидимая пуповина. Со временем он потихоньку научился объяснять для себя мои поступки, поступки людей, все их сложные взаимоотношения, а пуповина истончалась, пока не исчезла полностью. И это понимание особенно ярким было в тот день, когда жену и сына привез из роддома. Я наклонился над цинковым корытом, служащим и после для него кроваткой, подвешенным на веревках к большому гвоздю в потолке, и почувствовал, как он весь, целиком – и ручками, и ножками, и головкой – вбирает в себя весь мир, поглощает его, словно огонь, слизывающий мелкие бумажки и щепочки. И ничего тут не было от мистики Сведенборга! Я, будто заколдованный, замер над этим своим вторым «я»… Вторым? Сотым? Миллионным?.. И как только возникли эти вопросы, я отпрянул от малыша, понимавшего и знавшего в эти мгновенья лучше кого бы то ни было всю мою сущность, мое прошлое, прошлое своих дедов, прадедов.
Нет, не понимавшего – знавшего, это было в нем органично, неотрывно, сама Природа невидимыми легкими знаками вселенской мудрости пульсировала на цинковой ладони кроватки.
Такое бывает с каждым мужчиной, в котором пробудился великий, необъяснимый инстинкт отцовства. Спустя некоторое время это первое мгновение осознания необычного забывается. Я запомнил, мне повезло, потому что пережил нечто подобное в те короткие мгновения боя.
У моего ведомого зачихал двигатель. Дав ему команду уходить за грозовые тучи, шедшие со стороны наших позиций, я бросил «ястребка» в самую гущу «мессеров». Это была невозможная пляска, вертел машину сплошь на интуиции. Частенько приходилось слышать, когда, рассказывая о таких ситуациях, говорили: меня спасло только чудо. Ерунда! Это как раз те случаи, когда отключается разум и полностью отдается воле того природного начала, которое счастливейшим образом вырывает наше бренное тело, а вместе с ним и разум, из объятий смерти.
Мы были выше надвигающейся грозы, и, войдя в «штопор», я ринулся краем тучи вниз. Если бы мною владел рассудок, я бы ни за что из «штопора» не вышел: не решился бы на явное самоубийство – от ожидаемой нагрузки непременно должно произойти кровоизлияние в мозг. В то мгновение, когда самолет уже заскользил по наклонной в сторону близкого луга, при яркой вспышке молнии я увидел свой самолет, повторенный каким-то чародеем многократно: бесчисленная вереница самолетов, мчащих из зеркальной бездны поверхности озера, отразившей небо, мчащих из моего прошлого и будущего – одновременно. Тот самый эффект двух зеркал, стоящих впереди и позади смотрящего.
Что мне тогда помогло победить и спастись? Это я объяснил просто: взбунтовались все предки, которых носил в себе, они намертво обнялись с моим будущим, а я был живым звеном этой нескончаемой цепи.
…Я отпрянул от кроватки сына и впервые во всей полноте ощутил пьянящую свободу духа. И что ж это я, фронтовик, боевой летчик, приклоняюсь к земле перед игрушечными пистолетиками сопливых, пусть шустрых, пробивных коллег-инструкторов, перед пистолетиком заведущего отделом райкома, этой тыловой крысы! Да кто это сказал, что вся моя отвага осталась на войне и карабкаюсь вверх, потому что для моей семьи ста рублей маловато?! Прорвемся, решил. Есть огород, с него прокормимся.
Меня терпели. Доброжелатели напоминали о недремлющем оке госбезопасности, имея в виду методы Берии. Но теперь это все была суета. Я знал, что сам есть активная безопасность своей души. Ну а что же, спросите, Сталин? Не в моем характере рассуждать о факте случившемся: вот, если бы так, не эдак. Отныне моим Сталиным была моя совесть.
Не все плакали, когда умер генералиссимус, но и в числе радующихся меня конечно же не было. Теперь, спустя столько лет, все видится по-другому, но уж если мои товарищи шли на смерть с его именем, то ничего уже тут не подтасуешь.
Если бы меня перевели в строительную ПМК до освобождения моей души – до рождения сына, то подумал бы, что попал в немилость неизвестно за что. Теперь же принял новое назначение как должное. По мне была эта живая работа с людьми, пусть трудными – кто прибыл из мест заключения, кто приехал за длинным рублем – пусть, но это не тот путаный путь, которым я шел к призрачной, хотя и неплохо оплачиваемой должности бумагописца. Это по-людски… Любопытно, кто же это во мне тогда так мощно и неожиданно проявился, заставив быть собой среди других: дед-пианист, прадед-богомаз или прапрадед-кузнец? А ведь по другим линиям генеалогии проходили и купчики, и лакеи, и вечные служивые царя-батюшки и Отечества…
* * *
Не сразу мне удалось понять цельность натуры моего отца. Я им гордился и недоумевал: как так вышло, что его руководитель не обладает многими человеческими качествами своего подчиненного? Я полагал, что существует лишь внешняя несправедливость по отношению к моему родителю, пока не доставало знаний о человеческом обществе и о судьбах многих известных мне людей, а больше всего – размышлений о своем предназначении в неохватном многообразии жизни. Теперь-то мне известно, что цельность его выковывалась из хаоса многих ангелов и химер, переполняющих души многих из нас, а горнилом была война, временная послевоенная анемия былого мужества. Что с ним в конце концов произошло? Разум отдался в объятия подсознания – этого «черного ящика»? Или разум, подсознание и социальная среда вступили в высшую область взаимной гармонии? И почему не возобладали над его личностью химеры?
Разберусь ли я когда-нибудь в этом, не знаю. Но каждый день мучительной жизни с Наташкой, Натальей Дмитриевной всякий раз еще одна ступень, еще один шаг на пути этого познания. Иду ли я на Голгофу, качу ли Сизифов камень или все это – воспарение Фаэтона?
* * *
Мои девки будут жить хорошо. Они смирненькие. Терпящие. Не в мать. Бывает, погогочут, но это так, по молодости. А ихних женихов, каких надо – отважу, каких надо – приму. У Кузнеца батя толковый, мог бы ему бабу что надо присоветовать, кабы вместе жили. А то первая – визгля, Ветла рассказывал, вторая – психоненормальная. Чудик, тоже мне. Прикорнул на табуретке, рожа на столе. Сейчас на пол грохнется…
Говорит, покупатели не приходили, а близняшки были. Застеснялись его, тоже мне. Кровь сосать с городских не стесняются, а тут – на тебе!.. Отвадить, что ли, их? Надоели… Ишь, глаза со сна таращит, румяный сделался, что твой малец. Помалкивает, и то радость.
Лбище натирает, заду-умчивый. Пробле-емы, тоже мне. У них, у отца, дома книг одних, что дров в сарае. Каждую потрогать – неделю потратить надо. Я тут зимой «Тихий Дон» взял почитать, чуть умом не тронулся, ходил бы, как Додя. Как будто со мной все было, что с Григорием. А ничего же такого со мной и не было. Когда те все жили – и я когда! Вот ить штука… Книга не водка, не похмелишься… Кузнеца жалко. Но таких жалеть – портить только. Дать бы как следует – помогло. Но это раньше надо было.
* * *
…Я не заблуждаюсь на счет таких людей, как товарищ моего детства Ярый. Пусть он и наивное дитя природы, но его душевные муки, а они у него есть непременно, как у всякого человека, подле которого растут дети, его дети – ничуть не меньше моих страданий. И все же у него гораздо меньший спрос с самого себя – печально об этом думать – в силу большего невежества, нежели мое. Оно предопределено и правилами семьи, и отчасти наследственной заданностью, и его окружением, и местом труда и жительства.
Часто думал, что бы с ним сталось, окажись он малым ребенком в иной, более спокойной семье? Или в классе его окружали бы такие же бесхитростные, прекраснодушные крепыши, не ведающие страха перед другой силой? И живи он к тому же в селе с устоявшимися крестьянскими традициями, а не в поселке, раздираемом призрачными соблазнами военного городка и молчаливым величественным притяжением пойменных чар природы?
В каких немыслимых лабиринтах блуждает человеческая душа, когда до нее мало кому есть дело! Что спасает ее от сумасшествия? Как легко задать этот вопрос и уйти от ответа, укрывшись одеялом «бессилия добра перед краткостью человеческого бытия» в череде его суровых реалей. Есть же ответ! Его только как следует надо поискать! Вот в этой хотя бы разности: цельность натуры моего отца и целинность натуры Ярого. Но как проникнуть туда, в их сознание и подсознание, чтобы прожить их жизнь и сказать: вот ответ?!
В еще большую тьму уводит меня от искомой истины каждый день жизни с Натальей Дмитриевной, Наташкой. Я все больше раздваиваюсь в своей любви к детям и безысходной жалости ко взрослым.
Не знаю, как бы повернулась моя жизнь, не попади несколько лет назад ко мне на прием молоденькая студентка культпросветучилища, как она тогда представилась, – Наталья Дмитриевна. Случай в моей практике был из редких, но разобраться в ситуации удалось легко. И не оттого, что я поднаторел в таких ситуациях, – нет, свершилось таинство неожиданного душевного контакта, «контакт есть контакт», как любит говорить мой отец. Она вошла… в общем, моя и только моя, о какой я никогда и не помышлял. Так, жил в подсознании образ единственной женщины, и всего-то. Неведомо каким знанием я уяснил: произошло самое необычное в моей жизни. Что, прежде всего, в тот момент ощутил? Цельность, без червоточинки и при этом большое ее душевное смятение. Ветла усмехнулся бы: «Маргарита на первой свиданке со средневековым доктором Ф.». Именно чувство, возникшее так внезапно, помогло мобилизовать не только все мои знания, опыт, но и интуицию и определить оптимальную тактику лечения.
Покусывая губы и тщательно разглаживая на коленях несуществующие складки платья, Наталья Дмитриевна рассказала о долгих провалах в памяти, случавшихся несколько раз, после которых она обнаруживала кавардак в квартире: в ванной – кучу своих перепачканных вещей, в цветочных горшках – окурки, беспорядок в фонотеке, на кухне, в гостиной и даже в спальне – бутылки из-под вина. И еще: незнакомые юнцы несколько раз приставали к ней, ошибочно принимая за какую-то свою хорошую подружку. Было такое чувство, словно в квартиру во время провалов в ее памяти проникала какая-то вульгарная девушка.
Я знал примеры раздвоения личности, когда, допустим, у больной во время ее сна одна рука по-матерински укрывала тело одеялом, заботливо поправляя подушку и нежно вытирала салфеткой со лба пот, в то время как другая рука царапала, отшвыривала первую и сбрасывала одеяло.
На этот раз был случай не раздвоения, а именно полного подавления, когда лучшая часть личности подавляла химер, а в свою очередь химеры временно, но тоже полностью, брали верх над всем прекрасным, что было в ее душе. Началась болезнь после того, как в автомобильной катастрофе погибли ее родители и маленький братишка. На ней же не было ни одной царапины.
Я не поместил ее в клинику. Она ушла, а я уже больше не мог работать, все валилось из рук. Едва дождавшись окончания рабочего дня, не раздумывая отправился по ее адресу. Она мало удивилась моему появлению, только и сказала: «Я не знаю, что вы за человек, но у меня к вам безграничное доверие. Мы, наверное, очень долго будем вместе». И безо всякого перехода: «Ты же меня обязательно вылечишь?»
Я как мог оберегал ее от излишних волнений, не оставлял ее одну даже на ночь. Мы решили пожениться, как только лечение будет закончено. Но не могли же мы каждую минуту быть вместе. У меня работа, у нее учеба. Настал день, когда я, вернувшись из другого города со стажировки, где был-то всего две недели, застал ее в сильном нервном возбуждении. Что случилось? Снова приставали незнакомые парни, советовали не выделываться. И вдруг, на моих глазах, тело ее расслабилось, кривая усмешка перекосила лицо, глаза блудливо прищурились, закинула ногу на ногу, оголила колено. «Я тебе что, сама открыла?.. Никак не вспомню, как мы с тобой схлестнулись… С башкой что-то творится. Перезабыла все. Давай выпьем?.. Так ты врач… А что, я тебя сама вызывала? Или это сделала сердобольная соседушка с перепугу: мы тут иногда шумим… Это она, наверное, пока я тут без памяти валяюсь, порядочек у меня наводит, чтя память предков… Нет?! Неизвестно кто?.. А что мне прикажешь делать?»
Убедил ее написать той, другой девушке, дружелюбную записку, познакомиться.
Когда Наталья Дмитриевна пришла в себя… Впрочем, то же самое можно сказать и о Наташке. Ни та, ни другая в себя не приходили, ведь они были разъединенными частями одного человека. Наталья Дмитриевна с мучительным интересом прочла записку, исправила грамматические ошибки. Я посоветовал написать подробное письмо о своей жизни, чтобы та, другая, могла на него как-то ответить, и не как-то, а должным образом. Так завязалась переписка и дружба… Если кто-то сочтет, что мною руководил профессиональный интерес, тот жестоко ошибается. Эти дни стали началом душевных моих пыток, длящихся уже который год.
Наталья Дмитриевна и Наташка в конце-то концов душевно соединились. В личности моей жены большей частью довлела, верховодила первая. Все у нас неплохо складывалось… Я, конечно, хотел, чтобы у нас был ребенок, и боялся этого. Ее душевное состояние могло проявиться наследственно. Она тоже это понимала, но инстинкт материнства был выше разума. Я мог бы убедить ее, доказать и даже делал робкие попытки, но в ней всякий раз начинало подниматься то самое, пугающее меня волнение. Мог возникнуть рецидив болезни.
Не воспротивившись рождению ребенка, я понимаю, что сделал все-таки выбор, окончательный выбор. Но во имя чего? Я берегу Наташу и сына, ограждаю мою семью от многих тревог и волнений, а это далеко не простая работа.
Во искупление грешного выбора, на работе бросил, что называется, всего себя на организацию детской больницы. С какими только препонами не пришлось столкнуться, но организовал. А теперь больше не в силах тащить административный груз, плечи мои слишком слабы для этого. Мои домашние никаких моих срывов не должны ощущать. Для них я обязан всегда быть спокойным и улыбчивым. И даже при всем при этом у Наташи моментами кривая усмешка перекашивает лицо, глаза блудливо прищуриваются, и я тоскливо думаю о том, что в дни наших разлук выходит на свою порочную охоту та самая Наташка, и, мучимый ревностью, всякий раз в подсознании отмечаю, словно зарубками на сердце, что никого в мире у меня, кроме жены и сына, нет и не будет. Она больна, сильные лекарственные препараты разрушают ее печень и почки. А мальчик смеется, всегда бросается к нам поочередно на шею и смеется от радости.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































