Текст книги "Доказательство бытия Бога"
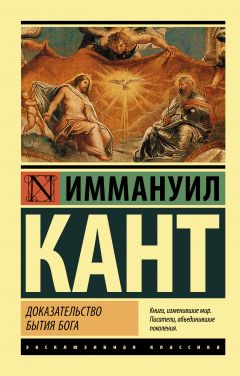
Автор книги: Иммануил Кант
Жанр: Литература 18 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
Доказательство, при котором от приобретенных опытом понятий о том, что есть, хотят прийти к существованию первой и независимой причины, руководствуясь при этом правилами каузальных умозаключений, а от этой причины заключать посредством логического расчленения понятия к свойствам ее, обозначающим божество, – это доказательство широко известно и приобрело очень большое значение главным образом благодаря философской школе Вольфа. И тем не менее это доказательство совершенно невозможно. Я признаю, что до положения: если нечто есть, то существует также и нечто такое, что не зависит ни от какой другой вещи, – все было выведено совершенно правильно; я согласен, следовательно, что существование вещи или многих вещей, которые уже не представляют собой результаты другой вещи, вполне доказано. Но уже второй шаг к тому положению, что эта независимая вещь безусловно необходима, гораздо менее надежен, ибо этот шаг в доказательстве должен быть сделан при помощи закона достаточного основания, который все еще оспаривается; однако я готов, не колеблясь, подписаться под всем даже и до этого пункта. Итак, нечто существует безусловно необходимым образом. Из этого понятия об абсолютно необходимом существе и должны быть выведены его свойства – высшее совершенство и единство. Однако понятие абсолютной необходимости, лежащее здесь в основании, можно толковать двояко, как это было показано в первом разделе. Если взять в первом значении, когда мы эту абсолютную необходимость назвали логической, то необходимо показать, что противоположность такой вещи, в которой заключается все совершенство или вся реальность, сама себе противоречит и что, следовательно, единственно только то существо обладает безусловно необходимым существованием, все предикаты которого поистине утвердительны. И так как из этого же общего соединения всей реальности в одном существе до́лжно умозаключать, что оно есть единственное существо, то ясно, что расчленение понятий о необходимом будет опираться на такие основания, исходя из которых я должен был бы иметь возможность заключить и обратное: то, в чем заключается вся реальность, существует необходимым образом. Однако, согласно тому, что сказано в предыдущем параграфе, не только невозможен такой способ доказательства, но следует еще особо отметить, что таким образом доказательство опирается вовсе не на приобретенное опытом понятие, которое без всякого применения его [здесь] уже заранее предполагается, а так же, как и в картезианском доказательстве, только на понятия, в которых полагают найти бытие некоторого существа путем установления тождества или несовместимости их предикатов[13]13
Это и есть главное, на что я обращаю здесь внимание. Если необходимость понятия я полагаю в том, что противоположное ему противоречит себе, и затем утверждаю, что таково бесконечное, то не было никакой надобности предполагать существование необходимого существа, поскольку оно следует уже из понятия бесконечного. Более того, заранее допущенное существование совершенно излишне в самом доказательстве. В самом деле, так как в ходе доказательства понятия необходимости и бесконечности рассматриваются как взаимозаменяемые, то действительно можно от существования необходимого заключить к бесконечности, ибо бесконечное (и притом только оно) существует необходимо.
[Закрыть].
Я не намерен здесь расчленять доказательства, которые часто приводятся в соответствии с этим методом. Легко вскрыть их ложные заключения, и это отчасти уже было сделано другими. Между тем если, несмотря на это, все еще можно было бы надеяться устранить их ошибку посредством некоторых поправок, то из нашего рассуждения становится ясным, что, какое бы применение ни делали из этих доказательств, они все же могут быть только умозаключениями из понятий о возможных вещах, а отнюдь не из опыта и что, следовательно, они во всяком случае должны быть причислены к доказательствам первого рода.
Что касается далее второго доказательства по тому способу, когда от приобретенных опытом понятий о существующих вещах заключают к бытию Бога и одновременно к его свойствам, то с ним дело обстоит совершенно иначе. Это доказательство не только возможно, но всячески заслуживает того, чтобы объединенными усилиями довести его до надлежащего совершенства. С одной стороны, вещи мира, обнаруживающиеся нашими органами чувств, выказывают явные признаки своей случайности, с другой – величие порядка и повсюду замечаемое целесообразное устройство свидетельствуют о наличии разумного творца, обладающего великой мудростью, могуществом и благостью. Великое единство в столь обширном целом позволяет заключать, что есть только один творец всех вещей, и хотя во всех этих умозаключениях не видно геометрической строгости, они все же, бесспорно, содержат в себе достаточно убедительной силы, чтобы ни один разумный человек, следующий естественным правилам здравого ума, ни одного мгновения не сомневался в этом.
4. Вообще возможны только два доказательства бытия БогаИз всех приведенных суждений можно усмотреть, что если хотят заключать из понятий о возможных вещах, то в пользу бытия Бога можно привести только один аргумент; сама внутренняя возможность всех вещей рассматривается как нечто такое, что предполагает некоторое существование, как это и было показано нами в первом разделе нашего сочинения. Ясно также, что если от того, чему опыт учит нас о существующих вещах, умозаключение должно восходить все к той же истине, то доказательство может вестись лишь через свойства, воспринимаемые в вещах мира, и через случайный распорядок Вселенной к существованию, равно как и к свойствам высшей причины. Да будет мне позволено назвать первое доказательство онтологическим, а второе – космологическим.
Космологическое доказательство, как мне кажется, столь же старо, как и человеческий разум. Оно так естественно, так убедительно и до такой степени способно расширять круг размышлений вместе с развитием наших воззрений, что оно должно будет существовать до тех пор, пока в мире останется хоть одно разумное существо, склонное принять участие в этом благородном рассмотрении, дабы познать Бога из его творений. Усилия Дэрхема, Ниювентита и многих других сделали в этом отношении честь человеческому уму, хотя иногда сюда примешивалось и немало пустого тщеславия, выражавшегося в стремлении придавать солидный вид всякого рода физическим воззрениям или даже химерам под лозунгом религиозного рвения. При всех этих превосходных своих качествах рассматриваемый способ доказательства, однако, никогда не сможет достигнуть математической достоверности и точности. Заключать здесь возможно всегда лишь к некоторому непостижимо великому творцу того целого, которое представляется нашим чувствам, но не к существованию совершеннейшего из всех возможных существ. В отношении мира более всего вероятно, что имеется только один первый творец, но этому убеждению будет во многом не хватать той обстоятельности, которая не боится и самого дерзкого скепсиса. А это означает, что мы не можем заключать к более значительному числу или к более ярко выраженным свойствам в причине, чем те, какие мы считаем как раз необходимыми для того, чтобы понять из них степень и свойства действий [данной причины], а именно, если мы имеем только один повод судить о существовании этой причины – тот, который дают нам [ее] действия. Мы познаем много совершенства, величия и порядка в мире и все же не можем заключить отсюда с логической строгостью ни к чему большему, как только к тому, что причина всего этого должна обладать большим разумом, могуществом и благостью, но никоим образом не к тому, что она все знает, все может и т. д. и т. п. Целое, в котором мы воспринимаем единство и всеобщую связь, необъятно, и, исходя отсюда, мы имеем достаточно оснований заключать, что есть некоторый единый творец этого целого. Однако мы должны довольствоваться тем, что не все созданное мы знаем, и, следовательно, судить, будто известное нам показывает, что имеется только один творец, откуда мы предполагаем, что так же будет обстоять дело и с тем, что нам неизвестно; но это, хотя и представляется очень разумным, не есть основание для строгого вывода.
Намеченное нами в общих чертах онтологическое доказательство, напротив, представляется нам, если мы не слишком льстим себя надеждой, способным приобрести ту [логическую] строгость, которая требуется для всякого доказательства. Между тем если бы вопрос сводился к тому, какое же из этих двух доказательств вообще лучше, то надо было бы ответить: если речь идет о логической точности и полноте, то лучше онтологическое доказательство. Если же требуют понятности, присущей обычному правильному представлению, если требуют живости впечатления, красоты и стимулирующей силы для нравственных побуждений человеческой природы, то предпочтение следует отдать космологическому доказательству. И так как, несомненно, более важно воодушевить человека высокими чувствами, столь плодотворными для благородной деятельности, убеждая в то же время и здравый ум, чем наставлять его тщательно взвешенными умозаключениями, удовлетворяющими более тонкое умозрение, то, откровенно говоря, нельзя отрицать, что преимущество хорошо известного космологического доказательства – в его общей полезности.
Будет поэтому не льстивой уловкой ради чужого одобрения, а простой искренностью, если я такое изложение этого важного познания о Боге и его свойствах, какое Реймарус дает в своей книге о естественной религии, охотно предпочту ввиду его полезности всякому другому доказательству, в котором обращается больше внимания на логическую строгость, в том числе и моему собственному. Ибо, и не принимая в соображение ценности как указанного, так и других сочинений этого автора, состоящей главным образом в безыскусственном обращении к здравому и прекрасному уму, подобного рода доводы действительно имеют бо́льшую доказательную силу и дают большую наглядность, чем логически отвлеченные понятия, хотя эти последние и способствуют более точному пониманию предмета.
Но так как пытливый ум, раз он уже пошел по пути исследования, не удовлетворится, пока все вокруг него не станет ясным и полностью не замкнется, если так можно выразиться, круг стоящих перед ним вопросов, то никто не станет считать бесполезным и излишним то усилие, которое подобно настоящему в столь важном познании направлено на логическую точность, особенно потому, что есть много случаев, когда без такой тщательности применение понятий остается ненадежным и сомнительным.
5. Возможно всего лишь одно доказательство бытия Бога, основание для которого было приведено вышеИз всего сказанного явствует, что из четырех мыслимых оснований [для доказательства бытия Бога], разделенных нами на два основных вида, картезианское доказательство и то, которое исходя из приобретенного опытом понятия о существовании ведется посредством разложения понятия о некоторой независимой вещи, ложны и совершенно невозможны, т. е. они не только не доказывают с надлежащей строгостью, но и вообще не доказывают. Далее было показано, что доказательство, заключающее от свойств вещей в мире к бытию и свойствам Бога, хотя и содержит сильный и весьма привлекательный довод, но никогда не бывает способно к логической строгости. И таким образом, не остается ничего другого, как только признать, что либо вообще невозможно никакое логически строгое доказательство бытия Бога, либо оно должно опираться на то основание, которое мы привели выше. А так как речь идет здесь о возможности доказательства вообще, то никто не будет в состоянии утверждать первое, и придется признать как раз именно то, на что было указано нами. Есть только один Бог и только одно основание для доказательства, посредством которого возможно постичь его бытие с пониманием той необходимости, которая непременно исключает всякую противоположность, – суждение, к которому могло бы привести непосредственно уже само свойство предмета. Все другие вещи, которые только вообще существуют, могли бы и не быть. Приобретенное опытом знание о случайных вещах не может поэтому дать какой-нибудь убедительный довод для того, чтобы отсюда заключать о бытии того, кто не может не быть. Единственно только в том, что отрицание божественного существования есть полнейший вздор, и заключается различие его бытия от существования всех других вещей. Внутренняя возможность, сущность вещей есть то, упразднение чего уничтожает все мыслимое. В этом и будет, следовательно, заключаться отличительный признак бытия сущности всех существ. В этом признаке ищите доказательства, и если вы не надеетесь найти его здесь, то с этой непроторенной тропы перейдите на великую столбовую дорогу человеческого разума. Безусловно необходимо убедиться в бытии Бога, но вовсе не необходимо в такой же мере доказывать это.
Религия в пределах только разума
Предисловие к первому изданию
Мораль, поскольку она основана на понятии о человеке как существе свободном, но именно поэтому и связывающем себя безусловными законами посредством своего разума, не нуждается ни в идее о другом существе над ним, чтобы познать свой долг, ни в других мотивах, кроме самого закона, чтобы этот долг исполнить. По крайней мере это вина самого человека, если в нем имеется такая потребность, и тогда ему уже нельзя помочь ничем другим; ведь то, что возникает не из него самого и его свободы, не может заменить ему отсутствия моральности. Следовательно, для себя самой (и объективно, поскольку это касается волнения, и субъективно, поскольку это касается способности) мораль отнюдь не нуждается в религии; благодаря чистому практическому разуму она довлеет сама себе. В самом деле так как ее законы обязывают через одну лишь форму всеобщей законосообразности принимаемых в соответствии с ней максим как высшего (даже безусловного) условия всех целей, то она вообще не нуждается ни в каком материальном определяющем основании свободного произволения[14]14
Те, для кого недостаточно в качестве определяющего основания одного только формального определяющего основания (законности) вообще, в понятие долга, все же признают, что такое основание нельзя найти в себялюбии, направленном на собственное удовольствие. Но тогда остаются только два определяющих основания: рациональное, а именно собственное совершенство, и эмпирическое – чужое счастье. Если под первым они понимают не моральное совершенство (а именно волю, безусловно повинующуюся закону), которое может быть только одно-единственное, причем впадают при объяснении в порочный круг, то они должны подразумевать под ним естественное совершенство человека, поскольку оно может возрастать и иметь много различных форм (умение в искусствах и науках, вкус, физическая ловкость и т. п.). Но оно всегда только обусловленно, т. е. хорошо только при условии, что его применение не противоречит моральному закону (который единственно повелевает безусловно); следовательно, оно, если становится целью, не может быть принципом понятий долга. То же самое можно сказать и о цели, направленной на счастье других. В самом деле, всякий поступок должен быть сам по себе взвешен по моральному закону, прежде чем он будет направлен на счастье других. Таким образом, содействие счастью других есть долг только обусловленно и не может служить высшим принципом моральных максим.
[Закрыть], т. е. ни в какой цели, ни для того, чтобы узнать, что такое долг, ни для того, чтобы побуждать к его исполнению, но вполне может и должна, когда дело касается долга, отвлечься от всяких целей. Так, например, чтобы узнать, должен ли я перед судом давать правдивые свидетельские показания, должен ли я (и могу ли я) быть верным, если потребуют возвратить доверенное мне чужое имущество, нет надобности спрашивать о цели, которую я мог бы поставить перед собой, давая объяснение своей деятельности; ведь безразлично, какова эта цель. Более того, если тот, от кого правомерно требуют признания, считает нужным искать какую-нибудь цель, то уже этим он показывает себя человеком недостойным.
Но хотя мораль для себя самой не нуждается ни в каком представлении о цели, которое должно было бы предшествовать определению воли, тем не менее может быть и так, что она имеет необходимое отношение к такой цели, а именно, не как к основанию, а как к необходимым следствиям тех максим, какие принимаются сообразно с законами. В самом деле, без всякого отношения к цели не может быть никакого определения воли в человеке, так как оно не может быть без какого-нибудь результата, представление о котором, хотя бы не как определяющее основание произвола и не как преднамеренная цель, а как следствие определения произвола законом, должно быть принято в качестве цели (finis in consequentiam veniens); без такой цели произволения, какое для предполагаемого поступка не примысливает себе никакого ни объективно, ни субъективно определенного предмета (а он его имеет или должен иметь), не может удовлетворить себя, так как хотя оно и может указать, как нужно действовать, но не знает, для чего это нужно. Таким образом, хотя для правомерного действования мораль не нуждается ни в какой цели и для нее достаточно закона, который заключает в себе формальное условие применения свободы вообще, из морали все же возникает цель; ведь разум никак не может быть безразличным к тому, каков ответ на вопрос: что же последует из этого нашего правомерного действования и к какой цели, – если даже допустить, что это и не вполне в нашей власти, – мы можем направить свои поступки, чтобы они по крайней мере были в согласии с нею? Правда, это только идея об объекте, который заключает в себе и формальное условие всех целей, какие мы должны иметь (долг), и все, что в согласии с ним обусловливает все те цели, какие мы имеем (счастье, соразмерное с исполнением долга), т. е. идея высшего блага в мире, для возможности которого необходимо признать высшее, моральное, святейшее, всемогущее существо, которое одно только и может объединять оба этих элемента. Но эта идея (рассматриваемая практически) все же не пустая, потому что она помогает нашей естественной потребности мыслить для всякой нашей деятельности в целом какую-нибудь конечную цель, оправдываемую разумом; в противном случае имелось бы препятствие для морального решения. Но, что самое важное, эта идея следует из морали и не есть ее основа; цель, которую ставят, уже предполагает нравственные принципы. Следовательно, для морали не может быть безразличным, составляет ли она себе или нет понятие о конечной цели всех вещей (согласие с которой хотя и не умножает числа ее обязанностей, но создает для них особую точку объединения всех целей), так как только этим и может быть создана объективно практическая реальность для сочетания целесообразности свободы с целесообразностью природы, без которого мы не можем обойтись. Если вы представите себе человека, который уважает моральный закон и которому приходит на ум мысль (он вряд ли может избежать ее), какой мир, руководствуясь практическим разумом, он создал бы, если бы это было в его силах, и притом так, чтобы и сам он оставался в нем как его часть, – то, если бы ему был предоставлен выбор, он не только остановился бы на таком именно, какой порождает моральная идея о высшем благе, но и выразил бы также желание, чтобы мир вообще существовал, потому что моральный закон желает, чтобы высшее возможное через нас благо было осуществлено, хотя бы человек по этой идее и видел даже опасность утраты счастья для его личности, так как вполне возможно, что он и не в состоянии будет сообразоваться с требованием счастья, которое разум делает условием; следовательно, он примет это решение совершенно беспристрастно, как будто оно решение постороннего, хотя в то же время будет чувствовать, что признать его своим заставляет разум, чем человек и доказывает морально обусловленную в нем потребность мыслить для [исполнения] своих обязанностей еще и конечную цель как их результат.
Таким образом, мораль неизбежно ведет к религии, благодаря чему она расширяется до идеи обладающего властью морального законодателя вне человека[15]15
Положение: «Есть Бог», стало быть, «Есть в мире высшее благо», – если оно (как догмат) должно следовать только из морали, есть априорное синтетическое положение, которое хотя и принимается только в практическом отношении, тем не менее выходит за пределы понятия долга, которое содержится в морали (и предполагает не материю произвола, а только формальные законы его) и, следовательно, из морали не может быть развито аналитически. Но как возможно такое априорное положение? Согласие с одной лишь идеей морального законодателя всех людей тождественно с моральным понятием о долге вообще, и в этом смысле положение, предписываемое этим согласием, было бы аналитическим; но признание его существования говорит больше, чем только возможность такого предмета. Ключ к решению этой задачи, насколько, как мне кажется, я ее понимаю, может быть здесь мною только указан, но задачи я не решаю.
Цель — всегда предмет склонности, т. е. непосредственного желания обладать вещью с помощью своего поступка, подобно тому как закон (повелевающий практически) есть предмет уважения. Объективная цель (т. е. та, которую мы обязаны иметь) – это та, которую как таковую ставит перед нами только разум. Цель, которая заключает в себе необходимое и вместе с тем достаточное условие всех остальных, есть конечная цель. Личное счастье есть субъективная конечная цель разумных существ в мире (которую каждое из них имеет в силу своей природы, зависящей от чувственно воспринимаемых предметов, и о которой нелепо было бы сказать, что ее должно иметь), и все практические положения, имеющие своей основой эту конечную цель, суть синтетические, но вместе с тем эмпирические положения. Однако то, что каждый должен сделать конечной целью высшее возможное в мире благо, есть априорное синтетическое практическое положение, и притом объективно практическое, заданное чистым разумом, так как оно выходит за пределы понятия обязанностей в мире и присоединяет следствие их (эффект), которое в моральных законах не содержится и, таким образом, аналитически не может быть из них развито. Именно эти законы повелевают безусловно, каков бы ни был исход их исполнения, более того, они даже заставляют совершенно отвлечься от него, если дело касается отдельного поступка, и тем самым делают долг предметом глубочайшего уважения, не предлагая нам и не отклоняя от нас никакой цели (и конечной цели), которая обязательно рекомендовала бы этот поступок и составляла бы мотив исполнения нашего долга. Все люди здесь могли бы довольствоваться этим, если бы они (как они и должны были бы) придерживались только предписания чистого разума в законе. Зачем им знать результат своего морального поведения, к которому приводит обычный ход вещей? Для них достаточно того, что они исполняют свой долг, что бы ни было с земной жизнью и даже если бы в ней, быть может, никогда не совпадали счастье и достойность его. Но одно из неизбежных ограничений человека и его (а может быть, и всех других существ в мире) практической способности разума – это то, что при совершении любого поступка он всегда имеет в виду его результат, чтобы найти в нем нечто такое, что могло бы служить целью для него и доказывать чистоту намерения, причем цель эта в исполнении (nexu effectivo) стоит на последнем месте, в представлении и намерении (nexu finali) – на первом. В этой цели, хотя бы ее ставил перед ним один только разум, человек ищет что-то такое, что он может любить. Следовательно, закон, который внушает ему только уважение, хотя и не признает указанное [ограничение] потребностью, все же расширяется ради нее до принятия моральной конечной цели разума в число его определяющих оснований, т. е. положение: делай высшее возможное в мире благо своей конечной целью – есть априорное синтетическое положение, которое вводится самим моральным законом и благодаря которому практический разум расширяется тем не менее за пределы этого закона. А это возможно только благодаря тому, что указанная потребность связана с естественным свойством человека во всех поступках обязательно мыслить еще, кроме закона, и цель (и это его свойство делает его предметом опыта), и (как все теоретические и притом априорные синтетические положения) положение это возможно только потому, что оно заключает в себе априорный принцип познания определяющих оснований свободного произволения в опыте вообще, поскольку опыт, который показывает действия моральности в ее целях, придает понятию нравственности как причинности в мире объективную, хотя только практическую, реальность. Но если следует мыслить самое строгое соблюдение морального закона как причину достижения высшего блага (как цели), то, поскольку человеческой способности недостаточно, для того чтобы привести счастье в мире в полное согласие с достойностью быть счастливым, необходимо признать всемогущее моральное существо как владыку мира, промыслом которого это и совершается, т. е. мораль неизбежно ведет к религии.
[Закрыть], в воле которого конечной целью (мироздания) служит то, что может и должно быть конечной целью человека.
* * *
Если мораль признает в святости своего закона предмет глубочайшего уважения, то на ступени религии она в высшей, исполняющей эти законы причине представляет предмет поклонения и является в присущем ей величии. Но все, даже самое возвышенное, умаляется в руках людей, когда они применяют эту идею. То, что может быть истинно почитаемо лишь в том случае, если уважение к нему свободно, заставляет приспособляться к таким формам, которым можно придать вес только посредством законов принуждения. И то, что само собой подвергается публичной критике каждого человека, должно подчиняться критике, которая обладает силой, т. е. подчиняться цензуре.
Но коль скоро заповедь: Повинуйся власти! – также моральна и соблюдение ее, как и всех других обязанностей, может быть отнесено к религии, то сочинению, которое посвящено определенному понятию религии, подобает самому подавать пример такого повиновения, каковое может быть доказано не уважительным вниманием лишь к закону какого-то отдельного устроения в государстве и слепотою в рассмотрении всех иных, а только общим уважением ко всем. Богослов, которому дано судить о книгах, может быть назначен для того, чтобы он заботился лишь о спасении души, или же для того, чтобы заботиться также и о спасении наук. В первом случае судья будет действовать только как духовное лицо, а во втором – также и как ученый. Последнему как члену публичного заведения (под названием университета), которому доверены все науки для культуры и для предохранения их от всякого ущерба, надлежит ограничивать притязания первого тем условием, чтобы его цензура не производила никаких разрушений в области наук. И если оба [судьи] – основывающиеся на Библии богословы, то последнему из них как члену университета на том факультете, которому поручено излагать это богословие, должна принадлежать верховная цензура. Что касается первой задачи (спасения душ), то она поручается обоим в равной степени. Но что касается второй (спасения наук), то на богослова как университетского ученого должна быть возложена еще и особая функция. Если отступить от этого правила, то в конце концов можно прийти к тому, что уже когда-то было (например, во времена Галилея), а именно: основывающийся на Библии богослов, дабы смирить гордость наук и избавить себя от возни с ними, может отважиться на вторжение в область астрономии или других наук, например древней истории Земли, и, подобно тем народам, которые не обнаруживают в себе ни способности, ни достаточного усердия, чтобы защититься от опасных нападений, все вокруг себя превращает в пустыню и налагает запрет на все исследования человеческого рассудка.
Но основывающемуся на Библии богословию в области наук противостоит философское богословие – достояние, вверенное другому факультету. Если только оно остается в пределах одного лишь разума и пользуется для подтверждения и объяснения своих положений историей, языками, книгами всех народов, даже Библией, но только для себя, не вводя эти положения в библейское богословие и не пытаясь изменить те его официальные учения, исключительное право на которые имеют духовные лица, оно должно пользоваться полной свободой распространения, насколько хватит его учености. И хотя – если не подлежит сомнению, что философский богослов действительно перешел свои границы и вторгся в пределы основывающегося на Библии богословия, – у богослова (рассматриваемого только как духовное лицо) нельзя оспаривать право на цензуру, тем не менее, коль скоро это подвергается еще сомнению и, следовательно, возникает вопрос, произошло ли это на деле в книге или в каком-нибудь публичном чтении философа, верховная цензура может принадлежать только основывающемуся на Библии богослову как члену своего факультета, так как ему поручено заботиться и о втором интересе общества, а именно о процветании наук, и назначен он для этого с таким же правом, как и философский богослов.
И в таком случае первая цензура принадлежит этому факультету, а не философскому, так как богословский факультет имеет исключительное право на некоторые учения, а философский пускает свои учения в открытый свободный оборот, и потому только первый может жаловаться на то, что нарушается его исключительное право. Однако сомнение насчет такого вторжения, несмотря на взаимное сближение всех учений обоих факультетов и на опасение, что границы могут быть нарушены философским богословием, легко устранить; для этого надо только помнить, что такое бесчинство происходит не потому, что философ что-то заимствует от основывающегося на Библии богословия, чтобы использовать это для своих целей (ведь основывающееся на Библии богословие не отрицает, что оно содержит в себе немного общего для него с учениями чистого разума и, кроме того, нечто относящееся к исторической науке или к филологии и к цензуре этих наук); допустим также, что тем, что́ философ от него заимствует, он пользуется в значении, соответствующем одному лишь разуму, но, быть может, неугодном для основывающегося на Библии богословия; бесчинство происходит лишь в том случае, если он что-то вносит в него и тем самым намерен обратить его на другие цели, не дозволенные его устроением. Так, например, нельзя сказать, что профессор естественного права, заимствуя из кодекса римского права некоторые классические термины и формулы для своего философского учения о праве, вторгается в область римского права, хотя бы он, как это часто случается, пользовался ими не точно в том смысле, какой им придают толкователи этого права, если только он не домогается того, чтобы этими терминами и формулами так пользовались настоящие юристы или даже судебные учреждения. В самом деле если бы он не имел на это права, то можно было бы, наоборот, основывающихся на Библии богословов или присяжных юристов обвинять в бесчисленных посягательствах на достояние философии, потому что и те и другие, не будучи в состоянии обойтись без разума, а там, где дело решает наука, – без философии, очень часто кое-что должны заимствовать от нее, хотя только к их взаимной выгоде. Но если первому следует исходить из того, чтобы в религиозных делах не иметь по возможности никакого касательства с разумом, то можно легко предвидеть, кто будет в проигрыше. Ведь религия, которая, не задумываясь, объявляет войну разуму, не сможет долго устоять против него. Я позволяю себе даже предложить, что было бы лучше, окончив академическое обучение библейскому богословию, всякий раз в заключение прибавлять еще особый курс чисто философского учения о вере (а оно пользуется всем, также и Библией) по такому руководству, как эта книга (или другая, если можно найти лучшую книгу такого рода), и такой курс следовало бы считать необходимым для полного снаряжения кандидата. В самом деле, науки лишь выигрывают, отделяясь друг от друга, если только каждая сначала сама по себе составляет нечто целое и только уже потом делается попытка рассматривать ее в соединении с другими. В таком случае основывающийся на Библии богослов может быть единодушен с философом или считать, что он должен его опровергнуть, если только он его слушает. Ведь именно таким образом он заранее может быть во всеоружии против всяких затруднений, перед которыми его может поставить философ. Но утаивать их или объявлять их безбожными – это жалкая уловка, которая не выдерживает критики, а если смешивают то и другое и основывающийся на Библии богослов только случайно бросает на это беглые взоры, то это есть отсутствие основательности, и в таком случае никто в конце концов толком не знает, как быть с учением о вере в целом.
Из следующих четырех трактатов, в которых я показываю отношение религии к человеческой природе, наделенной отчасти добрыми, отчасти дурными задатками, и рассматриваю соотношение злого и доброго принципов как двух самостоятельных и влияющих на человека действующих причин, первый уже был напечатан в «Берлинском ежемесячнике» в апреле 1792 г. Но его нельзя было опустить здесь, поскольку он по содержанию тесно связан со всем этим произведением, содержащим в прибавленных трех статьях полную разработку первой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































