Текст книги "Доказательство бытия Бога"
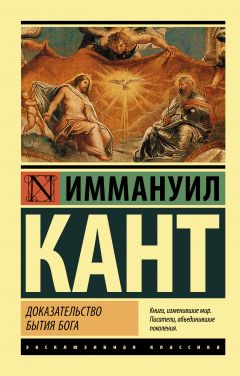
Автор книги: Иммануил Кант
Жанр: Литература 18 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Во всех видах веры, которые относятся к религии, исследование неизбежно наталкивается за их внутренними свойствами на тайну, т. е. на нечто священное, что хотя и может быть известно каждому в отдельности, но не может быть общественным достоянием, т. е. не может быть сообщено всем. – Как нечто священное, оно должно быть моральным, а следовательно, предметом разума и внутренним образом может быть признано достаточным для практического применения. Но как нечто тайное оно все же недостаточно для применения теоретического, ибо в таком случае его можно было бы объяснить каждому, а стало быть, также и внешним, т. е. публичным образом.
Веру в нечто, что мы должны тем не менее рассматривать как священную тайну, можно представить или как боговдохновенную, или как веру чистого разума. Не чувствуя за собой большой необходимости принудительно признавать первую, мы установим себе максимой держаться последней. Чувства – это еще не познания и, следовательно, не объясняют никакой тайны. А так как последняя имеет отношение к разуму, но все же не может быть общим достоянием, то каждому следует (если она такова) искать ее только в своем собственном разуме.
Невозможно a priori и объективно решить, бывают ли такие тайны или нет. Мы, следовательно, должны непосредственно искать во внутреннем, объективном свойстве наших моральных задатков средство увидеть, имеются ли в нас таковые. Однако мы не имеем права причислять к священным тайнам непостижимые для нас основы морального, которые, правда, могут быть известны публично, но причина которых нам не дана; мы можем причислить к ним только то одно, что дано нам для познания, но не может стать публичным достоянием. Так и свобода – свойство, которое становится известным человеку из определимости его произволения через безусловный моральный закон, не есть тайна, ибо ее познание может быть каждому сообщено, но неисследимая основа этого свойства – тайна, поскольку она не дана нам для познания. Вместе с тем эта свобода есть единственное, что, будучи применено к конечному объекту практического разума, к реализации идей моральной конечной цели, неизбежно ведет нас к священным тайнам[65]65
Так, причина всеобщей тяжести материи в мире нам неизвестна до такой степени, что можно считать ее вообще для нас непознаваемой, ибо уже понятие о ней предполагает первую и безусловно ей самой присущую движущую силу. Но все же она не является для нас тайной, так как – ибо закон ее достаточно известен – может быть сделана понятной каждому. Если Ньютон представляет ее как божественное всеприсутствие в явлении (omnipraesentia phaenomenon), то это еще не попытка объяснения (ибо существование Бога в пространстве заключает в себе противоречие), но тем не менее возвышенная аналогия, где имеется в виду соединение телесных существ в одно мировое целое, причем ему предпосылается бестелесная причина. Подобным же образом будет обстоять дело и с попыткой рассмотреть самостоятельный принцип объединения разумных мировых существ в одно этическое государство и отсюда объяснить это объединение. Мы знаем только долг, который влечет нас к этому, но возможность задуманного действия, если мы и повинуемся долгу, лежит вне границ всякого нашего усмотрения.
В природе есть тайны, нечто затаенное (arcana). Могут быть тайны (скрываемое, secreta) и в политике, которые не должны быть известны публично. Но как те, так и другие могут быть нам известны, поскольку они покоятся на эмпирических причинах. В отношении того, признание чего является всеобщим долгом людей (а именно морального), не может быть никакой тайны. Но в отношении того, что может совершить лишь Бог и применительно к чему попытка сделать что-то своими силами превышает наши способности, а значит, и наш долг, – тут только и может существовать тайна в собственном смысле, а именно священная тайна (mysterium) религии, о которой нам было бы, возможно, полезно знать и понимать, что таковая существует, но отнюдь не пытаться в нее проникнуть.
[Закрыть].
Так как человек не может сам реализовать идею высшего блага, неразрывно соединенную с чисто моральным образом мыслей (не только со стороны относящегося к ней блаженства, но и со стороны необходимого объединения людей для общей цели), хотя действовать в этом направлении есть его долг, – то он находит для себя необходимой веру в содействие или в существование морального миродержца, лишь с помощью которого эта цель становится возможной, и перед ним открывается бездонная тайна того, что при этом делает Бог, и следует ли вообще приписывать ему (Богу) нечто и что именно. Между тем человек в каждом долге не познает ничего другого, кроме того, что он сам должен делать, чтобы быть достойным неизвестного или по крайней мере непонятного ему восполнения.
Эта идея морального миродержца является задачей для нашего практического разума. Нам не столько важно знать, что такое Бог сам по себе (по своей природе), сколько что такое он для нас как моральное существо, хотя в интересах этого отношения мы должны мыслить и принимать свойства божественной природы таким образом, как это в данном случае диктуется его абсолютным совершенством, необходимым для исполнения его воли (например, понимать его как неизменное, всеведущее, всемогущее и т. д. существо), и вне этого отношения ничего в Боге понять не можем.
Соответственно данной потребности практического разума всеобщая истинная религиозная вера есть вера в Бога 1) как во всемогущего творца неба и земли, т. е. в моральном смысле как в святого законодателя, 2) как в хранителя человеческого рода, т. е. благого правителя и морального опекуна его, 3) как в блюстителя своего собственного священного закона, т. е. как в праведного судью.
Эта вера, собственно, не заключает в себе никакой тайны, ибо она выражает исключительно моральное отношение Бога к человеческому роду. Она сама собой напрашивается разуму каждого человека и потому встречается в религии большинства цивилизованных народов[66]66
В пророческой священной истории последних событий судия мира (тот, собственно, кто должен принадлежащих к царству доброго принципа принять как своих под свое господство и отделить их) представляется и называется не Богом, а сыном человеческим. Это, по-видимому, должно показать, что человечество, сознавая свою ограниченность и порочность, при этом выборе само будет произносить приговор, что является благостью, не отменяющей все же справедливости. Напротив, судья людей, будучи представляем в его божественности, т. е. как он взывает к нашей совести по священным, признаваемым нами законам и по нашему собственному сознанию наших прегрешений (Святой Дух), может быть мыслим только как судящий по всей строгости закона, ибо мы сами ровным счетом ничего не ведаем о том, сколько можно спустить нам по причине нашей бренности, и перед нашим взором стоит только совершенное нами нарушение закона вместе с сознанием нашей свободы и нарушения долга, идущего нам в вину, и, таким образом, мы не имеем ни малейшего основания принимать доброту в судебном приговоре о нас самих.
[Закрыть]. В понятии о народе как общности, в которой подобная троякая высшая сила (pouvoir) всегда должна быть мыслима, заключено то, что эта общность представляется здесь только как этическая.
Поэтому указанное троякое качество высшего морального главы человеческого рода может быть мыслимо соединенным в одном и том же существе, которое в юридически-гражданском государстве по необходимости должно разделяться между тремя различными субъектами[67]67
Когда хотят рассуждать о народном и (по аналогии с ним) о мировом управлении, то нельзя, конечно, указать основание, по которому эту идею можно найти у столь многих весьма древних народов, кроме того лишь, что она присуща всеобщему человеческому разуму. В религии Зороастра были эти три божественные личности: Ормузд, Митра и Ариман. В индусской – Брама, Вишна и Сивен (с тем только различием, что в первой третье лицо представляется не просто как творец зла, поскольку оно есть наказание, но и как творец морального зла, за которое наказывается человек; во второй же оно представляется только как судящее и наказующее существо). В египетской религии они назывались Фта, Кнейф и Нейт, из которых первый – насколько дают возможность догадываться неясные сведения из древнейших времен этого народа – должен был представлять отличающийся от материи дух как творца мира; второй принцип – поддерживающую и управляющую благость; третий – ограничивающую мудрость, т. е. справедливость. Готские народы почитали своего Одина (отца всех), свою Фрейю (или Фрейер, благость) и Тора, судящего (карающего) Бога. Даже иудеи в последние времена своего иерархического устройства, по-видимому, принимали эти идеи, ибо в обвинении фарисеями Христа за то, что он называл себя сыном Божьим, основная тяжесть, очевидно, не возлагается на учение, согласно которому Бог имеет Сына, но все обвинение сводится к тому, что он хотел быть сыном Божьим. (В)
[Закрыть].
Но поскольку эта вера, которая (в интересах религии вообще) освобождает моральное отношение человека к высшему существу от вредного антропоморфизма и соразмеряет его с подлинной нравственностью народа божьего, впервые является миру явно воплощенной в (христианском) вероучении и только в нем, то ознакомление с ней можно назвать откровением того, что для людей, по их собственной вине, до сих пор было тайной.
А именно в этом откровении говорится, во‑первых: не следует представлять себе высшего законодателя как такового ни милостивым, а значит, снисходительным (терпимым) к человеческим слабостям, ни деспотичным, повелевающим по своему неограниченному праву, а его законы следует представлять не как произвольные, не сродные с нашими понятиями о нравственности, но как направленные к святости человека. Во-вторых, следует полагать его доброту не в безусловном благоволении к своим творениям, но в том, что он прежде всего смотрит на их моральные свойства, которыми они могли бы быть ему угодны, и только тогда восполняет их неспособность удовлетворить этому условию их собственными силами. В-третьих, его справедливость следует представлять себе не как благосклонную и доступную просьбам (что заключало бы в себе противоречие) и еще менее как выражающуюся в качестве святости законодателя (перед которой ни один человек не прав), но лишь как ограничение благости на условии соответствия людей священному закону, поскольку они, как чада человеческие, могли бы сообразоваться с его требованиями.
Одним словом, Богу угодно быть почитаемым в трояком специфически-различном моральном качестве, для которого название разных (не физических, но моральных) личностей одного и того же существа – отнюдь не неудачное выражение. Этот символ веры выражает вместе с тем и всю чистую моральную религию, которая без этого различия подверглась бы опасности – по наклонности людей мыслить себе божество как верховного главу человеческого (ибо в его управлении эти три качества обычно не отделяются друг от друга, но часто смешиваются и сливаются воедино) – выродиться в антропоморфическую рабскую веру.
Но если эту веру (в божественное триединство) следует рассматривать не только как представление о некоей практической идее, но как долженствующую представить то, что́ есть Бог сам по себе, – то она превосходила бы все человеческие понятия и была бы, следовательно, тайной откровения, недостижимой для познавательной способности человека, и говорить о ней как таковой можно было бы только в этом отношении. Подобная вера, трактуемая как расширение теоретического познания божественной природы, была бы только исповеданием совершенно непостижимого для людей и – если они мнят, что понимают его, – антропоморфического символа церковной веры, что ни в малейшей степени не способствует нравственному улучшению.
Лишь то, что хотя бы в практическом отношении можно вполне понять и постигнуть, но что в смысле теоретическом (определение природы объекта самого по себе) превышает все наши понятия, – есть тайна (в одном отношении) и все-таки может быть дано в откровении (в некотором другом отношении). К последнему роду относится и вышеназванная тайна, которую можно разделить на три тайны, откровенные для нас в нашем собственном разуме.
1. Тайна призвания (людей как граждан к этическому государству). Мы не можем мыслить себе всеобщее безусловное подчинение человека божественному законодательству иначе, как лишь постольку, поскольку мы считаем себя вместе с тем и его творениями, – точно так же, как и на Бога можем смотреть как на основоположника всех естественных законов лишь потому, что он творец всех вещей природы. Но для нашего разума совершенно непостижимо, каким образом существо может быть создано для свободного применения своих сил. Ведь мы, согласно принципу причинности, не можем приписывать существу, которое считается порожденным, никакой другой внутренней основы его действий, кроме той, которую закладывает в нем производящая его причина, определяющая (стало быть, внешним образом) тогда и каждое его действие; само же это существо, значит, не будет свободным. Следовательно, божественное, священное и поэтому лишь к свободным существам применимое законодательство не может быть соединено в усмотрении нашего разума с понятием их сотворенности, а существа эти надлежит рассматривать только как уже существующие свободные существа, подлежащие определению не через их естественную зависимость в силу сотворенности, но лишь через моральное, по законам свободы возможное принуждение, т. е. через призвание к гражданству в божественном государстве. И если с моральной стороны призвание к этой цели совершенно ясно, то для умозрения возможность существования призванных – непроницаемая тайна.
2. Тайна искупления. Человек, насколько мы его знаем, испорчен и сам по себе отнюдь не соответствует этому священному закону. Тем не менее если благость божья как бы призвала его к существованию, т. е. пригласила к существованию особого рода (в члены Небесного Царства), то Бог должен иметь и средства, чтобы восполнить у людей недостаток необходимой пригодности к этому из полноты своей собственной святости. Однако это противоречит самопроизвольности (предполагаемой в отношении всего морального добра или зла, которое человек может иметь в себе), по которой подобное благо не может происходить от кого-либо иного, как лишь от самого человека, если оно должно быть ему зачтено.
Следовательно, насколько усматривает разум, никто другой не может заменить здесь человека благодаря избытку своего благого поведения и через свои заслуги, или же, если допустить нечто подобное, такое принятие может быть необходимо лишь в моральном отношении, ибо для умствования это недосягаемая тайна.
3. Тайна избрания. Если подобное искупление через заместителя допускается как возможное, то все же принятие его в моральной вере есть определение воли к добру, предполагающее богоугодный образ мыслей в человеке, хотя он по естественной внутренней испорченности и не способен своими силами осуществить последний. Однако то обстоятельство, что в нем должна действовать божественная благодать, которая одному доставляет это содействие, и не по его делам, а в силу необусловленного решения о нем, а другому отказывает в этом, и, таким образом, одна часть нашего рода предызбирается к блаженству, а другая – к вечному осуждению – не дает, в свою очередь, никакого понятия о божественной справедливости, но, во всяком случае, должно быть отнесено к той мудрости, правила которой представляют для нас совершенную тайну.
Об этих тайнах, поскольку они касаются моральной истории жизни каждого человека – как именно получается, что в мире вообще есть нравственное добро или зло, и (так как последнее присуще всем людям и во всякое время) как из этого последнего может возникнуть первое и возродиться в том или ином человеке или почему, если это происходит с некоторыми, другие составляют исключение, – Бог ничего нам не открыл и ничего открыть не может, ибо мы, разумеется, этого не поняли бы[68]68
Обыкновенно ничуть не сомневаются внушать наставляемым в религии веру в тайны, ибо, поскольку мы не постигаем последних, т. е. не можем усмотреть возможности их предмета, у нас столь же мало оснований отказывать им в признании, как, например, отрицать способность органической материи к размножению, чего тоже ни один человек не понимает и, однако же, на этом основании отнюдь не склонен ставить под сомнение, хотя бы это для нас было и оставалось тайной. Но при этом мы прекрасно понимаем, что значит это выражение, и имеем эмпирическое понятие о предмете, сознавая, что здесь нет никакого противоречия.
От каждой тайны, установленной в интересах веры, по справедливости можно требовать, чтобы было понятно, что под нею подразумевается; а это происходит не путем однозначного понимания слов, которыми она выражена, т. е. не путем придания им какого-то единственного смысла, но так, чтобы они, постигнутые в одном понятии, допускали и еще какой-нибудь смысл, не истощая при этом мышления. Нельзя рассуждать таким образом, что, не будь только с нашей стороны недостатка в серьезном желании, – и Бог тотчас может дополнить это наше познание внушением свыше, ибо последнее не может быть воспринято нами, так как природа нашего рассудка на это не способна. (В)
[Закрыть].
Все обстоит так, как если бы мы то, что случается, хотели относительно человека объяснить и сделать для нас понятным из его свободы, однако Бог, хотя он и открыл нам свою волю через моральный закон в нас, но причины, по которым совершается или не совершается свободное действие на земле, оставил в той же тьме, в которой для человеческого исследования должно оставаться все, что, подобно истории, тем не менее надлежит постигать из свободы по закону причин и следствий[69]69
Поэтому мы вполне понимаем, что такое свобода в практическом отношении (если речь идет о долге), но в плане теоретическом – что касается ее причинности (так сказать, ее природы) – мы никогда не можем без противоречия и помыслить о том, чтобы захотеть понять ее. (В)
[Закрыть].
В отношении же объективного правила нашего поведения все, в чем мы нуждаемся, нам достаточно открыто (через разум и Писание), и это откровение в то же время понятно каждому человеку.
То, что человек моральным законом призван к доброму образу жизни, что он, основываясь на заложенном в нем неугасимом уважении к этому закону, находит в себе призвание доверять этому доброму духу и надеяться, как это и бывает, удовлетворить его, наконец, что он, сопоставляя последнее ожидание со строгой заповедью закона, должен постоянно испытывать себя как бы для необходимого отчета перед судьей, – этому поучают и к этому побуждают одновременно разум, сердце и совесть. Было бы нескромно требовать, чтобы нам было открыто большее. А если это в ком-нибудь и бывает, то он не должен причислять это ко всеобщей человеческой потребности.
Но хотя обнимающая все названные тайны в единой формуле великая тайна может стать понятной для каждого человека с помощью его собственного разума как практически необходимая идея религии, все же можно сказать, что она – дабы стать основой по преимуществу публичной религии – впервые должна быть открыта нам тогда, когда она публично излагается и превращается в символ совершенно новой религиозной эпохи. Торжественные формулы обычно заключают в себе свой собственный, только для членов особого объединения (цеха или общности) определенный, порой мистический и не для каждого понятный язык, которым и надлежит (ради уважения) пользоваться лишь в торжественных случаях (например, если кто-либо должен быть принят в члены отличного от всех прочих сообщества). Но высшая, для человека никогда вполне не достижимая цель морального совершенства бренных творений – это любовь к закону.
Соответственно этой идее принцип веры в религии звучал бы так: «Бог есть любовь». В нем можно почитать любящего (любовью морального благоволения к людям, поскольку они соответствуют этому его святому закону) Отца, далее, в нем, поскольку он представляется в своей всеобъемлющей идее, т. е. в им самим рожденном и возлюбленном первообразе человечности, можно почитать его Сына; наконец, поскольку он указанное благоволение ограничивает на условиях соответствия людей условиями этой любви благоволения и этим проявляет любовь как покоящуюся на мудрости – Святого Духа[70]70
Этот Дух, в котором любовь к Богу как созидателю спасения (собственно, соответствующая любви его к нам наша ответная любовь) соединяется со страхом божьим перед ним как законодателем, а обусловленное соединяется с условием, и который, следовательно, можно представлять «как исходящий от обоих», есть, помимо того что «он ведет во всякую истину (соблюдение долга)», вместе с тем собственный судья человека (перед его совестью). Ибо «судить» можно понимать двояко: или в отношении заслуг и их недостатка, или в отношении виновности и невиновности. Бог, рассматриваемый как любовь (в своем Сыне), направляет людей постольку, поскольку они, кроме виновности, могут обладать еще и заслугой; в этом суть его приговора: достоин или недостоин. Тех, кому нечто подобное может быть зачтено, он избирает как своих. Остальные уходят с пустыми руками. С другой стороны, приговор судьи по справедливости (собственно, так называемого судьи под именем Святого Духа) в отношении тех, кому не может пригодиться никакая заслуга, таков: виновен или невиновен, т. е. осуждение или оправдание. (А)
Судить в первом случае означает отделение заслуженных от не имеющих заслуг, которые с обеих сторон домогаются награды (блаженства). Но под заслугой здесь понимается не преимущество моральности перед законом (по отношению к которому нам не может быть зачтен никакой избыток соблюдения долга над нашей виновностью), но в сравнении с другими людьми, поскольку это касается их моральных убеждений. Достойность в этом смысле всегда имеет только отрицательное значение (не-недостоин), а именно значение моральной восприимчивости к такому благу.
Таким образом, когда он судит в первом качестве (как брабевт), его решение составляет выбор между двумя борющимися ради награды (блаженства) лицами (или партиями). Но во втором своем качестве (собственно судьи) он объявляет решение над одним и тем же лицом перед судом (перед совестью), который выносит приговор, заслушав и обвинителя, и адвоката. (В)
Если допустить теперь, что хотя все люди и виновны в грехе, но некоторым из них могут пригодиться их заслуги, то имеет место приговор судьи из любви, а отсутствие этого приговора влечет за собой только отрицательное решение, в свою очередь, неизбежно ведущее к обвинительному приговору (ибо тогда человек подлежит юрисдикции судьи из справедливости).
Подобным же образом можно было бы, по моему мнению, объединить два, по видимости, противоречивых суждения: «Сын придет, чтобы судить живых и мертвых» и, напротив, «Бог послал его в мир не затем, чтобы он судил мир, но чтобы мир через него стал блаженным» (Иоанн, 3, 17) – и согласовать их с тем местом, где сказано: «Кто не верует в Сына, тот уже осужден» (там же, 18), а именно тем же самым Духом, о котором говорится: «Он будет судить мир ради грехов и ради справедливости».
Педантичную тщательность подобных различений в области только разума, для которого, собственно, они и встают, легко можно было бы считать бесполезной и тягостной тонкостью, каковой она и была бы, если бы дело шло об исследовании божественной природы. Но так как люди в делах религиозных постоянно склонны обращаться со своими провинностями к божественной благости, не имея возможности обойти божественной справедливости (а благосклонный судья в одной и той же личности есть противоречие), то легко видеть, что даже в практическом отношении их понятия об этом должны быть очень шаткими и не соответствующими самим себе и что, следовательно, проверка или точное определение этих понятий есть дело величайшей практической важности. (А)
[Закрыть]. Но нельзя призывать его в столь многообразных личностях (ибо это намекало бы на различие сущностей, а он всегда есть только один-единственный предмет). Напротив, следует призывать его во имя этого, даже им самим выше всего почитаемого и любимого предмета, пребывать в моральном единстве с которым есть наше желание и вместе с тем наш долг. В остальном теоретическое исповедание веры в божественную природу в этом трояком качестве принадлежит к чисто классической формуле церковной веры, чтобы отличать ее от других видов веры, выводимых из исторических источников, с которой немногие люди в состоянии соединить ясное и определенное (не подверженное лжетолкованию) понятие и разъяснение которой более подобает наставникам в их взаимоотношениях (как философским или ученым истолкователям священной книги), дабы объединиться в толковании ее смысла, где не все рассчитано на обычную способность восприятия или даже на потребности этого времени – ведь слепая вера в букву скорее портит, чем улучшает истинный, религиозный образ мыслей.
Часть четвертая
О служении и лжеслужении под главенством доброго принципа, или О религии и поповстве
Можно считать уже началом господства доброго принципа и признаком того, что «придет к нам Царство Божье», если хотя бы лишь основы его организации начинают становиться явными; ведь тогда в мире рассудка уже существует то, основы чего, на которых только и может осуществиться Царство Божье, повсюду пустили корни, хотя полное его развитие и проявление в чувственном мире все еще отодвинуто в необозримую даль.
Мы уже видели, что объединение в одну этическую общность – это своего рода обязанность (officium sui generis). И хотя каждый повинуется своему частному долгу, отсюда может следовать лишь случайное соглашение всех ради одного общего блага, и для этого не нужно никакого особого учреждения; но на соглашение нельзя надеяться, пока взаимное единение людей для одной и той же цели и построение общности на основе моральных законов как объединенной и потому более могущественной силы, способной противостоять всем нападкам злого принципа (ведь иначе сами люди искушают друг друга на служение в качестве орудий последнего), не станет особой задачей.
Мы видели также, что создание такой общности, как Царство Божье, предпринимается людьми только через посредство религии, и, наконец, дабы последняя стала публичной (что необходимо для общности), эта общность может представляться в чувственной форме церкви, организация которой, следовательно, должна быть обязательным для людей делом, которое предоставлено им и которого от них можно требовать.
Но построение церкви как общности по законам религии требует, по-видимому, большей мудрости (как по проницательности, так и по доброму образу мыслей), чем та, которую можно признать за людьми. Кроме того, моральное благо, имеемое в виду при создании подобной организации, должно, очевидно, уже предполагаться для людей в подобном этому намерении. Применительно к делу утверждение, что люди должны основывать Царство Божье (хотя о них правильно будет сказать, что они могут основать царство земного монарха), выглядит лишенным смысла. Бог сам должен быть основателем своего царства. Но так как мы не знаем, что́ Бог непосредственно делает, чтобы воплотить в действительности идею своего царства, быть гражданами и подданными которого мы считаем нашим моральным призванием, а знаем лишь то, что́ мы должны делать, чтобы стать достойными участия в нем, – то эта идея (она может пробуждаться и получать признание в человеческом роде с помощью разума или через Писание) обязывает нас к устроению церкви, где в последнем случае сам Бог является основателем и творцом основного закона, а люди, как члены и свободные граждане этого государства, во всех случаях являются инициаторами его организации. И тогда те из них, которые, соответственно последней, управляют публичными делами, составляют администрацию церкви как ее слуги, а все прочие составляют подчиненное ее законам содружество – общину.
Поскольку чистая религия разума как публичная религиозная вера допускает только чистую идею церкви (а именно невидимой) и лишь видимая церковь, основанная на статутах, нуждается в организации через людей и способна к ней, то на служение под началом доброго принципа в первой нельзя смотреть как на служение церкви и религия разума не имеет узаконенных служителей в качестве должностных лиц этической общности, но каждый член последней получает приказания непосредственно от высшего законодателя. Но так как в отношения всех наших обязанностей (которые в совокупности мы должны рассматривать как божественные заповеди) мы всегда находимся как бы в услужении Богу, то чистая религия разума будет иметь всех благомыслящих людей своими служителями (для чего не нужно быть чиновниками), но только это отнюдь не делает их слугами церкви (а именно видимой), о которой единственно здесь и идет речь.
Ведь поскольку каждая построенная на статутарных законах церковь может быть истинной лишь в той степени, в какой она заключает в себе принцип постоянного приближения к чистой вере разума (той, которая, если она становится практической, в каждой вере, собственно, и составляет религию) и постепенного освобождения от церковной веры (от того, что в ней есть исторического), – то в отношении указанных законов и должностных лиц основанной на этих законах церкви мы все же можем предполагать и служение (cultus) церкви в отмеченном выше смысле, а именно лишь постольку, поскольку последняя своим учением и своей организацией постоянно направлена к данной конечной цели (публичной религиозной вере).
Напротив, служители церкви, не принимающие этого во внимание, но скорее считающие максиму непрерывного приближения к указанной цели чем-то предосудительным, а привязанность к исторической и статутарной части церковной веры исключительно душеспасительным делом, – по справедливости могут быть обвинены в лжеслужении церкви или (тому, что она представляет) этической общности под главенством доброго принципа.
Под лжеслужением (cultus spurius) понимается убеждение служить кому-нибудь такими действиями, которые на самом деле отдаляют намеченную цель. В религиозной же общности это происходит в том случае, если нечто, имеющее значение лишь как средство исполнения высшей воли, выдается за нее самое и ставится на место того, что́ делает нас непосредственно угодными Богу; а в результате этого божественные намерения становятся тщетными.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































