Текст книги "Доказательство бытия Бога"
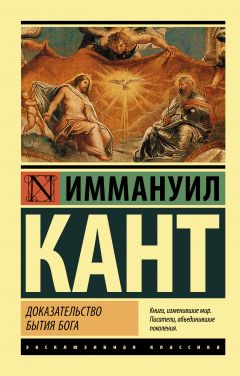
Автор книги: Иммануил Кант
Жанр: Литература 18 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
Но даже если эту веру представлять так, как будто она имеет столь исключительную силу и такое мистическое (или магическое) влияние, что хотя она, насколько мы знаем, должна считаться только исторической, все же, если человек привержен к ней и связанным с нею чувствам, способна улучшить всего человека в самых его основах (сделать его новым человеком), – то и тогда на саму эту веру следовало бы смотреть как на непосредственно данную и ниспосланную с неба (наряду с исторической верой и под ее эгидой), где в таком случае все, что касается моральных свойств человека, в конце концов сводится к абсолютной воле Бога: «Он милует, кого он хочет, и ожесточает, кого он хочет»[58]58
Это можно истолковать и так: никто не может с уверенностью сказать, отчего один человек становится добрым, а другой злым (оба сравнительно), так как очень часто предрасположенность к этому различию можно, по-видимому, заметить уже в новорожденном, хотя порой случайности жизни, над которыми никто не властен, решают здесь дело. И столь же мало можно сказать, что из него может выйти. Следовательно, мы должны предоставить суждение об этом всевидящему; а оно выражается здесь так, как если бы его приговор в отношении людей был вынесен прежде, чем они родились, и каждому уже была предназначена та роль, которую он когда-нибудь должен играть. Предвидение в порядке явлений есть для миродержца, особенно если он мыслится антропоморфически, вместе с тем и предрешение. Но в сверхчувственном порядке вещей, согласно законам свободы, где время отпадает, предвидение есть лишь всевидящее знание, которое не может объяснить, почему один человек поступает так, а другой – по противоположным началам, и все же не может быть сочетаемо со свободой воли.
[Закрыть]; понимаемое буквально, данное положение представляет собой salto mortale человеческого разума.
Стало быть, как из заложенных в нас физических, так и моральных задатков, причем последние являются конечной основой и вместе с тем истолкователями всякой религии, необходимо следует, что последняя шаг за шагом отделяется наконец от всяких эмпирических основ своего определения, от всяких статутов, которые покоятся на истории и при посредстве церковной веры временно соединяют людей для содействия благу. В результате этого чистая религия разума в конце концов господствует над всеми, чтобы «Бог был все во всем».
Оболочки, в которых эмбрион впервые складывался в человека, должны отпасть, как только последнему надлежит появиться на свет божий. Помочи священной традиции, со своими привесками – статутами и церемониями, – которые в свое время сослужили добрую службу, становятся мало-помалу излишними и, наконец, превращаются в оковы, когда человек вступает в юношеский возраст. Пока он (род людской) «был ребенком, он был мудр, как дитя», и умел с теми правилами, которые были возложены на него без его участия, сочетать и ученость, и даже угодную церкви философию. «Но когда он стал мужем, он отложил то, что было младенческим». Унизительное различие между мирянами и клириками прекращается, и равенство возникает из истинной свободы, но без анархии, потому что каждый, хотя и повинуется (нестатутарному) закону, который он сам себе предписывает, вместе с тем должен смотреть на него как на открытую ему через разум волю миродержца, который всех невидимым образом соединяет под общим началом в государство, до сих пор скудно представленное и подготовленное видимой церковью.
Всего нельзя ожидать от внешней революции, которая бурно и насильственно делает свое весьма зависящее от случайных обстоятельств дело, в котором то, что однажды было упущено при основании нового правления, будет, к общему сожалению, в течение столетий пребывать в прежнем состоянии, поскольку этого уже нельзя изменить, по крайней мере никак иначе, как только посредством новой (всегда опасной) революции.
В принципе чистой религии разума как постоянно совершающегося для всех людей божественного (хотя и не эмпирического) откровения должна быть заложена основа подобного перехода к этому новому порядку вещей, который, раз он постигается в чистом размышлении, будет происходить вплоть до завершения путем постепенно продвигающейся реформы, поскольку она должна быть человеческим делом. Ибо, что касается революций, которые могут сократить это движение вперед, то они остаются предоставленными провидению и не могут совершаться по плану и без нарушения свободы.
Хотя можно со всем основанием сказать, что «достигло до вас Царствие Божие», если только принцип постепенного перехода церковной веры ко всеобщей религии разума и, таким образом, к (божественному) этическому государству на земле стал всеобщим и где-нибудь укоренился уже явно, – тем не менее действительное утверждение его все еще бесконечно удалено от нас. Так как этот принцип содержит в себе основу непрерывного приближения к данному совершенству, то в нем, как в развивающемся и впоследствии воспроизводящем себя зерне, заключено (невидимым образом) то целое, которое некогда должно будет озарить мир и воцариться в нем. Ведь что до истины и добра (основа и понимание которых как свойство сердечного участия наличны в естественных задатках каждого человека), то стоит им однажды обрести публичное признание, и они, в силу естественного сродства с моральными задатками разумного существа вообще, передадутся всем и каждому. Препятствия, возникающие из политических гражданских причин, служат скорее к тому, что объединение людей для добра (которое, как только они однажды познакомятся с ним, никогда не покинет их мыслей) будет становиться только тем искреннее и глубже[59]59
За церковной верой можно сохранить – не отказывая ей в служении и не враждуя с нею – ее полезное влияние как вспомогательного средства, лишив ее (как иллюзию на почве богослужебного долга) в то же время всякого влияния на понятие о настоящей (а именно моральной) религии, и, таким образом, при всем различии статутарных видов веры, установить терпимость их приверженцев друг к другу на основе правил единой религии разума. Именно в этом смысле наставники должны объяснять все ее положения и обряды – до тех пор, когда со временем, под влиянием берущего верх истинного просвещения (законности, возникающей из моральной свободы), форму унижающей принудительной веры можно будет, с согласия каждого, переменить на церковную форму, отвечающую достоинству моральной религии, а именно форму свободной веры.
Соединить церковное единоверие со свободой в делах веры – вот проблема, к разрешению которой нас непрестанно побуждает идея объективного единства религии разума благодаря тому моральному участию, которое мы в ней принимаем; однако, если обратиться к человеческой природе, это единство мало надежды осуществить в видимой церкви. Данная идея – идея разума, представить которую в соответствующем ей чувственном созерцании для нас невозможно, но которая все же имеет объективную реальность как практический регулятивный принцип содействия этой цели единства чистой религии разума. Здесь дело обстоит точно так же, как и с политической идеей государственного права, поскольку оно вместе с тем должно быть соотнесено со всеобщим и полновластным международным правом. Опыт отрицает для нас всякую надежду на это. Очевидно, в человеческом роде заложена (быть может, с известным умыслом) наклонность к тому, чтобы каждое отдельное государство, если все идет согласно его желанию, стремилось подчинить себе каждое другое государство и создать универсальную монархию. Но когда оно достигает известной величины, оно само собой дробится на маленькие государства. Так и каждая церковь высоко возносит свое притязание быть всеобщей; но как только она распространяется и становится господствующей, в ней вскоре проявляется принцип распадения и разделения на различные секты. (А)
Что касается слишком раннего и поэтому (так как оно приходит раньше, чем люди морально становятся лучшими) опасного слияния государств в одно – если нам позволено будет признать и в этом цели провидения, – то указанному стремлению мешают главным образом две весьма влиятельные причины, а именно: различие в языках и различие в религиях. (В)
[Закрыть].
* * *
Это, следовательно, та незаметная для человеческого глаза, но постоянно совершающаяся деятельность доброго принципа, направленная на то, чтобы в человеческом роде как в единой общности по законам добродетели осуществить господство и царство добра, которое упрочит победу над злом и под своей властью обеспечит миру вечный мир.
Второй разделИсторическое представление постепенного основания господства доброго принципа на земле
От религии на земле (в наиболее узком значении слова) нельзя требовать универсальной истории человеческого рода, поскольку такая религия, как основанная на чистой моральной вере, не есть общественное состояние, но каждый те успехи, которые он в ней сделал, может сознавать только для себя самого.
Тем самым одна лишь церковная вера есть то, от чего можно ожидать всеобщего исторического изображения, причем ее по многообразным и изменчивым формам сравнивают с единственной, неизменной чистой религиозной верой.
С той черты, где первая публично признает свою зависимость от ограничивающих условий последней и необходимость соединения с нею, всеобщая церковь начинает складываться в этическое государство божье и по твердо установленному принципу, который для всех людей и для всех времен один и тот же, начинает приближаться к его осуществлению.
Можно предвидеть, что эта история будет не чем другим, как только рассказом о постоянной борьбе между богослужебной и моральной религиозной верами, из которых первую, как историческую, человек постоянно склонен ставить выше, несмотря на то что последняя никогда не отказывалась от своих притязаний на предпочтение, которого она заслуживает как единственно душеспасительная вера и в котором в конце концов наверняка утвердится.
Однако эта история может иметь единство лишь в том случае, если она ограничится только той частью человеческого рода, в которой стремление к единству всеобщей церкви зашло уже далеко в своем развитии, поскольку благодаря этому теперь по крайней мере открыто поставлен вопрос о различии веры разума и исторической веры и его решение превратилось в величайшую моральную проблему; ведь история законоположений различных народов, верования которых не имеют никакого общения между собой, не допускает никакого единства церкви. К этому единству нельзя относить и того, что в одном и том же народе вдруг возникала некая новая вера, которая значительно отличалась от прежде господствовавшей, хотя бы первая и несла в себе побудительные причины для нового порождения. Ибо, если необходимо причислить последовательную смену видов веры к модификациям одной и той же церкви, должно существовать единство принципа; а история церкви и есть именно то, чем мы теперь занимаемся.
Мы можем, следовательно, излагать в этом разделе только историю той церкви, которая с самого начала заключала в себе зародыш и принципы объективного единства истинной и всеобщей религиозной веры, к которому она постепенно подходит все ближе и ближе. Тогда оказывается прежде всего, что иудейская вера с той церковной верой, историю которой мы хотим рассмотреть, в целом и по существу совершенно не имеет никаких точек соприкосновения, т. е. не состоит ни в каком единстве по понятиям, хотя она ей непосредственно предшествовала, для основания этой (христианской) церкви дала физической повод.
Иудейская вера по своей первоначальной организации является совокупностью чисто статутарных законов, на которой было основано государственное правление; ведь те моральные элементы, которые – или в самом начале, или уже впоследствии – были в нее привнесены, безусловно не принадлежат иудейству как таковому. Последнее, собственно, – не религия, но лишь объединение массы людей, которые, поскольку они принадлежали к одному особому племени, организовались в единую общность под началом чисто политических законов и, стало быть, не образовали церкви. Иудейство скорее даже должно было быть чисто светским государством, так что, когда его терзали различные бедствия, в нем всегда пребывала (существенно присущая ему) вера, что некогда (с пришествием Мессии) оно вновь будет восстановлено. То обстоятельство, что данное государственное устройство имеет своей основой теократию (явным образом аристократию священников или вождей, которые гордились инструкциями, полученными непосредственно от Бога), а следовательно, почитается имя Бога, который, впрочем, выступает здесь только как светский правитель, не требующий совести и не имеющий к ней никаких претензий, – все это отнюдь еще не делает иудейство религиозным образом правления. Доказательство того, что последним оно и не должно было быть, очевидно.
Во-первых, все его заповеди такого рода, что на них можно основать политический строй и они возлагаются как принудительные законы, ибо касаются только внешних действий. И хотя десять заповедей, если бы даже они и не были даны публично, уже имеют значение для разума как этические, в этом законодательстве даны не с требованием морального образа мыслей при их исполнении (в чем впоследствии христианство полагало свое главное дело), но внимание направлено только на внешнее их соблюдение. Последнее ясно уже из того, что, во‑вторых, все следствия из исполнения или нарушения этих заповедей, всякая награда или наказание сводятся только к таким, какие в этом мире могут быть применены к каждому человеку, но сами по себе не имеют отношения к этическим понятиям; ведь в обоих случаях последствия должны затрагивать и потомство, которое ни в этих подвигах, ни в бесчинствах не принимало никакого практического участия, – что, если иметь в виду политическое устройство, во всяком случае может быть только мерой благоразумия для того, чтобы создать себе последователей, но в этическом отношении совершенно противно всякой справедливости. А так как без веры в будущую жизнь немыслима никакая религия, то иудейство как таковое, взятое в чистом виде, отнюдь не заключало в себе никакой религиозной веры. Это подтверждается еще и следующим соображением. Едва ли можно сомневаться, что евреи, так же как и другие, даже самые грубые народы, не могли не иметь веры в будущую жизнь, а, стало быть, должны были иметь свое небо и свой ад, ибо эта вера, в силу всеобщих задатков человеческой природы, сама собой навязывается каждому. Следовательно, наверняка преднамеренно было сделано то, что законодатель этого народа – хотя бы самого этого законодателя представляли как Бога – все же не желал иметь ни малейшего отношения к будущей жизни.
А это показывает, что он хотел основать только политическую, а не этическую общность. Но в первой вести речь о наградах и наказаниях, которые в этой жизни нельзя увидеть, было бы, при данном предположении, самым непоследовательным и нерасчетливым приемом. И хотя вряд ли можно сомневаться также и в том, что евреи впоследствии, каждый сам для себя, создавали определенную религиозную веру, которую они присоединяли к артикулам своей статутарной веры, но все же первая никогда не входила в законодательство иудейства.
В-третьих, иудейство было настолько далеко от того, чтобы в свое время составить собой эпоху, причастную к существованию всеобщей церкви, или создать саму эту всеобщую церковь, что оно отказало всему роду человеческому в общении, считая себя особым народом – избранником Иеговы, народом, который ненавидел все прочие народы и потому был ненавидим каждым из них. При этом не следует переоценивать то, что этот народ сотворил себе в качестве всеобщего миродержца единого Бога, которого нельзя представить себе зримым образом. Ведь и у большинства других народов находят, что их вероучение сводилось к тому же и лишь из-за почитания прочих подчиненных главному могущественных меньших богов навлекало на себя подозрения в политеизме. Ибо Бог, желающий только исполнения своих заповедей, для чего вовсе не требуется лучшего морального образа мыслей, не является все же тем моральным существом, понятие о котором мы считаем необходимым для религии. Последняя, скорее, уже была раньше, когда верили во многих такого рода могущественных невидимых существ – когда народ представлял их себе таким образом, будто они, при всем различии своих департаментов, все сходились в том, что удостаивали своего благоволения лишь того, кто всем сердцем прилежит к добродетели, – нежели потом, когда вера была посвящена только одному существу, но самое важное, однако, представлял собой его механический культ.
Мы можем, следовательно, всеобщую церковную историю, поскольку она должна составлять систему, начинать не иначе, как с истоков христианства, которое будучи окончательным отходом от иудейства, где оно возникло, было основано на совершенно новом принципе и произвело полную революцию в вероучении. Те усилия, которые проповедники первого прилагали или поначалу могли приложить, дабы из обоих вывести единую связующую путеводную нить, желая при этом считать новую веру только продолжением старой, которая будто бы все грядущие события заключала уже в своих прообразах, – показывали слишком ясно, что им следовало или важно было лишь найти самые подходящие средства для того, чтобы ввести чистую моральную религию вместо старого культа, к которому народ весьма сильно привык, и вместе с тем не выступить слишком резко против предрассудков последнего. Уже последовавшая отмена телесного отличия (обрезания), которое этому народу служило для совершенного обособления от прочих, позволяет думать, что новая (ни к статутам старой и вообще ни к каким статутам не привязанная) вера должна была заключать в себе одну для всего мира, а не только единственного народа значимую религию.
Следовательно, из иудейства, но уже не из патриархального, без всякой чуждой примеси, опиравшегося только на свое собственное политическое устройство (которое тогда уже очень сильно пошатнулось), но из иудейства, к которому примешалась религиозная вера, мало-помалу возникшая из признанных там публично моральных учений, в положении, когда до этого прежде невежественного народа дошла слишком чужая (греческая) мудрость, которая предположительно содействовала его просвещению с помощью понятий добродетели и под давящим гнетом установленной веры подготовляла революцию, при возможности уменьшить власть священников путем подчинения их верховной власти народа, который равнодушно смотрел на всякую чужую народную веру, – вот из такого иудейства внезапно, хотя и не без некоторой подготовки, поднялось христианство.
Учитель евангельский провозгласил себя посланником неба и с высоты всего достоинства такого посланничества провозгласил рабскую веру (в богослужебные дни, формулы и обряды) саму по себе ничтожной, а, напротив, моральную веру, которая одна только освящает человека, «как отец ваш на небесах свят есть», и в добром жизнеповедении доказывает свою истинность, объявил единственно душеспасительной. А затем он учением и страданиями вплоть до незаслуженной и вместе с тем полной величия смерти[60]60
С ней его публичная история (которая поэтому и вообще может служить примером для подражания) кончается. Приложенная к последней как дополнение, более таинственная и совершавшаяся только перед глазами близких ему лиц, история его воскресения и вознесения на небо (она, если видеть в ней только идеи разума, знаменовала бы собою начало новой жизни и обретение блаженства, т. е. единение со всевозможным благом) не может без ущерба для ее исторического достоинства быть использована религией в пределах только разума. И не потому лишь, что это исторический рассказ (ибо то же самое представляет собой и все предшествующее), но потому, что, понимаемая буквально, она допускает понятие, хотя и весьма соответствующее чувственному способу представления людей, но сильно тяготящее разум в его вере в будущее. А именно допускает понятие материальности всякого существа в мире, равно как и материализма личности человека (в психологическом плане), существование которой возможно тогда только при наличии того же самого тела, а также материализм настоящего в мире вообще (в космологическом плане), которое (по этому принципу) может существовать не иначе, как только пространственно. Напротив, гипотеза спиритуализма разумных мировых существ, где тело остается мертвым в земле, а та же самая личность пребывает все-таки живою, где человек по духу (в своем не-чувственном качестве) может подняться в жилище блаженных, не переносясь в какое-либо место бесконечного пространства, которое окружает землю (и которое мы называем небом), – более приемлема для разума не только ввиду невозможности сделать для себя понятной мыслящую материю, но главным образом ввиду случайности, которой подвержено наше существование после смерти потому, что оно должно покоиться на устойчивости состояния известного сгустка материи в известной форме, вместо чего можно было бы думать, что устойчивость простой субстанции вытекает как раз из природы этого существования. Но при последнем предположении (спиритуализма) разум не может быть заинтересован в том, чтобы тащить за собой в вечность тело, которое, как бы очищено оно ни было, все же (если личность покоится на его тождестве) должно состоять всегда из того же вещества, которое составляет базис его организации и которое при жизни никогда не представляло для него особенной ценности; точно так же разум не может сделать для себя понятным, чем должна быть эта известковая земля, из которой состоит тело, на небе, т. е. в другой области мира, где предположительно некая другая материя может быть условием существования и сохранения живого существа.
[Закрыть] в своем лице дал пример, соответствующий первообразу единственно богоугодной человечности, т. е. он представляется вновь возвращенным на небо, с которого он сошел, чтобы облечь в слова, устно произнесенные, свою последнюю волю (словно завещание).
Что же касается власти воспоминания о его заслуге, учении и примере, то можно сказать, что «он (идеал богоугодной человечности) тем не менее остается со своими учениками до конца мира».
Это учение – которое, если бы дело шло об исторической вере относительно происхождения и, быть может, сверхземного достоинства его личности, нуждалось бы в подтверждении посредством чуда, может, тем не менее, как относящееся только к совершенствующей душу моральной вере, обойтись и без подобных доказательств своей истинности, – было снабжено в священной книге еще чудесами и тайнами, обнародование которых, в свою очередь, тоже представляет собой чудо и требует исторической веры; а последняя может быть удостоверена и твердо определена в своем значении и смысле не иначе, как только с помощью учености.
Впрочем, всякая вера, которая как историческая основывается на книгах, нуждается для своего удостоверения в ученой публике, способной известным образом проследить ее через современных ей писателей, не возбуждающих никакого подозрения в особом уговоре с первыми распространителями этой веры и сохраняющих неразрывную связь с нашим теперешним писательством. Однако чистая вера разума не нуждается в подобном удостоверении, а доказывает сама себя.
Во времена этой революции в народе, который властвовал над иудеями и был распространен даже в их краю (в римском народе), уже существовала такая ученая публика, от которой через непрерывный ряд писателей к нам дошла и история тогдашнего времени, поскольку дело касается событий политического характера. К тому же народ этот, хотя его мало занимала религиозная вера неримских подданных, отнюдь не был настроен скептически в отношении чудес, которые должны были публично свершаться среди последних. И тем не менее, будучи современниками указанных событий, эти писатели ни словом не упомянули ни о чудесах, ни об этой, несомненно, публично происходившей революции, которую римляне (в религиозном отношении) вызвали в среде подвластного им народа. Лишь затем, с опозданием более чем на одно поколение, они занялись расследованием этой, до сих пор остававшейся неведомой им, перемены в верованиях (принявшей до известной степени публичную форму), но не изысканием ее начал, чего по этой причине мы не должны искать в их анналах.
С этого момента вплоть до того времени, когда христианство само создало для себя ученую публику, история его темна, и, следовательно, для нас остается неизвестным, какое влияние оказывало это учение на моральность своих приверженцев – были ли первые христиане действительно морально лучшими людьми или людьми обычной мерки. Но и с тех пор, как оно дало ученую публику или по крайней мере вступило в ее общие ряды, история христианства в том, что касается благодатного воздействия, которого с полным правом можно ожидать от моральной религии, отнюдь не служила к его рекомендации.
Как мистический фанатизм отшельнической и монашеской жизни и превознесение святости состояния безбрачия сделали огромное число людей бесполезными для жизни; как сопутствовавшие этому мнимые чудеса держали народ в тяжких оковах слепого суеверия; как в посягающей на свободных людей иерархии поднялся страшный голос правоверности из уст притязавших на исключительное призвание толкователей Писания и христианский мир из-за споров о вере (в которых, если не призвать в истолкователи чистого разума, безусловно, нельзя достичь никакого согласия) разделился на ожесточенно враждовавшие партии; как на Востоке, где государство самым забавным образом возилось со статутами веры священников и поповства, вместо того чтобы ограничить последних исключительно тесными рамками ученого сословия (из которого они всегда склонны переходить в правящее сословие), – как, говорю я, это государство в конце концов самым неизбежным образом должно было стать добычей внешних врагов, которые уничтожили наконец господствовавшую в нем веру; как на Западе, где вера взошла на свой собственный не зависимый от мирской власти трон, надменный наместник Бога поколебал и сделал бессильными гражданский порядок и науки (которые поддерживали последний); как обе христианские части мира – подобно растениям и животным, которые, будучи от болезни близки к своему разрушению, привлекают довершающих его насекомых, – подверглись нападению варваров; как в западной части духовный владыка повелевал королями и карал их, как детей, волшебным жезлом грозного отлучения и подстрекал их на опустошительные войны в других частях света (Крестовые походы), на вражду друг к другу, поощрял возмущение подданных против господ и кровожадную ненависть против иначе думающих приверженцев одного и того же всеобщего так называемого христианства; как все еще можно опасаться подобных раздоров, корень которых таится в недрах деспотически-повелевающей церковной веры и которым даже теперь только ради политических интересов не дают вылиться в насильственные выступления, – эта история христианства (которая, поскольку оно должно было быть воздвигнуто на исторической вере, и не могла сложиться как-нибудь иначе), если окинуть ее, как цельную картину, одним взглядом, вполне могла бы оправдать восклицание: Tantum religio potuit suadere malorum! – когда бы из самого факта основания христианства не вытекала всегда с достаточной ясностью та мысль, что у него не могло быть изначально другого истинного намерения, кроме того, чтобы ввести чистую религиозную веру, в отношении которой не может быть никаких спорных мнений, а вся суета, потрясшая и разобщившая человеческий род и до сей поры сеющая в нем вражду, произошла лишь потому, что в результате дурной наклонности человеческой природы то, что изначально призвано было служить учреждению чистой религиозной веры, а именно тому, чтобы нацию, привыкшую к старой исторической вере, с помощью собственных ее предрассудков обрести для новой, – впоследствии стало фундаментом всеобщей мировой религии.
Если бы меня спросили, какое время во всей до сих пор известной церковной истории было наилучшим, то я не колеблясь сказал бы: это – настоящее время, потому, собственно, что теперь можно дать зерну истинной религиозной веры – так, как оно теперь заложено в христианском мире, пусть и отдельными лицами, но публично, – возможность беспрепятственно развиваться все больше и больше и от этого можно ожидать постоянного приближения к той навеки объединяющей всех людей церкви, которая создает видимое представление (схему) невидимого Царства Божьего на земле.
В делах, которые по своей природе должны быть моральными и улучшающими душу, разум, высвобождающийся из-под гнета постоянно подверженной произволу истолкователей веры, во всех странах нашей части света среди истинных почитателей религии вообще (хотя и не везде публично) принял прежде всего принцип надлежащей умеренности в суждениях обо всем, что называется откровением; и, поскольку никто не может оспаривать возможности Писания, которое по своему практическому содержанию заключает в себе нечто божественное, на него и правда можно (именно в отношении того, что в нем есть исторического) смотреть как на божественное откровение. Точно так же объединения людей в одной религии невозможно достичь и упрочить без священной книги и основанной на ней церковной веры. И поскольку, судя по тому, в каком состоянии находится в настоящее время человеческое усмотрение, едва ли кто-нибудь будет ждать нового откровения, даруемого в новых чудесах, – то было бы самым разумным и справедливым пользоваться этой книгой, раз она уже существует, для церковного употребления и не умалять ее значения бесполезными и дерзновенными нападками, никому вместе с тем не навязывая веры в нее как в нечто необходимое для блаженства.
Второй принцип таков: поскольку священная история, которая сообразуется только с надобностями церковной веры, сама по себе не может и не должна иметь безусловно никакого влияния на принятие моральных максим, а должна быть придана последней только для живого изображения ее истинного объекта (добродетели, стремящейся к святости), она всегда должна быть излагаема и объясняема как нечто имеющее своей целью моральность, но при этом заботливо и (так как преимущественно обыкновенный человек имеет в себе постоянную наклонность переходить к пассивной[61]61
Одна из причин этой наклонности лежит в том охранительном принципе, что ошибки религии, в которой я был рожден и воспитан и изучение которой не зависело от моего выбора, в которой своим собственным умствованием я ничего изменить не могу, должны быть отнесены не на мой счет, а на счет моих воспитателей или публично назначенных для этого учителей. По той же самой причине человеку трудно получить одобрение при публичной перемене им религии – для этого, разумеется, есть еще и другое (глубже лежащее) основание, а именно то, что в силу свойственной каждому неуверенности относительно того, какая вера (среди исторических) является истинной, – притом что моральная вера всегда и повсюду одна и та же, – находят совершенно ненужным привлекать внимание к последнему обстоятельству.
[Закрыть] вере) неоднократно должна внушать, что истинная религия состоит не в знании или исповедании того, что́ Бог сделал или делает для нашего спасения, но в том, что́ мы сами должны делать, чтобы стать достойными этого. А это никогда не может быть ничем другим, как только тем, что для себя и в себе обладает несомненной и безусловной ценностью и, следовательно, одно только делает нас угодными Богу; а в необходимости этого каждый человек должен быть вполне уверен и без всякой богословской учености.
Долгом правителей является не препятствовать тому, чтобы эти правила стали публичными. Но было бы слишком смело и падало бы на личную ответственность каждого вторгаться при этом в ход божественного провидения и, покровительствуя известным церковным учениям, которые в лучшем случае имеют за собой только вероятность, приданную им учеными, подвергать таким образом искушению добрую совесть подданных, предоставляя им преимущества или же отказывая им в известной гражданской и обычно для каждого доступной привилегии[62]62
Если правительство не хочет считать принуждением совести то, что оно запрещает только публично высказывать свои религиозные убеждения – так как оно никому не может помешать про себя втайне думать о том, что он находит хорошим, – то на сей счет обыкновенно шутят, говоря, что это вовсе не какая-нибудь дозволенная свобода, поскольку все равно ей нельзя воспрепятствовать. Но то, чего не способна сделать высшая светская власть, может сделать духовная, а именно запретить мышление и фактически воспрепятствовать ему. Подобное принуждение, в частности, запрещение даже думать иначе, чем предписано, она способна наложить даже на могущественных представителей светской власти. Ибо ввиду наклонности людей к рабской богослужебной вере, которую они не только ставят выше моральной (соблюдая свои обязанности вообще служить Богу), но склонны придавать ей величайшую, даже единственную, все прочие недостатки возмещающую важность, – хранителям правоверия, как пастырям душ, всегда очень легко нагнать на свою паству такой благочестивый ужас перед малейшим уклонением от определенных, основанных на истории положений веры и даже перед всяким ее исследованием, что паства не осмеливается и в мыслях позволить себе сомнение в навязанных ей положениях, ибо это было бы почти то же самое, что открыть ухо для злого духа. Правда, конечно, что надо только осмелиться захотеть, чтобы освободиться от этого гнета (чего не бывает при государственном отношении к публичным исповеданиям веры). И именно такого рода пожелание задвигает все засовы внутри человека. Но и это прямое угнетение совести, хотя оно достаточно скверно (так как ведет к внутреннему лицемерию), все же не столь ужасно, как препятствование внешней свободе веры, ибо первое, в силу успехов моральной проницательности и сознания своей свободы, из которой только и может возникнуть истинное уважение к долгу, постепенно должно ослабевать само собой, а второе, внешнее, напротив, препятствует всякому по доброй воле совершаемому движению к этическому сообществу верующих, представляющему собой сущность истинной церкви, и подчиняет его форму чисто политическим предписаниям.
[Закрыть], что – если не принимать в счет ущерба, который тем самым наносится священной в данном случае свободе, – едва ли может создать для государства добрых граждан. И кто из тех, которые вызываются препятствовать подобному свободному развитию божественного задатка ко благу мира или предлагают подобные меры, захотел бы, если он, призвав на совет свою совесть, подумает об этом, взять на себя ответственность за все то зло, которое может возникнуть из такого насильственного вмешательства, которое на долгое время задержит продвижение в добре, намеченное в планах мироправления и даже, может быть, даст толчок к движению назад, хотя совершенно остановить это движение невозможно никакой человеческой властью и никакими мерами.
Наконец, Царство Небесное, поскольку дело касается руководящих планов провидения, представляется в этой истории не только словно в некоем, хотя и отдаленном до известного времени, однако никогда совершенно не прерывавшемся приближении, но и в его пришествии. В данном случае это можно истолковать как символическое представление, направленное исключительно на большее оживление надежды и мужества, и как стремление к этому царству, если данное историческое повествование является еще и предсказанием (как в Сивиллиных книгах) о завершении этого великого изменения в мире в картине видимого Царства Божьего на земле (под управлением его вновь нисходящего заместителя и наместника) и блаженства, которое в этом Царстве – после отделения и изгнания мятежников, пытающихся еще раз оказать ему сопротивление, – должно вкушаться уже здесь, на земле, при совершенном уничтожении последних и их предводителя (в Апокалипсисе), и, таким образом, конец света заключает историю. Учитель Евангелия показал своим ученикам Царство Божье на земле только с блестящей, возвышающей душу моральной стороны, а именно как достойность быть гражданами божественного государства, и наставил их в том, что́ они должны были делать, не только для того, чтобы самим этого достигнуть, но и для того, чтобы с другими единомышленниками и, если возможно, со всем родом человеческим соединиться там. Что же касается блаженства, составляющего другую часть неизбежных человеческих желаний, то на него, как он предсказал им, в земной жизни они не смогут рассчитывать. Он скорее готовил их к великим печалям и к великим пожертвованиям. Но к этому (ибо полного отречения от физического элемента в блаженстве человека, пока он существует, предполагать нельзя) он прибавлял: «Радуйтесь и утешайтесь; велика награда ваша на небесах».
Приведенное дополнение к истории церкви, которое касается ее будущего и последней судьбы, представляет ее в конце концов как торжествующую церковь, т. е. после победы над всеми препятствиями увенчанною блаженством еще здесь, на земле. Отделение добрых от злых, которое во время продвижения церкви к ее совершенству не могло быть совместимо с этой ее целью (ибо смешение их друг с другом было для этого прямо необходимо – отчасти чтобы для первых служить точильным камнем добродетели, отчасти же чтобы с помощью их примера отвлекать от зла и других), представляется, по полном завершении божественного государства, как его конечное следствие. К этому присоединяется и последнее доказательство его непоколебимости, рассматриваемой как могущество, – его победа над всеми внешними врагами, которые также рассматриваются как объединенные в государстве (в царстве ада), чем тогда и оканчивается вся земная жизнь, ибо «последний враг (доброго человека), смерть, истребится» и для обеих сторон – одной во благо, другой на погибель – начинается бессмертие, форма церкви сама собой расторгается, наместник на земле вступает в один разряд с теми людьми, которые возвысились до него как граждане неба, и, таким образом, Бог есть все во всем[63]63
Это выражение (если оставить в стороне то таинственное, выходящее за все границы возможного опыта, имеющее отношение только к священной истории человечества и для нас, следовательно, не имеющее никакого практического значения) можно понимать так, что историческая вера, которая как церковная нуждается в священной книге для руководства людей, но именно следствие этого препятствует единству и всеобщности церкви, сама собой прекратит свое существование и перейдет в чистую, одинаково ясную для всего мира религиозную веру; этому мы должны теперь усердно содействовать, постепенно освобождая чистую религию разума из ее в настоящее время все еще не лишней оболочки. (А)
Не для того, чтобы историческая вера исчезла (ибо она, быть может, всегда будет нужна и полезна как вспомогательное средство), но чтобы она могла исчезнуть. Здесь имеется в виду только внутренняя крепость чистой моральной веры. (В)
[Закрыть].
Это представление исторического рассказа о грядущих поколениях, которое само по себе не есть история, являет собой прекрасный идеал осуществленной путем введения истинной всеобщей религии и в вере предвидимой моральной мировой эпохи вплоть до ее завершения; последнее мы не обозреваем как эмпирическое завершение, но постоянно продвигаясь и приближаясь к высшему возможному на земле благу (в котором нет ничего мистического, а все естественным образом сводится к моральной стороне), мы в это завершение лишь заглядываем, т. е. можем делать для него приготовления. Явление Антихриста, хилиазм, оглашение близости конца мира – все это в освещении разума может принимать положительное символическое значение, и последнее, будучи представляемо здесь (подобно концу жизни – близко или далеко) не как предвидимое заранее событие, только очень хорошо выражает необходимость всегда быть в готовности к нему, а на деле (если данному символу придают интеллектуальный смысл) всегда рассматривать себя как призванных граждан божественного (этического) государства. «Когда же приходит царство божье?» – «Царство Божье приходит не в видимом образе. И нельзя сказать: вот оно, здесь, или вот оно, там. Поэтому знайте, что Царство Божье внутрь вас есть»[64]64
Здесь царство божье представляется не в виде особого союза (не как мессианское), но как моральное (как познаваемое только разумом). Первое (regnum divinum pactitium) должно извлекать свое доказательство из истории, и тогда оно будет делиться на мессианское царство по ветхому и по новому союзу. Примечательно в данном случае, что почитатели первого (евреи) все же сохраняют себя в этом качестве, хотя они и рассеяны по всему свету, тогда как приверженцев другой религии их вера обыкновенно сливает с верою народа, в котором они рассеяны. Этот феномен многим кажется настолько удивительным, что они не считают возможным объяснить его обычным ходом вещей, но рассматривают как чрезвычайное установление по особому божественному замыслу. Однако народ, обладающий письменно запечатленной религией (священными книгами), никогда не сливается в одной вере с тем, который (как римское государство – в то время весь цивилизованный мир) ничего подобного не имеет, а имеет только обычаи, что рано или поздно создает прозелитов. Поэтому и иудеи после плена вавилонского, когда, как кажется, их священные книги впервые стали публичным чтением, уже никогда не обвинялись в наклонности следовать за чужими богами. Вместе с тем александрийская культура, которая тоже должна была иметь влияние на иудеев, могла оказаться для них благоприятной в том смысле, что придала этим книгам систематическую форму. Так и парсы, приверженцы религии Зороастра, до сих пор сохраняют свою веру, несмотря на рассеяние, потому что их дестуры имели Зенд-Авесту. Напротив, индусы, рассеянные там и здесь под именем цыган, не избежали смешения с другими верами, так как происходили из подонков народа (парии, которым было даже запрещено читать священные книги). Но то, что евреи сами по себе все-таки не могли осуществить, сделали христианская и позднее магометанская религии (особенно первая), потому что обе они уже предполагали иудейскую веру и относящиеся к ней священные книги (хотя магометанство выдает их за нечто искаженное). Евреи у вышедших из них христиан всегда могли вновь обрести свои старые документы, если только они в своих скитаниях, где способность читать и поэтому стремление владеть этими книгами не раз могли в них угаснуть, сохраняли воспоминание, что они некогда прежде их имели. Поэтому вне упомянутых стран не встречают евреев, за исключением очень немногих на Малабарском берегу и некоторых общин в Китае (из которых первые могли быть в постоянных торговых сношениях со своими единоверцами в Аравии), хотя нельзя сомневаться в том, что они не могли быть широко распространены в тех богатых странах и ввиду полного отсутствия всякого сродства их веры с тамошними формами верований должны были дойти до полного забвения своей. Впрочем, весьма рискованно строить назидательные соображения исходя из сохранения еврейского народа с его религией при столь неблагоприятных для него обстоятельствах, так как каждая из двух его частей при этом думает вести свой собственный счет. Одна в живучести народа, к которому она принадлежит, и его старой веры, которая, несмотря на рассеяние среди столь многих народов, осталась несмешанной с другими, – видит доказательство особого благого провидения, сберегающего этот народ для будущего земного царства. Вторая не видит в этом ничего, кроме предостерегающих руин разрушенного государства, противодействующего наступающему Небесному Царству, – руин, которые все еще сохраняются в особых планах провидения, отчасти чтобы поддержать в памяти старое предсказание о Мессии, происходящем из этого народа, а отчасти чтобы показать на примере этого государства карающую справедливость, поскольку из Мессии упорным образом хотели сделать политическое, а не моральное понятие. (В)
[Закрыть] (Лука, 17: 21–22).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































