Текст книги "Доказательство бытия Бога"
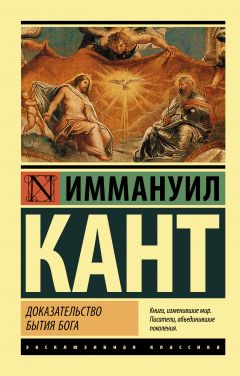
Автор книги: Иммануил Кант
Жанр: Литература 18 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
О лжеслужении богу в статутарной религии
Единственно истинная религия не содержит в себе ничего, кроме законов, т. е. таких практических принципов, безусловную необходимость которых мы можем сознавать и которые, следовательно, мы признаем как откровенные в чистом разуме (не эмпирически). Только для надобностей церкви, которой можно придавать различные равным образом хорошие формы, можно учреждать и статуты, т. е. считающиеся божественными предписания, которые нашему чистому моральному суждению представляются произвольными и случайными. Считать эту статутарную веру (которая во всяком случае ограничивается одним народом и не может заключать в себе всеобщей мировой религии) существенной для служения Богу вообще и делать ее высшим условием божественного благоволения к человеку – это религиозное заблуждение[76]76
Заблуждение – это самообман отождествления простого представления о вещи с нею самой. Таково у скупого богача заблуждение скряжничества, когда он представление о том, что когда-нибудь, если захочет, может воспользоваться своими богатствами, считает вполне достаточным возмещением того, что он ими никогда не воспользуется. Иллюзия честолюбия наделяет особой ценностью высокое суждение других людей, которые, в сущности, есть только внешнее выражение (внутренним образом, может быть, и не питаемого) уважения, – ценностью, которую следовало бы придавать только последнему, истинному уважению. Сюда, следовательно, относится также жажда титулов и орденов, ибо это лишь внешние представления о преимуществе перед другими. Даже безумие получило отсюда свое название, так как оно принимает простое представление (способности воображения) за присутствие вещи и привыкает именно так егo и оценивать. В данном же случае наличествует сознание обладания средством для достижения какой-либо цели (прежде, чем этим средством воспользуются), и достижение последней существует только в представлении. Следовательно, довольствоваться сознанием возможности достигнуть, как если бы оно было равнозначно самому достижению, – это практическая иллюзия, о которой только здесь и идет речь.
[Закрыть], следование которому представляет собой лжеслужение, т. е. мнимое богопочитание, прямо противодействующее тому истинному служению, какого Бог от нас требует.
Антропоморфизм, которого люди вряд ли могут избежать в теоретическом представлении о Боге и его сущности и который, впрочем (если только он не влияет на понятие о долге), сам по себе достаточно невинен, – в высшей степени опасен, поскольку дело касается нашего практического отношения к божьей воле и нашей моральности. Ибо тогда мы сотворяем себе Бога[77]77
Звучит хотя и сомнительно, но отнюдь не предосудительно, когда говорят, что каждый человек сам себе творит Бога и, по моральным понятиям (будучи наделен бесконечно великими свойствами, которые относятся к способности представлять себе соответствующий им в мире предмет), даже обязан его творить, дабы уважать в нем того, кто создал его самого. Ибо какими бы способами некая сущность ни была изучена и описана другим как Бог и даже, быть может (если допустить это), являлась ему самому, – все же подобное представление он должен прежде всего согласовать со своим идеалом, чтобы решить, имеет ли он право принимать и почитать эту сущность как божество. Следовательно, из одного лишь откровения – если только в основе уже не заложено, как пробный камень, моральное понятие во всей своей чистоте – не может возникнуть никакой религии и всякое почитание Бога будет идолослужением. (В)
[Закрыть], которого мы легче всего можем склонить на свою сторону и освободить от обременительных и бесполезных усилий воздействовать на сокровеннейшую сущность нашего морального образа мыслей.
Основной принцип, который человек в подобном отношении обыкновенно берет себе за правило, таков всем, что мы делаем исключительно в целях угождения божеству (пусть только это прямо не противоречит моральности, если даже решительно ничем ей не способствует), мы доказываем Богу нашу готовность служить как покорные и поэтому угодные ему подданные, следовательно, и служим (in potentia) ему.
Однако способ, которым человек надеется исполнить это служение Богу, по-видимому, не всегда носит характер жертвы; здесь могут быть торжественные празднества, даже общественные игры, которые, должно быть, часто служили у греков и римлян, да и сейчас еще служат тому, чтобы сделать божество милостивым к народу и к отдельным лицам соответственно их заблуждению. Но первые жертвы (покаяния, бичевания, паломничества и т. д.) всегда считались более действенными средствами, сильнее воздействующими на милость неба и более пригодными для очищения от грехов, так как они убедительнее других служат доказательством безграничного (хотя и не морального) подчинения его воле. Чем бесполезнее такие самоистязания, т. е. чем меньше они направлены на общее моральное улучшение человека, тем священнее кажутся, ибо именно потому, что в мире они решительно бесполезны, но требуют великих усилий, они представляются направленными единственно на то, чтобы засвидетельствовать преданность Богу.
Хотя, как говорится, при такой постановке вопроса Бог ни в чем не получает никакого служения, он видит в этом добрую волю, сердце, которое, правда, слабо в исполнении его моральных заповедей, однако возмещает этот недостаток доказанной подобным путем готовностью служить. Здесь видна уже наклонность к образу действий, который сам по себе не имеет никакого морального значения, будучи просто средством поднять чувственную способность представления до следования интеллектуальным идеям цели или подавить ее, если она как-либо может им противодействовать[78]78
Для тех, кто повсюду, где отличия чувственного от интеллектуального для них не столь ясны, думает найти противоречия «Критики чистого разума» с нею самой, я здесь замечу, что если речь идет о чувственных средствах содействия интеллектуальному (чистого морального образа мыслей) или о препятствиях, которые эти средства ставят на его пути, то влияние двух столь неоднородных принципов никогда не следует рассматривать как прямое. Именно, как чувственные существа, мы в отношении проявлений интеллектуального принципа, т. е. в определении наших физических сил через свободное произволение, выступающее в действиях, можем действовать как вопреки закону, так и в его интересах, и, стало быть, причина и следствие представляются нам на деле однородными. Но что касается сверхчувственного (субъективного принципа моральности в нас, заложенного в непостижимом свойстве свободы), например, чистого религиозного образа мыслей, то в последнем мы не усматриваем ничего вне его закона (которого уже вполне достаточно), что касалось бы отношения причины и следствия в человеке, т. е. мы не можем объяснить себе из приписываемых людям моральных свойств возможность действий как событий в чувственном мире, и потому именно, что это свободные действия, а основы объяснения всех событий должны быть заимствованы из чувственного мира.
[Закрыть].
Этому образу действий мы в нашем мнении тем не менее придаем значение самой цели, или, что совершенно то же самое, придаем настроенности души на восприятие обращенного к божеству образа мыслей (называемому благоговением) значение последнего.
Такое поведение есть, стало быть, только религиозное заблуждение, способное принимать всевозможные формы, причем в одних оно носит более моральный характер, чем в других, но во всех является не просто непреднамеренным обманом, но даже и максимой: придавать средству, а не цели, самодовлеющее значение; в силу последнего это заблуждение во всех формах одинаково нелепо и предосудительно как скрытая склонность к обманыванию.
Прежде всего я принимаю как правило следующее, ни в каких доказательствах не нуждающееся положение: все, что человек сверх доброго образа жизни предполагает возможным сделать, чтобы стать угодным Богу, есть лишь религиозное заблуждение и лжеслужение Богу.
Я говорю, что́ человек полагает возможным сделать. Но этим вовсе не отрицается, что сверх всего доступного нам в тайнах божественной мудрости может существовать нечто возможное лишь для Бога, с помощью чего мы становимся угодными Ему людьми. И если подобную тайну церковь хочет выдать за данную в откровении, то было бы опасным религиозным заблуждением считать, будто веровать в это откровение (как его передает нам священная история) и исповедовать его (внутренним или внешним образом) есть нечто такое, что делает нас угодными Богу. Ибо подобная вера как внутреннее сознание своей твердой правоты поистине является действием, которое вынуждается только страхом, так что человек искренний скорее принял бы любое другое условие, но не это; ведь если во всех прочих видах рабского служения ему пришлось бы в любом случае делать только нечто излишнее, то здесь – нечто противоречащее совести: провозглашать то, в истине чего он не убежден. Следовательно, подобного рода вероисповедание, относительно которого человек уверяет себя, что оно само по себе (как восприятие заповеданного ему блага) может сделать его угодным Богу, есть нечто такое, что он намерен принять сверх добропорядочного следования существующим в мире моральным законам, в котором он обращает свое служение непосредственно к Богу.
Во-первых, по отношению к недостатку нашей собственной праведности (которая имеет значение перед Богом) разум не оставляет нас совсем без утешения. Он говорит, что тот, кто в истинном, преданном долгу образе мыслей, насколько это в его возможности, действует так, чтобы (по крайней мере в постоянном приближении к полному соответствию с законом) исполнять все свои обязанности, – тот смеет надеяться, что неподвластное ему будет восполнено высшей мудростью тем или иным способом (например, станет неизменной настроенность на это постоянное приближение). Но при этом разум не притязает на то, чтобы определить этот способ и знать, в чем он состоит, – а способ может быть настолько таинственным, что Бог мог бы открыть его нам в лучшем случае лишь в символическом представлении, т. е. дать нам понять его практическое значение, между тем как теоретически мы совершенно не в состоянии усвоить и выразить в понятиях, что же такое отношение Бога к человеку само по себе, если бы он даже и захотел открыть нам подобную тайну.
Но если некая церковь утверждает, что она может определить способ, каким Бог восполняет этот моральный недостаток рода человеческого, и вместе с тем обрекает на вечное осуждение всех людей, которые не знают этого естественным образом не известного разуму средства оправдания и поэтому, следовательно, не могут принять и исповедовать его как религиозный догмат, то кто же будет тогда неверующим? Тот, кто верует, не ведая, как совершается то, на что он надеется, или тот, кто хочет досконально познать этот способ избавления человека от зла и в противном случае отказывается от всякой надежды на избавление?
В сущности, для последнего познание этой тайны не представляет большого значения (ибо уже разум учит его, что ему совершенно бесполезно знать то, чем он никак не сможет воспользоваться); знать эту тайну ему нужно лишь затем, чтобы (пусть это и происходит только внутренним образом) иметь возможность создать себе из веры, признания, исповедания и восхваления всего, что дает откровение, тот вид богослужения, который способен доставить ему милость неба без всякой траты его собственных сил на добрый образ жизни, стало быть, совсем даром, а благой образ жизни произвести каким-то сверхъестественным способом или, если совершается что-либо противное долгу, по крайней мере возместить это нарушение.
Во-вторых, если человек хоть в чем-то самом малом уклоняется от вышеупомянутой максимы, то лжеслужение Богу (суеверие) в дальнейшем становится безграничным, ибо вне ее все (что только прямо не противоречит нравственности) произвольно. От жертвы на словах, которая человеку так мало стоит, вплоть до жертвы благами природы, которые могли бы быть гораздо лучше употреблены ему на пользу, и даже вплоть до пожертвования своей собственной личности, при котором он утрачивается (в состоянии отшельника, факира или монаха) для мира, – все это он приносит Богу, но только не свой моральный образ мыслей. И если он говорит, что приносит Богу и свое сердце, то понимает под этим не убеждения, присущие богоугодному образу жизни, а искреннее желание внести свою жертву в счет вместо последних (natio gratis anhelans, multa agendo nihil agens. Федр.).
Наконец, стоит только принять максиму якобы угодного Богу самого по себе и в случае нужды примиряющего с ним, но отнюдь не чисто морального служения, и оказывается, что способы служить ему, как бы механические, не имеют никакого существенного отличия, которое давало бы одному преимущество над другим. Все они по достоинству (или скорее по недостоинству) одинаковы, и только простым жеманством можно объяснить желание считать себя за более тонкое отклонение от интеллектуального почитания Бога персоной более изысканной, чем те, кого можно обвинять в (пусть и мнимом) более грубом отклонении в сторону чувственности. Посещает ли ханжа согласно предписаниям церковь, совершает ли он паломничество к святыням в Лоретто или в Палестину, произносит ли он свои молитвенные формулы губами или, как это делают в Тибете (где веруют, что эти пожелания отлично достигнут своей цели, если только они в какой-либо форме изложены письменно, например на флагах, поставленных по ветру, или заключены в барабан, который, как маховое колесо, приводится в движение рукой), с помощью молитвенного колеса отправляет их прямо в небесные инстанции – все это, какой бы другой суррогат морального служения Богу ни был пущен в ход, в сущности, совершенно одно и то же и имеет одинаковую цену.
В то же время дело состоит не в различии по внешней форме, но все сводится к признанию или отрицанию единственного принципа: либо представлять Бога только в моральном образе мыслей, поскольку он находит жизнепроявление в действиях, либо стараться угодить Богу благочестивыми заигрываниями и ничегонеделанием[79]79
Можно считать явлением психологического порядка, что приверженцы того или другого вероисповедания, в котором не столь велик статутарный элемент веры, чувствуют себя облагороженными и словно более просвещенными, хотя и они все еще в достаточной мере не свободны от того, чтобы (как это они действительно делают) не взирать презрительно с мнимой высоты своей чистоты на своих собратьев по церковному заблуждению. Причиной служит то, что они в силу вышеуказанного обстоятельства (как бы само по себе оно ни было ничтожно) хотя и приблизились к чисто моральной религии, однако, будучи все еще слишком подвержены заблуждению, стремятся заменить эту религию благочестивыми обрядами, причем разум тут всего лишь чуточку менее пассивен.
[Закрыть].
Но разве нет возвышающейся над всей сферой человеческих способностей головокружительного заблуждения добродетели, которое вместе с пресмыкающимся религиозным заблуждением можно было бы зачислить в общий класс всяких самообманов? Нет. Добродетельный образ мыслей всегда занимается чем-нибудь действительным, что само по себе угодно Богу и содействует улучшению мира. Хотя при этом и может появиться иллюзия самомнения, побуждающая считать самого себя равным идее своего священного долга, но такое бывает только случайно. Считать эту идею высочайшей ценностью – это не заблуждение, подобное церковным упражнениям в благочестии, а несомненный вклад, содействующий улучшению мира.
Кроме того, стало уже обычаем (по крайней мере церковным) называть то, что человек может сделать, руководствуясь принципом добродетели, природой, а все, что служит только восполнением его моральной способности и, так как полнота и достаточность последней вменяется нам в долг, может быть лишь предметом желания, надежды или молитвы, – благодатью; а поскольку то и другое вместе по обычаю считается причинами, порождающими достаточные для богоугодного образа жизни убеждения, их не только отличают друг от друга, но даже друг другу противопоставляют.
Убеждение, что действия благодати можно отличать от действий природы (добродетели) или что с помощью первых можно выработать в себе и последние, следует считать обольщением, ибо мы не можем ни познать где бы то ни было в опыте сверхчувственный предмет, ни тем более оказать на него влияние, чтобы склонить на нашу сторону, хотя иногда в душе возникают благотворные для нравственности побуждения, которые нельзя объяснить и перед лицом которых мы вынуждены признаться в своем невежестве: «Ветер веет, куда он хочет, но ты не знаешь, откуда он приходит» и т. д. Желание воспринять в себе влияние небес есть известного рода безумие, в котором, впрочем, также может быть метод (так как эти мнимые внутренние откровения всегда должны примыкать к моральным и, следовательно, принадлежащим разуму идеям), но которое тем не менее всегда остается вредным для религии самообманом. Веровать в то, что действия благодати могут и, возможно, даже должны существовать для восполнения несовершенства нашего стремления к добродетели, – вот все, что мы можем сказать об этом. В остальном мы лишены возможности что-либо определить относительно ее признаков и тем более что-либо сделать для ее привлечения.
Заблуждение, будто путем отправления религиозного обряда можно добиться чего-либо в делах своего оправдания пред Богом, – это религиозное суеверие, подобное иному заблуждению, будто можно добиться оправдания через общение с Богом, что есть религиозное самообольщение. Желание стать угодным Богу, совершая то, что может сделать каждый человек и не будучи добрым человеком (например, исповедание статутарных догматов, соблюдение церковной обрядности и дисциплины и т. д.), – именуется заблуждением суеверия. Подобное название оно носит потому, что избирает только природные (не моральные) средства, которые сами по себе совершенно бездейственны в области неприродной (т. е. в области нравственного блага).
Об обольщении же можно говорить в том случае, когда даже и само воображаемое средство, будучи сверхчувственным, находится за пределами человеческих возможностей, если даже отвлечься от недостижимости задаваемой этим заблуждением сверхчувственной цели; ведь ощущение непосредственного присутствия высшего существа и отличие этого ощущения от всякого другого, даже морального, было бы восприимчивостью к такому созерцанию, для которого в человеческой природе нет соответствующего чувства.
Заблуждение суеверия, содержа пригодное и в то же время само по себе возможное для того или иного субъекта средство, способное по крайней мере противодействовать препятствиям на пути богоугодного образа мыслей, в этом отношении является все же родственным разуму и лишь случайно – именно поскольку оно превращает то, что может быть только средством, в предмет непосредственного божественного благоволения – является предосудительным. Напротив, заблуждение религиозного самообольщения – это моральная смерть разума, без которого, разумеется, не может существовать никакая религия как таковая, которая, как и вся нравственность вообще, должна быть основана на принципах.
Положение церковной веры, устраняющее или предупреждающее любое религиозное заблуждение, звучит, следовательно, так: церковная вера, наряду со статутарными догматами, без которых она до сих пор не может полностью обойтись, должна вместе с тем заключать в себе принцип – вводить религию доброго образа жизни как настоящую цель, чтобы впоследствии иметь возможность обойтись и без первых.
Это название, обозначающее авторитет духовного отца (πάπα), приобретает оттенок порицания только в побочном понятии о духовном деспотизме, который можно встретить во всех церковных формах, сколь бы непритязательными и популярными они ни казались. Я, во всяком случае, отнюдь не хочу, чтобы меня понимали так, будто я, противопоставляя секты, намереваюсь оценить одни с их обычаями и учреждениями ниже других. Все они заслуживают равного уважения, поскольку их формы – только попытка несчастных смертных осуществить чувственным образом Царство Божье на земле. Все они заслуживают и равного порицания, если форму воплощения этой идеи (в видимой церкви) они принимают за суть дела. (В)
[Закрыть]как возглавляющем лжеслужение доброму принципу
Почитание могущественных невидимых существ, насильственно вынуждаемое у беспомощного человека природным страхом, возникающим из сознания собственного бессилия, начинается не прямо с религии, а с рабского богослужения (или идолослужения), которое, получив известную официально узаконенную форму, становится храмовым служением и лишь после того, как с этими законами мало-помалу связывается моральное образование людей, превращается в церковное служение; в основе обоих до тех пор лежит историческая вера, пока, наконец, на нее не начинают смотреть только как на предварительную, видя в ней символическое изображение чистой религиозной веры и средство для содействия последней.
Между тунгусским шаманом и европейскими прелатами, управляющими одновременно и церковью, и государством, или (если мы предпочтем вместо глав и предводителей рассматривать только приверженцев веры согласно их собственному способу представления) между совершенно чувственным вогулом, который лапу медвежьей шкуры утром кладет себе на голову с короткой молитвой: «Не убей меня до смерти!» – и утонченными пуританами и индепендентами в Коннектикуте есть, правда, значительное различие в манере веровать, но отнюдь не в принципе. Ведь что касается последнего, то все они принадлежат к одному и тому же классу, а именно к классу таких людей, которые свое служение Богу полагают в том, что само по себе не делает никого из них лучшим (вера в известные статутарные положения или исполнение произвольной обрядности). Лишь те, кто думает найти истинное служение в умонастроении благого образа жизни, отличаются от упомянутых выше людей, поскольку переходят к совершенно иному, более возвышенному, чем первый, принципу. В последнем его приверженцы познают себя членами (невидимой) церкви, которая обнимает всех благомыслящих и которая по своему существенному свойству одна только и может быть истинно всеобщей.
Направить невидимую силу, повелевающую судьбой людей, к их выгоде – намерение, которое присуще всем людям. Лишь о том, как приступить к его осуществлению, они думают различно. Если эту силу они считают разумным существом и, следовательно, приписывают ей волю, от которой ожидают решения своей участи, то их стремление может состоять исключительно в выборе способа, которым они, как подвластные его воле существа, в своем поведении могут стать ему угодными. Если же они мыслят его как существо моральное, то с помощью своего собственного разума легко убеждаются в том, что условием приобретения его благоволения должен быть только их морально благой образ жизни и прежде всего чистый образ мыслей как субъективный принцип последнего. Но высшее существо, по-видимому, все-таки может желать, помимо этого, служения в такой форме, которая не бывает известна нам только через разум, а именно служения посредством действий, которые как таковые нельзя, правда, сами по себе считать моральными, но которые тем не менее – или как предписанные им, или с целью выказать ему нашу покорность – произвольно приняты нами. В обоих вышеуказанных способах действия, если они составляют единое систематически упорядоченное целое, люди, стало быть, полагают служение Богу вообще.
Если оба способа должны быть соединены, то или непосредственно их совокупность, или каждый в отдельности как средство для другого, играющего в этом случае роль собственно служения Богу, будут считаться способом угодить последнему. Само собой ясно, что моральное служение Богу (officium liberum) ему непосредственно угодно. Однако его нельзя признать высшим условием всякого божественного благоволения к людям (которое уже заключено в понятии моральности), если и служение за награду (officium mercenarium) можно рассматривать как единственно само по себе угодное Богу, ибо тогда никто не знал бы, какое именно служение в данном случае предпочтительнее (чтобы соответственно с этим составить суждение о своем долге) или каким образом они могли бы восполнить друг друга. Таким образом, поступки, сами по себе не имеющие никакого морального значения, допустимы лишь постольку, поскольку они служат средством для содействия тому, что в поступках непосредственно является благим (для нравственности), т. е. допустимы ради морального служения Богу как ему угодные.
Человек, который поступки, сами по себе не содержащие ничего угодного Богу (морального), все же использует как средство приобрести непосредственное божественное благоволение и тем самым добиться исполнения своих желаний, – находится в плену иллюзии обладания искусством производить совершенно естественными действиями сверхъестественное влияние. Подобные попытки принято называть колдовством, но это слово (поскольку оно привносит побочное понятие общения со злым принципом, тогда как эти попытки могут мыслиться все же предпринятыми с благой моральной целью, но по недоразумению) мы предпочли бы заменить общеизвестным словом фетишизация. Сверхъестественным действием человека можно считать такое, которое лишь потому возникает в его мыслях, что он якобы воздействует на Бога и пользуется им как средством произвести в мире такие изменения, для которых его силы и даже, быть может, его проницательность в отношении угодности этих перемен также и Богу сами по себе недостаточны. Все это заключает нелепость уже в своем понятии.
Обычно человек с помощью того, что непосредственно делает его предметом божественного благоволения (с помощью деятельной расположенности к доброму образу жизни), старается еще, придерживаясь известных формальностей, стать достойным восполнения своей неспособности посредством сверхъестественного содействия, оказывая в данном отношении уважение обрядам, которые хотя и не имеют никакого непосредственного значения, но служат все же средством содействия этому моральному образу мыслей. Если же он, кроме того, полагает, что для достижения объекта своих благих моральных желаний ему достаточно только воспринимать, то хотя он и рассчитывает на нечто сверхъестественное для восполнения своей естественной неспособности, но не как на нечто содеянное человеком (в результате воздействия на божественную волю), а как на нечто им воспринимаемое, на что он может надеяться, но произвести чего он сам не в силах.
Если же поступки, сами по себе (насколько мы усматриваем) не содержащие ничего морально угодного Богу, все же, по мнению этого человека, должны служить средством и даже условием, при котором можно ожидать непосредственно от Бога исполнения своих желаний, – то такой человек находится под влиянием заблуждения, будто он, не обладая ни физической способностью, ни моральной восприимчивостью для такого сверхъестественного дела, может тем не менее осуществить его естественным, но не имеющим ничего общего с моральностью способом (для применения которого не нужно иметь богоугодного образа мыслей, поскольку способ этот равно доступен наихудшему и наилучшему человеку) – а именно: произнося формулы призывания Бога, исповедуя ожидающую вознаграждения веру, соблюдая церковные обряды и т. п. – и таким образом словно волшебством обеспечить себе божественное содействие. Ведь между чисто физическими средствами и морально-действующей причиной нет связи по какому-либо закону, который разум мог бы помыслить и по которому последняя могла бы с помощью первых быть представлена как предназначенная для известных действий.
Итак, тот, кто предпосылает (в качестве необходимого для религии) соблюдение статутарных, нуждающихся в откровении законов, и притом не только как средство обрести моральный образ мыслей, но и как объективное условие превращения в непосредственно угодного Богу человека, и предпочитает эту историческую веру стремлению к доброму образу жизни (вместо того, чтобы первую, как нечто лишь условным образом угодное Богу, сообразовать с последним как угодным ему во всяком случае), – тот превращает служение Богу в сотворение фетишей и занимается лжеслужением, которое перечеркивает любую подготовку к истинной религии. Если нужно соединить две хорошие вещи, то как много зависит от порядка, в котором их соединяют!
В этом отличии и состоит истинное просвещение. Служение Богу впервые становится свободным и, значит, моральным служением. Но если от него отходят, то вместо свободы чад божьих на человека возлагают иго закона (статутарного), который, принуждая безусловно веровать в нечто известное лишь исторически и потому не могущее быть убедительным для каждого, – является для совестливого человека куда более тяжким игом[81]81
«Иго благо и бремя легко» – когда долг, обязательный для каждого, можно рассматривать как возложенный на человека им же самим и при содействии своего собственного разума. Долг этот, стало быть, принимается вполне добровольно, но такого рода бывают лишь моральные законы как божественные заповеди, о которых основатель чистой церкви мог сказать: «мои заповеди не тяжки». Этим он хотел выразить лишь то, что они не обременительны, ибо каждый сам сознает необходимость их исполнения, и, следовательно, ему ничто не навязывается; между тем деспотически-предписанные, пусть и для нашего блага (но не нашим разумом) возложенные на нас распоряжения, от которых мы не можем видеть никакой пользы, подобны издевательству (мучению), которому подчиняются только по принуждению. Но сами по себе поступки, взятые в чистоте их источника и совершенные по предписанию этих моральных законов, поистине достаются человеку тяжелее всего, и взамен он охотно принял бы на себя труднейшие благочестивые епитимьи, лишь бы их можно было поставить в счет вместо первых.
[Закрыть], нежели весь хлам благочестивых обрядов, которые достаточно исполнять, чтобы жить в полном согласии с учрежденным церковным общежитием. В последнем случае никому не нужно в своем вероисповедании внутренним или внешним образом признавать общежитие основанным Богом учреждением; ведь это действительно обременило бы совесть.
Поповство, следовательно, является институтом церкви поскольку в ней господствует служение фетишу, всегда встречающееся там, где основу и существо служения Богу образуют не принципы нравственности, а статутарные заповеди, правила веры и обряды. Хотя и существует ряд форм церкви, в которых сотворение фетишей столь разнообразно и столь механично, что, по-видимому, вытесняет всякую моральность, а значит, и религию, и должно заступить их место, тем самым подходя весьма близко к язычеству, – но дело не сводится на «более» или «менее» там, где достоинство или недостоинство покоится на свойствах высшего повелевающего принципа. Если, согласно последнему, послушное подчинение догмату возлагается как рабская служба, а не как свободное почитание, подобающее высшему закону, то, сколь бы немногочисленны ни были возлагаемые обрядности – достаточно, если будет обоснована их безусловная необходимость, – это все равно будет вера в фетиши, которая управляет большинством и, подчиняя его церкви (а не религии), лишает моральной свободы.
Церковное устройство (иерархия) может быть монархическим, аристократическим или демократическим – это касается только организации. Но ее основообразующий принцип во всех этих формах всегда остается деспотическим. Где статуты веры причисляются к основному закону, там господствует клир, полагающий, что он легко может обойтись без разума и в конце концов даже без богословской учености, ибо он – как единственно компетентный хранитель и истолкователь воли незримого законодателя – обладает авторитетом исключительного распорядителя предписаниями веры и, следовательно, будучи облечен этой властью, может не убеждать, а просто повелевать.
Поскольку вне этого клира все прочие люди – только миряне (не исключая и верховного главы политической общности), то церковь в конечном счете господствует и в государстве, не применяя, правда, насилия, но воздействуя на души, да еще и выставляя ту пользу, которую государство может извлечь из безусловного повиновения – ведь к последнему духовная дисциплина приучает даже мышление народа. В результате привычка к лицемерию незаметно подрывает честность и верность подданных, приучает их только к внешнему служению даже при исполнении гражданских обязанностей и, как все ложно принятые принципы, создает прямо противоположное тому, что было замыслено.
* * *
Все это – неизбежное следствие кажущегося на первый взгляд нимало не сомнительным перемещения принципов единоспасающей религиозной веры, причем дело сводится к тому, какому из двух принципов следует отдать предпочтение как высшему условию (которому подчинялось бы второе). Справедливо и разумно признать, что не только «мудрые по плоти», ученые или вообще люди разумные призваны к этому просвещению ради истинного его блага – ибо это верование должно быть доступно всему роду человеческому, – но и «немудрое мира». Даже невежественный и самый ограниченный в понятиях человек должен иметь возможность притязать на подобное поучение и внутреннее убеждение. Может показаться, что историческая вера – преимущественно в том случае, если понятия, которыми она пользуется, дабы объяснить события, вполне антропологичны и весьма приспособлены к чувственному восприятию, – по-видимому, прекрасно для этого подходит. Действительно, что может быть легче, чем воспринять такой простой и составленный в расчете на чувства рассказ и сообщить его другим или повторять слова о тайнах, с которыми нет необходимости соединять какой-либо смысл? Как легко подобные повествования, особенно при обещаемой ими внимательности, повсюду находят доступ и как глубоко коренится вера в их истину, если они к тому же основаны на документах, уже продолжительное время признаваемых подлинными! Такая вера, конечно, соответствует самым заурядным человеческим способностям. Но хотя сообщения об этих событиях, равно как и вера в основанные на них правила поведения не могут быть достоянием только или преимущественно ученых и мудрецов, последних тем не менее нельзя сбрасывать со счета. Именно в их среде и возникают многочисленные сомнения (отчасти в отношении смысла, в котором следует понимать их изложение), сводящиеся к тому, что признавать веру, подверженную стольким (пусть и лишенным задних мыслей) возражениям, высшим условием всеобщей и единственно душеспасительной веры – это величайшая нелепость, какую только можно придумать.
Существует, впрочем, и практическое познание, которое, хотя оно основывается исключительно на разуме и не нуждается ни в каком историческом учении, тем не менее столь близко любому, даже самому простому человеку, словно буквально начертано в его сердце. Это закон, который стоит лишь назвать, чтобы тотчас же согласиться с каждым в уважении к нему, и который вносит в сознание каждого безусловную обязательность, именуемую нравственным законом. Более того, это познание или уже само по себе ведет к вере в Бога, или по меньшей мере одно определяет его понятие как понятие о моральном законодателе; следовательно, оно ведет к истинной религиозной вере, которая не только понятна каждому человеку, но и в высшей степени достойна его уважения. В то же время к этой вере оно приводит столь естественно, что стоит сделать опыт, и станет очевидным, что чистую религиозную веру во всей ее полноте можно узнать от любого человека, хотя бы он этому вовсе не учился. Стало быть, начинать с чистой религиозной веры и лишь затем переходить к исторической вере, которая с ней гармонирует, не только разумно, но является прямым долгом возводить первую в ранг высшего условия, при котором мы можем надеяться стать причастными спасению. Последнее, правда, нам всегда может обещать историческая вера, но лишь при условии, что мы имеем возможность или право признать ее авторитет общеобязательной веры только в том значении, какое придает ему чистая религиозная вера (т. е. постольку, поскольку она содержит общезначимое учение). Вместе с тем морально-верующий открыт и для исторической веры, поскольку он находит ее полезной для оживления своего чистого религиозного образа мыслей. И только в последнем случае эта вера приобретает чисто моральное значение, ибо она свободна и не вынуждается никакой угрозой (иначе она никогда не может быть искренней).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































