Текст книги "Доказательство бытия Бога"
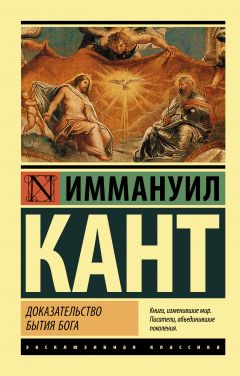
Автор книги: Иммануил Кант
Жанр: Литература 18 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Часть вторая
О борьбе доброго принципа со злым за господство над человеком
Для того чтобы стать морально-добрым человеком, еще недостаточно безостановочно развивать то зерно добра, которое заложено в нашем роде, но надо бороться и с противодействующими причинами зла, находящимися в нас, на что среди старых моралистов указывали главным образом стоики в их обычном лозунге: добродетель — которая (как в греческом, так и в латинском языке) обозначает мужество и храбрость и, следовательно, предполагает врага.
В этом отношении имя добродетели — превосходное имя, и ему не может повредить даже то, что им часто хвастливо злоупотребляют и вышучивают его (как недавно вышучивали слово просвещение).
Взывать к мужеству – это уже наполовину значит внушать его. Напротив, ленивый, часто сам себе не вполне доверяющий и полагающийся на чужую помощь, малодушный образ мышления (в морали и религии), расслабляет все силы человека и делает его даже недостойным этой помощи.
Но эти смелые люди все же не видели своего врага, которого надо было искать не в естественных, сплошь недисциплинированных, но зато открыто проявляющихся в сознании каждого склонностях, а искать надо было как бы невидимого, прячущегося за разумом врага, который именно поэтому тем более опасен. Они вызывают мудрость на бой с глупостью, которая по непредусмотрительности позволяет склонностям обманывать себя – вместо того чтобы призывать ее против злостности (человеческого сердца), которая потихоньку хоронит своими пагубными для души принципами моральный образ мыслей[33]33
Эти философы заимствовали свой всеобщий моральный принцип от достоинства человеческой природы, от свободы (как независимости от силы склонностей). Ничего лучшего и более благородного они и не могли положить в его основу. Моральные законы они черпали теперь уже непосредственно из разума, только таким образом законодательствующего и через эти законы безусловно повелевающего. И все казалось вполне правильным как объективно, поскольку дело шло о правилах, так и субъективно, поскольку оно касалось побуждений, если человеку придавали неиспорченную волю, дабы он без колебаний принял эти законы в свои максимы. Но в последнем предположении заключалась ошибка. Ибо, как только мы получаем возможность обратить внимание на наше нравственное состояние, мы находим, что это уже больше не res integra, и мы должны начинать с того, чтобы изгнать зло, которое уже занимает свое место (чего оно не могло бы сделать, если бы мы не приняли его в свои максимы), из его владений, т. е. первое истинное благо, которое может совершить человек, – это уйти от зла, которое нужно искать не в склонностях, но в извращенных максимах и, следовательно, в самой свободе. Склонности лишь затрудняют исполнение противоположных им добрых максим. Но собственно зло состоит в том, что этим склонностям, когда они побуждают к нарушению закона, не хотят противодействовать. И этот-то образ мыслей и есть, собственно, наш истинный враг. Склонности – только враг принципов вообще (они могут быть добрыми или злыми), и постольку этот благородный принцип моральности выгоден как предварительное упражнение (дисциплина склонностей) в послушании субъекта правилам. Но поскольку должны существовать специфические правила нравственно-доброго — а их все же, как максим, здесь нет, – то нужно предполагать другого их противника в субъекте, с которым должна вести войну та добродетель, без которой все добро становится если не блестящими пороками, как говорил Отец церкви, то блестящим убожеством, так как посредством этого часто усмиряется мятеж, но сам мятежник никогда не бывает побежден и уничтожен.
[Закрыть].
Естественные склонности, рассматриваемые сами по себе, добры, т. е. приемлемы, и было бы не только напрасно, но в то же время вредно и достойно порицания пытаться искоренить их; скорее их следует только укрощать, – дабы они не истощили друг друга в борьбе, но могли быть приведены к соответствию в одном целом, которое именуется блаженством. Разум, который создает это, называется благоразумием. Только морально противозаконное само по себе зло, а следовательно, неприемлемо и должно быть искоренено. Разум же, который учит этому, особенно когда он применяет указанное правило к делу, один заслуживает названия мудрости. В сравнении с ней порок хотя и можно называть глупостью, но лишь тогда, когда разум чувствует в себе достаточно силы, чтобы презирать его (и все побуждения к нему), а не ненавидеть как некое чересчур страшное существо и потому вооружаться против него.
Если, следовательно, стоик представлял себе моральную борьбу человека только как спор со своими (самими по себе невинными) склонностями, поскольку их следует одолеть как препятствия в исполнении своего долга, то он мог – поскольку он не признает никакого особого позитивного (в себе злого) принципа – видеть причину нарушения закона только в том упущении, что с ними не боролись. А так как это упущение само противно долгу (как его нарушение), но не является просто ошибкой природы, то его надо искать не вновь (чтобы опять не впасть в логический круг) в склонностях, а лишь в том, что определяет произволение как свободное (во внутренней первооснове максим, находящихся в соглашении со склонностями); поэтому вполне можно понять, каким образом философы – для которых основа рассуждений вечно пребывает окутанной тьмой[34]34
Вполне обычным является предположение моральной философии, что существование нравственно-злого в людях легко объяснить, с одной стороны, силой побуждений чувственности, а с другой – бессилием побуждений разума (уважения к закону), т. е. слабостью. Но тогда нравственно-доброе (в моральном задатке) можно было бы объяснить в человеке еще легче, ибо постижимость одного немыслима без постижимости другого. Однако в данном случае способность разума лишь в идее закона подниматься над всеми противодействующими побуждениями совершенно необъяснима. Непостижимо, стало быть, и то, как чувственные побуждения могут брать верх над разумом, повелевающим с такой строгостью. Если бы весь мир поступал соответственно предписанию закона, то можно было бы сказать, что все происходит по естественному порядку, и никому не пришло бы в голову спрашивать о его причине.
[Закрыть] и, хотя неизбежна, отнюдь не желательна – могли не узнать настоящего противника добра, с которым они, по их мнению, вели борьбу.
Нас, следовательно, не должно удивлять, что апостол представляет этого невидимого, распознаваемого лишь по его влиянию на нас и губящего первоосновы врага как нечто существующее вне нас и притом как злого духа: «Мы должны бороться не с плотью и кровью (естественными склонностями), но с князьями и властителями – со злыми духами». Это высказывание рассчитано, по-видимому, не на то, чтобы расширить наше познание за пределы чувственного мира, но лишь на то, чтобы сделать понятие о непостижимом для нас наглядным для практического применения, – хотя, впрочем, в отношении последнего для нас безразлично, полагаем ли мы искусителя только в нас самих или вне нас, потому что и в последнем случае виновность наша нисколько не меньше, чем в первом: ведь этот дух не смог бы соблазнить нас, если бы мы не были с ним в тайном соглашении[35]35
Своеобразная особенность христианской морали: нравственно-доброе представляется отличающимся от нравственно-злого не так, как отличается небо от земли, но так, как небо – от ада; это представление, хотя оно и картинно, картинность же его отвратительна, тем не менее по своему смыслу с философской точки зрения вполне правильно. А именно оно служит предостережением, чтобы добро и зло, царство света и царство тьмы не мыслились как граничащие друг с другом и через ступени (большей или меньшей святости) постепенно сливающиеся воедино, а представлялись отделенными друг от друга неизмеримой пропастью. Совершенная разнородность начал, подданными которых можно быть в том или другом из этих двух царств, а к тому же и опасность, связанная с воображением о близком родстве свойств, которые определяют принадлежность к тому или другому из них, оправдывают и этот способ представления, который при всех содержащихся в нем ужасах все же весьма возвышен.
[Закрыть]. Мы хотим все эти соображения поделить на два раздела.
О притязании доброго принципа на господство над человеком
Единственное, что может сделать мир предметом божественного воления и целью творения, – это человечество (мир разумных существ вообще) в его полном моральном совершенстве, из которого, как высшего условия, блаженство является непосредственным следствием в воле высшего существа.
Лишь этот единственно богоугодный человек «есть в нем от века». Его идея проистекает из самого его существа. Постольку он – не сотворенная вещь, но единородный сын Божий. «Слово (да будет!), посредством которого существуют все другие вещи и без которого не существует ничто из сотворенного». (Ведь все создано ради него, т. е. ради разумного существа в мире, – так, как его можно мыслить по его моральному определению.) «Он – отблеск его величия». «В нем Бог возлюбил мир», и только в нем и посредством усвоения его образа мыслей можем мы надеяться «быть чадами Божьими» и т. д.
Возвышаться к этому идеалу морального совершенства, т. е. к первообразу нравственного убеждения во всей его чистоте, – это общечеловеческий долг, силы для исполнения которого может дать нам и сама эта идея, поставленная перед нами разумом в качестве объекта стремления. Но именно поэтому – поскольку она создана не нами, но занимает в человеке определенное место, хотя мы и не понимаем, каким образом природа человеческая может обладать восприимчивостью и по отношению к ней, – можно сказать, скорее, что этот первообраз сошел к нам с неба, что он воспринял человечность, потому что то, как от природы злой человек сам собой отвергает зло и возвышается к идеалу святости, нельзя представить себе столь же легко, как то, что последний воспринимает в себя человечность (которая сама по себе не зла) и сам нисходит к ней. Это объединение с нами можно, следовательно, рассматривать как уничижение сына божьего, если мы представляем себе этого божественно-мыслящего человека как первообраз для нас так, что он, будучи святым и в силу этого не обреченным на перенесение страданий, все же принимает их на себя в наибольшей мере, дабы содействовать улучшению мира. Напротив, человек (который никогда не свободен от вины, – даже если бы он и воспринял подобный образ мыслей) на страдания, которые могут постигнуть его, на каком бы пути он ни был, может смотреть как на заслуженные им и, стало быть, должен считать себя недостойным объединения своего образа мыслей с подобной идеей, хотя она и служит ему первообразом.
Идеал угодной Богу человечности (следовательно, такого морального совершенства, какое только возможно для существа, зависящего от своих потребностей и склонностей) мы можем мыслить только в идее человека, который не ограничивается исполнением всего своего человеческого долга, посредством учения и примера распространяя вокруг себя добро в возможно большем объеме, но, хотя его искушают величайшие соблазны, все же готов принять на себя все страдания вплоть до позорнейшей смерти – ради блага мира и даже ради своих врагов. Человек не может составить себе понятия о степени и энергии той силы, которая заключается в моральном образе мыслей, иначе как представляя ее все-таки побеждающей в борьбе с препятствиями и среди всевозможных искушений.
Только в практической вере в этого сына Божьего (поскольку он представляется так, как если бы он принял человеческую природу) человек может надеяться стать угодным Богу (и таким образом блаженным); т. е. тот, кто осознал в себе такой моральный образ мыслей, что может веровать и полагаться на самого себя с полным основанием, останется и в подобных искушениях и страданиях (так, как они созданы в виде пробного камня для этой идеи) неизменно преданным первообразу человечности и, в верном следовании ему, подобным его примеру. Такой человек, и только он один, имеет право считать себя тем, кто не совсем не достоин божественного благоволения.
В практическом отношении эта идея обладает реальностью полностью в себе самой, поскольку она присуща нашему морально законодательствующему разуму. Мы должны соответствовать ей, а потому должны мочь сделать это.
Если бы возможность для человека соответствовать этому прообразу нужно было предварительно доказать, как это неизбежно нужно при понятиях о природе (причем мы не избегаем опасности, что нас введут в заблуждение пустые понятия), – то мы могли бы усомниться в том, следует ли признать даже за моральным законом такое значение, чтобы он мог быть безусловным и притом достаточным основанием определения нашего произволения. Ибо каким образом возможно, чтобы простая идея закономерности вообще могла быть для человека более сильным побуждением, чем прочие, проистекающие из выгод? Этого нельзя ни познать с помощью разума, ни подтвердить примерами опыта, поскольку то, что касается первого, закон повелевает безусловно, а что касается второго, то – если бы даже никогда не существовало ни одного человека, который оказал бы этому закону безусловное повиновение, – объективная необходимость быть именно таким для человека все же не станет меньше и будет явной сама по себе. Следовательно, нет нужды ни в каком примере опыта, чтобы сделать для нас образцом идею морально угодного Богу человека. Она как таковая уже заложена в нашем разуме. Тот же, кто – чтобы признать человека таким соответствующим идее примером для подражания – требует, чтобы удостовериться, еще чего-то большего, чем он видит, т. е. большего, чем безукоризненный и даже, насколько этого можно требовать, полный заслуг образ жизни, – кто сверх этого требует еще и чудес, которые совершались бы через него или для него, тот тем самым исповедует и свое моральное неверие, а именно недостаток веры в добродетель, которую нельзя заменить доказательствами веры, основанной на чуде (ибо она бывает только исторической), потому что моральную ценность имеет только вера в практическую значимость этой идеи, заложенной в нашем разуме (которая одна лишь, во всяком случае, свидетельствует о чудесах такого рода, которые могут возникать из доброго принципа, но она не может заимствовать от них своего подтверждения).
Именно поэтому должен быть возможен опыт, в котором мог бы быть дан пример такого человека (настолько, насколько от внешнего опыта вообще можно ждать и желать доказательств внутреннего нравственного образа мыслей), ибо, согласно закону, каждый человек по справедливости должен явить собой пример этой идеи. Первообраз для этого всегда пребывает только в разуме, поскольку разуму никакой пример во внешнем опыте не адекватен, так как не раскрывает, что таится в глубинах образа мыслей, а позволяет лишь сделать о нем заключение, хотя и без строгой достоверности (так как даже внутренний опыт человека самого по себе не позволяет ему настолько проникнуть в глубины своего сердца, чтобы он мог выяснить основы своих максим, которые он признает, и посредством самонаблюдения получить определенное представление об их чистоте и устойчивости).
Если бы такой поистине божественно-мыслящий человек в известное время сошел на землю словно с небес и в своем учении, образе жизни и страданиях дал пример богоугодного человека как такового (an sich), насколько этого только можно желать от внешнего опыта (хотя прообраз такого человека все же нельзя искать нигде, кроме нашего разума), – то он произвел бы всем этим необозримо великое благо в мире, совершив революцию в роде человеческом. Но даже тогда мы все же не имели бы причины признавать в нем что-либо иное, кроме естественно рожденного человека (ведь и такой человек тоже чувствует себя обязанным самому явить подобный пример), хотя этим еще не отрицается то, что он мог бы быть и человеком сверхъестественного происхождения. В практическом отношении последнее предположение не может принести никакой выгоды, ибо первообраз, который мы кладем в основу этого явления, всегда нужно искать в нас самих (хотя мы и обычные люди). Его существование в человеческой душе уже само по себе достаточно непостижимо, чтобы нужно было, кроме признания его сверхъестественного происхождения, гипостазировать этот первообраз в одном человеке. Скорее возвышение подобного святого над всей тленностью человеческой природы будет препятствием на пути практического применения его идеи в нашем подражании ему во всем, что только мы сможем усмотреть. Ведь даже если мыслить природу этого богоугодного человека в такой мере человеческой, чтобы представлять его с теми же самыми потребностями – а следовательно, и с теми же страданиями, с теми же естественными склонностями, а значит, и с теми же искушениями нарушить закон, – которыми мы обременены, но вместе с тем мыслить ее в такой степени сверхчеловеческой, что не приобретенная, а прирожденная неизменяемая чистота воли делает для него безусловно невозможным никакое отступление от закона, – то вследствие этого отличие его от естественного человека было бы столь бесконечно великим, что божественный человек уже не мог бы служить примером для естественного человека. Последний сказал бы: если дадут мне совершенно святую волю, то все искушения ко злу сами собой об меня разобьются; если дадут мне внутреннюю полнейшую уверенность в том, что после непродолжительной земной жизни я (в силу этой святости) должен буду сделаться участником совершенного и вечного величия небес, – то все страдания, как бы тяжелы они ни были, вплоть до позорнейшей смерти, я приму на себя не только охотно, но и с радостью, ибо я своими глазами вижу перед собой великолепный и близкий исход. Правда, мысль о том, что этот божественный человек в действительности от века обладал подобной высотой и блаженством (и отнюдь не заслужил их своими страданиями), что он охотно по доброй воле жертвовал ими ради недостойных и даже своих врагов, дабы спасти их от вечной гибели, должна возвышать наш дух до удивления, любви и благодарности к нему. Однако если идея поведения согласно столь совершенным правилам нравственности безусловно имеет для нас значение как предписание к подражанию, то сам он не может быть представляем нами как пример подражания, а стало быть, и как доказательство возможности и достижимости столь высокого и чистого морального блага для нас[36]36
В этом, безусловно, сказывается та ограниченность человеческого разума, которую вряд ли когда-нибудь можно из него устранить, – а именно: мы не способны помыслить никакой морально значимой ценности в деяниях личности, не представляя ее или ее деяния чисто человеческим образом, хотя этим отнюдь не утверждается, что и (κλτεaληϑειav) все обстоит именно так. Чтобы сделать сверхчувственные свойства постижимыми для нас, мы всегда нуждаемся в известной аналогии с естественными существами. Так, поэт-философ возводит человека, поскольку тому приходится бороться со склонностью ко злу в себе – уже потому только, что он сумел ее превозмочь, – в высший ранг моральной иерархии существ, даже выше, чем небожителей, в силу святости своей природы защищенных от любого возможного соблазна (мир с его недостатками… лучше, чем царство ангелов. Галлер). К этому способу представления приноравливается и Писание, дабы сделать для нас понятной во всем ее величии любовь Бога к роду человеческому, приписывая ему высшую жертву, на какую только может пойти любящее существо, лишь бы сделать этот род счастливым даже при всей его недостойности («Так возлюбил Бог мир» и т. д.). Вместе с тем мы все же неспособны с помощью разума составить себе понятие о том, как всеблагое существо может пожертвовать чем-либо из принадлежащего его блаженству и лишить себя обладания этим. Это схематизм аналогии (для объяснения), без которого мы не можем обойтись. Но превращать его в схематизм определения объекта (в целях расширения нашего познания) – это антропоморфизм, который в моральном отношении (в религии) приносит самые вредные последствия. Здесь я хочу только мимоходом заметить, что при восхождении от чувственного к сверхчувственному, разумеется, возможно схематизировать (делать понятие постижимым по аналогии с чем-либо чувственным), но по аналогии с тем, что присуще первому, безусловно нельзя заключать, что оно должно быть также присуще и последнему (и тем самым расширять его понятие). Для этого имеется самое простое основание. Такой вывод был бы против всякой аналогии, ибо он – так как мы неизбежно пользуемся схемой для понятия, чтобы сделать его постижимым для нас (доказать примером), – пришел бы к тому следствию, что и схема необходимо принадлежит предмету как его предикат. А именно я не могу сказать: так как я не могу сделать для себя понятной причину растения (или любого органического создания и вообще целесообразно устроенного мира) иначе как только по аналогии с мастером в отношении к его творению (например, к часам), именно потому, что я придаю этой причине рассудок, – то и сама причина (растения, мира вообще) должна иметь его; т. е. придавать ей рассудок – это не только условие моего понимания, но даже и ее возможности быть причиной. Но между отношением схемы к ее понятию и отношением этой схемы понятия к самой вещи существует вовсе не аналогия, а огромный скачок (µετaβaσιζ ειζαλλo γεvoζ), который приводит прямо к антропоморфизму, что я доказал в другом месте.
[Закрыть].
Но тот же самый божественно-мыслящий, хотя при этом вполне человеческий учитель тем не менее мог бы с полной истиной говорить о себе, что в нем идеал добра был воплощен реально – в учении и образе жизни. Тогда он имел бы в виду только образ мыслей, который он делает правилом своих действий, но который, имея возможность сделать его очевидным примером для других, а не для себя, он представляет внешним образом в своем учении и своих действиях: «Кто из вас может обличить меня в грехе?» Однако вполне справедливо безукоризненный пример учителя в том, чему он учит, поскольку и без того это для каждого является долгом, не ставить в заслугу одному лишь чистейшему образу мыслей учителя, если нет никаких доказательств противного. Подобный образ мыслей – со всеми страданиями, принятыми на себя ради блага мира, – мыслимый с точки зрения идеала человечности, будет в таком случае для всех людей во все времена и во всех мирах исполнен высшей справедливости, если человек, как ему и должно, уподобит ему свой собственный. Этот высший образ мыслей будет, конечно, всегда представлять такую справедливость, которой мы не способны достигнуть, поскольку она должна состоять в жизненном поведении, полностью и безошибочно соответствующем указанному образу мыслей. Тем не менее все же должно быть возможным известное усвоение первого ради последней, в особенности если она объединяется с образцовыми для нас убеждениями, хотя сделать его постижимым – задача, сопряженная с великими трудностями, на которые мы теперь и хотим указать.
Первая трудность, которая делает сомнительной достижимость этой идеи о богоугодной человечности в нас по отношению к святости законодателя при недостатке нашей собственной справедливости, заключается в следующем. Закон гласит: «Будьте святы (в вашем жизненном поведении), как свят Отец ваш на небесах». Вот это и есть идеал сына Божьего, который явлен нам как прообраз. Но отделение добра (к которому мы внутренне должны стремиться) от зла (из которого мы исходим) – бесконечно и, поскольку это касается действия, т. е. соответствия жизненного поведения святости закона, никогда не достижимо. И все же нравственные качества человека должны сообразовываться с ней. Эти нравственные качества следует полагать, следовательно, в образе мыслей, в общих и чистых максимах соответствия поведения закону, как в зародыше, из которого должно развиться все доброе; а этот образ мыслей исходит из того священного принципа, который человек принял в свою высшую максиму. Подобная перемена нравов также должна быть возможной, поскольку это его долг. Затруднение в данном случае состоит в том, какое значение образ мыслей мог бы иметь для деятельности, которая всегда (не вообще, но в каждый данный момент времени) недостаточна. Разрешение данного затруднения основывается на том, что образ мыслей, как постоянное движение вперед от не вполне доброго к лучшему, по нашей оценке, – где мы в понятиях отношения причин и следствий неизбежно ограничены временными условиями – всегда остается неудовлетворительным. Таким образом, добро в явлении, т. е. по действию, мы всегда должны оценивать в нас как недостаточное по отношению к священному закону. Вместе с тем можно полагать, что сердцевед с помощью чисто интеллектуального созерцания, ради образа мыслей, который носит сверхчувственный характер и из которого выводится это бесконечное продвижение к соответствию с законом, будет рассматривать указанное продвижение как законченное целое также и по действию (жизненному поведению)[37]37
Следует заметить, что это отнюдь не означает, будто образ мыслей должен служить восполнением недостатка соответствия долгу, а следовательно, как бы возмещением реального зла в этом бесконечном ряду приближений (скорее нужно предполагать, что угодное Богу моральное свойство человека в данном образе мыслей действительно находится); это значит, что образ мыслей, занимающий место целокупности этого ряда бесконечно идущих вперед приближений, лишь возмещает недостаток, вообще не отделимый от бытия существа во времени, – а именно невозможность для человека когда-либо быть вполне тем, чем он намерен стать в своем понятии. Что же касается возмещения за нарушения закона, происходящие в ходе этого продвижения, то оно будет принято во внимание при разрешении третьего затруднения.
[Закрыть]. Стало быть, человек, несмотря на свое постоянное несовершенство, все-таки мог бы ожидать, что он будет вообще угоден Богу, в какой бы момент времени ни оборвалось его существование.
Второе затруднение, которое обращает на себя внимание, если рассматривать стремящегося к добру человека применительно к этому моральному добру в отношении последнего к божественной благости, – касается морального блаженства, под которым здесь понимается не обеспечение постоянного обладания довольством в физическом состоянии человека (освобождение от бед и наслаждение постоянно возрастающим удовольствием), т. е. обеспечение не физического блаженства, но действительности и постоянства непрерывно продвигающегося к добру (и никогда не отклоняющегося от этого пути) образа мыслей. Ведь непреклонное «стремление к Царству Божьему» – при условии твердой уверенности в неизменности подобного образа мыслей — явило бы собой столь же много, как и сознание уже наступившей сопричастности этому Царству, ибо таким образом настроенный человек обладал бы внутренней уверенностью, что ему «все остальное (что касается физического блаженства) приложится».
Хотя человеку, озабоченному указанным затруднением, и можно было бы указать, что «его (Бога) дух свидетельствует духу нашему» и т. д. – т. е. что обладающий таким чистым образом мыслей, как требуется, будет обладать уже и внутренним чувством невозможности для него когда-либо пасть столь низко, чтобы вновь пристраститься ко злу, – однако полагаться на подобные мнимые и к тому же сверхчувственного происхождения ощущения весьма рискованно. Нигде так легко не ошибаются, как в том, что льстит нашему доброму мнению о себе самих, и, кажется, было бы едва ли разумно поощрять такую уверенность. Гораздо полезнее (для моральности) «совершать свое спасение со страхом и трепетом» (суровые слова, которые, если их неверно понимают, могут привести к самому мрачному фанатизму). Но и без всякого доверия к своему однажды усвоенному образу мыслей вряд ли возможно сколько-нибудь настойчиво и впредь продвигаться по этому пути. А доверие, не предаваясь сладким или пугливым мечтаниям, проистекает из сравнения прежнего образа жизни с вновь принятым решением. Ведь человек, который со времени восприятия им принципов добра на протяжении достаточно долгой жизни, испытывал их воздействие на свои поступки, т. е. на свое постоянно улучшавшееся жизненное поведение, может все же, хотя улучшение образа жизни дает ему повод судить об основательности улучшения его образа мыслей лишь предположительно, питать разумную надежду на то, что – поскольку подобное продвижение, если только в нем заключен добрый принцип, все более увеличивает силу и далее двигаться в том же направлении – он в своей земной жизни никогда уже больше не оставит этого пути, но всегда и еще энергичнее будет следовать по нему вперед; что, далее, если после этой жизни ему предстоит еще и другая, он и при других обстоятельствах будет, по всей видимости, и дальше действовать согласно тому же самому принципу и постоянно приближаться к цели совершенства (которая, впрочем, недостижима), так как по тому, что он до того воспринял в себя, он имеет право судить о коренном улучшении своего образа мыслей. Напротив, тот, кто, постоянно стремясь к добру, все же не находил ни разу, что он тверд в нем, кто всегда вновь скатывался ко злу или на протяжении всей жизни должен был замечать по себе, что он, как бы по склону, все глубже и глубже скатывается ото зла к худшему, – не может питать никакой разумной надежды стать лучше, если бы даже продлилось его земное существование или ему была уготована будущая жизнь, поскольку подобные признаки он должен был бы расценивать как свидетельство неискоренимой уже порочности своего образа мыслей.
Итак, первое – это взгляд в необозримое, но желанное и счастливое будущее. Второе, напротив, – взгляд в тaкoe же необозримое бедствие, т. е. то и другое для людей, сообразно тому, что они способны рассудить, – взгляд в вечность, блаженную или несчастливую. Подобные представления, стало быть, достаточно могущественны, чтобы часть людей побуждать к обретению покоя и твердости в добре, а другую – к пробуждению судящей совести, дабы, насколько возможно, уязвить зло, причем совершенно не обязательно также и объективно предполагать вечность добра или зла применительно к судьбе человека как некий догматический тезис[38]38
К вопросам, из которых собеседник, даже если бы ему и могли на них ответить, все же не мог бы извлечь для себя ничего путного (и которые поэтому можно называть детскими вопросами), относится и такой: будут ли адские кары ограниченными во времени или вечными наказаниями? Если станут внушать первое, то можно опасаться, что некоторые (как все, верящие в огонь чистилища, или как матрос в «Путешествиях» Мура) скажут: «Но я надеюсь, что смогу их вытерпеть». Если же примут другое утверждение и внесут его в символ веры, то – вопреки присутствующему здесь благому намерению – это может породить надежду на полную безнаказанность после самой нечестивой жизни. Ибо в конце ее, в моменты позднего раскаяния, священник, призванный для совета и утешения, должен будет найти слишком жестоким и бесчеловечным возвестить ему вечное отвержение – и поскольку между этим отвержением и полным оправданием он не в состоянии установить ничего среднего (но или вечное наказание, или никакого вовсе), то он должен возбудить в человеке надежду на последнее; а это значит, что он может обещать ему быстрое перерождение в угодного Богу человека. И тогда, поскольку для вступления в новый образ жизни времени уже нет, в качестве средств обращения избирают покаянные исповеди, формулы веры и даже обещания начать новую жизнь при условии даже самой непродолжительной отсрочки конца настоящей. Такое следствие неизбежно, если вечность будущей судьбы, соответствующей проведенному на земле образу жизни, будет преподноситься как догмат, и человека не будут направлять к тому, чтобы он, исходя из своего предшествующего нравственного состояния, составил себе понятие о будущем и на этом основании сам сделал выводы, рассматривая следствия своей прошлой жизни как естественно из нее вытекающие. Ведь тогда необозримость ряда этих следствий при господстве зла будет оказывать на него то же моральное влияние (побуждать его случившееся, насколько это возможно, путем соответствующего исправления или замещения своих действий даже и в конце жизни, превратить в неслучившееся), какое можно ожидать от возвещенной ему вечности этого зла, но не будет при этом сопровождаться недостатками догматического представления о последней (на что, кроме того, не дает права ни усмотрение разума, ни толкование Писания), поскольку человек, злой в жизни, уже заранее рассчитывает на это легко достижимое прощение или в конце ее верит, что ему придется иметь дело только с притязаниями на него небесного правосудия, которое он удовлетворяет одними словами, в то время как права человека при этом оказываются совершенно пустыми и никто не получает своего (исход, настолько обычный для этого рода очищения от грехов, что о примере чего-либо противоположного почти не слышно). Однако беспокоиться о том, что разум его будет судить его посредством совести чересчур мягко, – это, как я полагаю, большая ошибка, и потому именно, что разум свободен и неподкупен, даже когда он должен судить самого человека. И если человеку в подобном положении скажут лишь, что ему вряд ли придется в скором времени держать ответ перед судьей, – то его вполне можно предоставить собственным размышлениям, которые, по всей вероятности, будут судить его по всей строгости. К этому
я хочу присоединить еще два замечания. Знакомым изречением «все хорошо, что хорошо кончается» хотя и можно пользоваться применительно к морали, но лишь в том случае, когда под хорошим концом понимается превращение человека в истинно-доброго на деле. Но каким образом человек может осознать себя в подобном качестве – ведь об этом можно судить только из вытекающего отсюда доброго жизненного поведения, для которого к концу жизни уже не остается времени? Скорее указанное изречение можно допускать в отношении блаженства, да и то лишь применительно к той точке, из которой он озирает свою жизнь, – т. е. применительно не к началу ее, но к концу, когда человек оглядывается назад. Пережитые страдания не оставляют никаких мучительных воспоминаний, если чувствуешь себя уже неподвластным им, но вызывают скорее веселое ощущение, которое делает только тем более полным наслаждение наступающим счастьем. Ибо наслаждения или страдания (как относящиеся к чувственности) заключены в ряду времени, с которым исчезают, и не составляют одного целого с существующим в данный момент наслаждением, но вытесняются им как последующим. Но если это положение применяется к суждению о моральном достоинстве прожитой до сих пор жизни, то человек может быть весьма неправ, считая, что он завершил ее вполне добрым поведением. Ведь морально субъективный принцип образа мыслей, по которому следует судить жизнь, не является (как нечто сверхчувственное) чем-то таким, чтобы его существование было делимо на периоды; оно может быть мыслимо только как абсолютное единство. А поскольку мы можем судить об образе мыслей только по поступкам (как его явлениям), то и жизнь человека в интересах этой оценки будет входить в соображение только как единство во времени, т. е. как целое. Тогда упреки за первую часть жизни (до ее улучшения) могли бы звучать столь же громко, как и одобрение последней, а триумфальный тон выражения: «все хорошо, что хорошо кончается» был бы значительно приглушен. Наконец, с этим учением о продолжительности наказаний в другом мире очень схоже, хотя и не тождественно, другое, а именно: что «все грехи здесь должны быть прощены», что с концом жизни счет должен быть
вполне закончен и никто не может надеяться, что упущенное здесь как-то наверстается в другом месте. В силу этого и данное положение столь же мало, как и предыдущее, может быть провозглашено догматом, но является лишь принципом, с помощью которого практический разум предписывает себе правила в применении его понятий о сверхчувственном, хотя он и довольствуется тем, что об объективных свойствах этого последнего ничего не знает. Оно значит лишь следующее: только из проведенного нами образа жизни можем мы заключить, угодные мы Богу люди или нет, и, поскольку образ жизни кончается вместе с самой жизнью, то и для нас подводится счет, итог которого единственно способен показать, можем ли мы считать себя оправданными. Вообще если бы мы вместо конститутивных принципов познания сверхчувственных объектов, проникновение в которые для нас все же невозможно, ограничили наше суждение регулятивными принципами, довольствующимися только возможным применением этих объектов на практике, – то в весьма многих вещах с человеческой мудростью дело обстояло бы лучше и мнимое знание о том, о чем в сущности ничего не знают, это беспочвенное, но долгое время мерцавшее умствование, не порождало бы происходящих из него в конце концов недостатков морали.
[Закрыть] – ведь в этих мнимых познаниях и утверждениях разум лишь переходит границы своего усмотрения. Благой и чистый образ мыслей (который можно назвать правящим в нас добрым духом) приносит с собой, стало быть (когда его осознают), и доверие к его прочности и устойчивости, пусть лишь опосредованно, и является Уте́шителем (параклитом), если нас беспокоят наши ошибочные шаги сравнительно с его постоянством. В этом отношении уверенность для человека невозможна и, насколько мы можем судить, в применении к морали лишена пользы. Ибо (что следует отметить) это доверие мы не можем основывать на непосредственном осознании неизменности нашего образа мыслей, поскольку мы не способны проникнуть в него, но в любом случае должны заключать о нем из его следствий в жизненном поведении. Впрочем, подобный вывод, так как он извлекается только из восприятий как проявлений доброго и злого образа мыслей, никогда не дает нам возможности с достоверностью узнать именно основательность этого последнего и менее всего тогда, когда кто-то думает, что его образ мыслей улучшился к заранее предвидимому, близкому концу жизни; ведь эти эмпирические доказательства подлинности слишком недостаточны, причем другого образа жизни для обоснования суждения о нашем моральном достоинстве нам более не дано, и безотрадность (о том, чтобы она не вылилась в дикое отчаяние, человеческая природа, при всей неопределенности надежд на что-либо за пределами этой жизни, заботится уже сама) является неизбежным следствием разумного суждения человека о своем нравственном состоянии.
Третья и, по видимости, самая серьезная трудность, которая каждого человека, даже после того, как он вступил на путь добра, все же, при вынесении окончательного приговора его жизненному поведению в прошлом, выставляет достойным осуждения перед лицом божественной справедливости, заключается в следующем. Хотя бы он с восприятием доброго образа мыслей и мог вступить в эту новую жизнь и сколь бы твердо ни соблюдал он соответствующее указанному образу мыслей поведение, но ведь начал-mo он все же со зла и загладить эту вину он уже никогда не сможет. То, что после перемен в своем сердце он больше уже не совершает никаких новых провинностей, все же не позволяет человеку считать, что этим он возмещает старые. Да и его доброе поведение в дальнейшем не создает никакого излишка, сравнительно с тем, как он обязан сам по себе поступать всякий раз; ибо в любой момент долг его состоит в том, чтобы совершать все добро, какое ему по силам. Эта первоначальная или вообще предшествующая всему добру, которое человек только мог совершить, вина и есть то, что – и ничего больше – мы понимаем под изначальным злом (см. первую часть); ее, насколько наш разум дает нам право усматривать, нельзя устранить чем-либо другим. Эта вина не является неким передаточным обязательством, которое, подобно денежному обязательству (когда кредитору все равно, сам ли должник или кто-нибудь другой за него платит), можно перевести на кого-нибудь другого, но в высшей степени личная вина, а именно вина греха, которая относится лишь к наказуемому, но отнюдь не к невинному, хотя бы тот был настолько великодушен, что хотел взять ее на себя. А поскольку нравственное зло (нарушение морального закона как божественной заповеди, именуемое грехом) – не только вследствие бесконечности высшего законодателя, авторитет которого оскорбляется этим (в подобном непостижимом отношении человека к высшему существу мы ничего не понимаем), но и как зло в образе мыслей и максимах вообще (подобно всеобщим принципам по сравнению с отдельными их нарушениями) – влечет за собой нескончаемые нарушения закона, а тем самым и бесконечную вину (перед человеческим судом, принимающим во внимание только отдельные преступления, стало быть, только действие и все с ним связанное, но не образ мыслей в целом, дело обстоит по-другому), то всякому человеку следовало бы ожидать для себя бесконечного наказания и изгнания из Царства Божьего.
Разрешение этой трудности основывается на следующем. Приговор сердцеведа следует мыслить исходящим из образа мыслей обвиняемого в целом, а не из его проявлений, т. е. не из уклоняющихся от закона или совпадающих с ним действий. Но в этом случае в человеке предполагается добрый образ мыслей, возобладавший над прежде господствовавшим злым принципом, и встает вопрос: может ли моральное следствие первого состояния, наказание (другими словами, отражение неблаговоления божьего на субъекте), распространяться и на новое состояние человека при лучшем образе мыслей, когда он становится уже предметом божественного благоволения? А так как вопрос не в том, соответствует ли наложенное на него до перемены в мыслях наказание божественной справедливости (в этом никто не сомневается), то это наказание не должно (в данном рассуждении) быть мыслимо как совершенное над ним до его улучшения. Однако его не следует мыслить и совершенным после, поскольку человек живет уже новой жизнью и морально стал совершенно другим, в силу чего наказание не будет соответствовать этому его новому качеству (богоугодного человека). И все же он должен дать удовлетворение высшей справедливости, перед которой человек, подлежащий наказанию, никогда не может остаться безнаказанным. Если, стало быть, наказание ни до, ни после перемены в мыслях не соответствует божественной мудрости и все-таки необходимо, то следует полагать, что оно соразмерно ей и установлено в период самого этого изменения. Мы, следовательно, должны рассудить, можно ли считать, что и в этом последнем состоянии сохраняется, но уже посредством понятия моральной перемены в мыслях, все то зло, на которое новый благомыслящий человек может смотреть как на собственную вину и в этом качестве как на наказание[39]39
Гипотеза, согласно которой на всякое зло в мире надо смотреть в общем как на наказание за совершенные нарушения закона, не могла быть придумана только для надобностей теодицеи или появиться как изобретение жреческой религии (культа), ибо она слишком уж обыденна, чтобы ее стоило измысливать так искусственно; напротив, она, вероятно, весьма близка человеческому разуму, который склонен привязывать ход вещей к законам морали, очень естественно выводя отсюда ту мысль, что мы должны стремиться стать лучшими людьми прежде, чем мы можем пожелать освободиться от всех зол жизни или возместить их превосходящим благом. Поэтому первый человек (в Священном Писании) выглядит приговоренным к работе, если он хочет есть, жена его – к тому, что она в муках должна рожать детей, и оба они – обреченными на смерть за их преступление. Однако нельзя не заметить и того, что, если бы это нарушение закона и не было совершено, животное существо, снабженное такими членами тела, не могло бы все же ожидать другого определения. У индусов люди не что иное, как духи, заключенные в животные тела в наказание за прежние преступления (духи эти называются дэвами). А один философ (Мальбранш) даже предпочитал не наделять неразумных зверей никакой душой, а тем самым и никакими чувствами, чем допускать, что лошади должны были бы подвергаться многочисленным мукам, «и не вкусив от запретного сена».
[Закрыть], дающее удовлетворение божественной справедливости.
Перемена в мыслях – это именно исход из зла и вступление в добро, совлечение ветхого человека и облечение в нового, так как субъект умирает для греха (следовательно, и для всех склонностей, поскольку они на это соблазняют), чтобы жить для справедливости. Однако в ней, как интеллектуальном определении, заключены не два разделенных промежутком времени моральных акта, а только один-единственный акт, ибо отказ от зла возможен лишь при замене последнего добрым образом мыслей, который приводит ко вступлению в добро, и наоборот. Добрый принцип состоит, таким образом, как в отказе от злого, так и в усвоении доброго образа мыслей, и скорбь, которая правомерно сопровождает первый, совершенно исчезает из второго. Переход от порочного образа мыслей к добропорядочному (подобно «отмиранию ветхого человека», «распятию плоти») уже сам по себе является жертвой и вступлением в длинный ряд тех зол жизни, которые принимает на себя новый человек в образе мыслей сына Божьего, а именно исключительно ради блага. Но эти тяготы жизни следует все же считать наказанием другому, т. е. ветхому, человеку (ведь новый человек в моральном отношении совершенно иной).
Стало быть, хотя в физическом отношении (рассматриваемый согласно своему эмпирическому характеру, т. е. как чувственное существо) он и остается тем же самым наказуемым человеком, а в этом качестве должен подлежать моральному суду (значит, и своему собственному), – все же в своем новом образе мыслей (как интеллигибельное существо) он предстает перед божественным судьей, который по делам судит этот новый образ мыслей, морально совершенно другим. А этот новый образ мыслей, будучи воспринят им во всей чистоте, т. е. так, как он наличествует у сына Божьего, или (если мы персонифицируем эту идею) как сам сын Божий выносит за этого человека, а равно и за всех верующих (практически) в него, будучи представителем их перед Богом, всю скверну греха, несет своими страданиями и смертью как искупитель удовлетворение высшей справедливости и, как защитник, добивается для людей надежды предстать оправданными перед их судьей. Однако сын Божий (согласно данной интерпретации) эти страдания, которые новый человек, умирающий как ветхий, должен выносить всю свою дальнейшую жизнь[40]40
Даже чистейший моральный образ мыслей не производит в человеке, как живущем в мире существе, все-таки ничего большего, как беспрерывное становление субъекта, угодного Богу по действию (которое наличествует в чувственном мире). Но по качеству этот образ мыслей (поскольку он должен быть мыслим как обоснованный сверхчувственно) должен и может быть святым и соответствовать чистейшим убеждениям первообраза, хотя по степени – как этот образ мыслей проявляется в поступках – он всегда остается ущербным и бесконечно далеко стоит от своего образца. Несмотря на это, указанный образ мыслей, поскольку он заключает в себе основу для беспрерывного движения вперед к устранению своей ущербности, заступает, как интеллектуальное единство целого, на место дела в его завершенности. Но теперь спрашивается, может ли тот, «кому нет никакого осуждения», или должен ли он считать себя оправданным и вместе с тем страдания, встретившиеся ему на пути ко все большему и большему благу, всегда относить на свой счет как наказующие, признавая, стало быть, самое наказуемость и тем самым неугодный Богу образ мыслей? Да, но лишь в качестве человека, которого он с себя беспрерывно совлекает. То, что выпало ему в этом качестве (ветхого человека) как наказание (а это все страдания и беды жизни вообще), он радостно принимает на себя в качестве нового человека только ради добра. Следовательно, в новом его качестве они будут вменены ему не как наказания. Это означает лишь, что все постигающие его страдания и беды, которые ветхий человек должен был бы считать наказанием и которые новый человек, поскольку в нем умирает ветхий, действительно засчитывает себе как таковые, он охотно принимает в новом качестве только как повод к испытанию и упражнению своего образа мыслей в добре. Поэтому наказание выступает одновременно как следствие и как причина указанного побуждения к испытанию, а вместе с тем и того довольства и морального блаженства, которое состоит в сознании своего продвижения вперед в добре (что составляет единый акт с отречением от зла). Напротив, в старом образе мыслей те же самые беды не только имели значение наказания, но и должны были ощущаться как таковое, ибо они, рассматриваемые даже только как беды, прямо обращены против того, что для человека при подобном образе мыслей становится единственной целью, т. е. против физического блаженства.
[Закрыть], являет, будучи представителем всего человечества, как единожды и навсегда выстраданную смерть.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































