Текст книги "Доказательство бытия Бога"
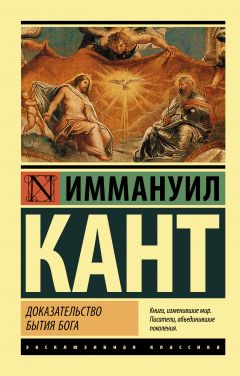
Автор книги: Иммануил Кант
Жанр: Литература 18 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Предисловие ко второму изданию. 1794
В этом издании, кроме опечаток и немногих стилистических поправок, ничего не изменено. Все добавления отмечены крестиком и даны в сносках.
О заглавии этой книги (так как были высказаны некоторые сомнения относительно скрытой в нем цели) считаю нужным заметить следующее. Так как откровение по крайней мере может включать в себя и чистую религию разума, а религия разума, наоборот, не может содержать в себе историческую [сторону] откровения, то я могу рассматривать первое как более широкую сферу веры, которая заключает в себе религию разума как более узкую [сферу] (не как два вне друг друга находящихся, а как два концентрических круга), и в пределах последней философ должен считать себя учителем чистого разума (из одних лишь априорных принципов), а при этом, следовательно, отвлечься от всякого опыта. С этой точки зрения я могу сделать и вторую попытку, а именно: исходить из какого-нибудь откровения, признаваемого таковым, и, отвлекаясь от чистой религии разума (поскольку она составляет самостоятельную систему), рассматривать откровение как историческую систему моральных понятий только фрагментарно и наблюдать, не приведет ли это к той же системе чистой религии разума, которая самостоятельна не в теоретическом, правда, отношении (к чему следует причислить и технически практический метод преподавания как учение об умении), а в морально-практическом отношении, и достаточна для религии в собственном смысле, которая как априорное понятие разума (остающееся после устранения всего эмпирического) существует только в этом отношении. Если это так, то можно сказать, что между разумом и Писанием можно найти не только совместимость, но и единство, так что тот, кто следует одному из них (под руководством моральных понятий), обязательно встретится и с другим. Если же этого не случится, то или у одного человека будет две религии, что нелепо, или будет религия и культ. А в последнем случае, так как культ не есть (в отличие от религии) цель сама по себе, а имеет ценность только как средство, оба они иногда могут смешиваться вместе, чтобы на короткое время соединиться, но потом, как масло и вода, снова отделиться друг от друга, и чисто моральное (религия разума) должно всплыть наверх.
Я уже в первом предисловии отметил, что такое соединение (или попытка его достигнуть) с полным правом есть подобающее философскому исследователю религии занятие и не представляет собой посягательство на исключительные права основывающегося на Библии богослова. После этого я нашел, что утверждение это приводится и в «Морали» покойного Михаэлиса (часть 1-я, с. 5–11), человека, сведущего в обеих дисциплинах, и проходит через всю его книгу, причем высший факультет не нашел бы в ней ничего предосудительного в отношении своих прав.
Суждения достойных людей, подписавших и не подписавших свои имена под своими отзывами о моей книге, я не мог принять в соображение в этом втором издании, так как они (как вся литература из других городов) очень поздно доходят до наших областей, хотя я и очень желал бы этого, прежде всего это касается Annotationes quaedam theologicae etc. знаменитого д-ра богословия Шторра в Тюбингене, который с обычной для него проницательностью, а также с заслуживающими глубочайшей благодарности усердием и справедливостью подверг разбору мою книгу, откликнуться на что я безусловно намерен, не решаясь, однако, обещать этого ввиду старческих недугов, которые более всего противятся разработке отвлеченных идей. От одного критического отзыва, а именно, помещенного в № 29 «Новых критических сообщений» в Грейфсвальде, я могу отделаться так же бесцеремонно, как рецензент от моего сочинения. Оно, по его мнению, есть не что иное, как ответ на поставленный мною же вопрос: «Каким образом возможна церковная система догматики в ее понятиях и положениях на основе чистого (теоретического и практического) разума?» – «Этот опыт, следовательно, вообще не интересен для тех, кто так же не постигает и не понимает его (Канта) системы, как и не желает ее знать, и поэтому они должны рассматривать его как нечто несуществующее». – На это я отвечаю: для того чтобы понять основное содержание этого сочинения, требуется лишь обыденная мораль и нет надобности вдаваться в критику практического разума, а тем более теоретического, и если, например, добродетель как навык в сообразных с долгом поступках (по их легальности) называют virtus phaenomenon, а ее же как постоянное убеждение совершать такие поступки из чувства долга (в силу их моральности) – virtus noumenon, то эти выражения годятся только для школьного преподавания, а сущность дела содержится в самых популярных наставлениях для детей или в проповеди, хотя она выражена здесь иначе, и она вполне понятна. Если бы последнее можно было сказать о тайнах божественной природы, какие числят по ведомству учения о религии! – их, словно они совсем общедоступны, помещают в катехизисах, но потом их приходится переводить в моральные понятия, чтобы они разумелись каждым.
Кёнигсберг, 26 января 1794 г.
Часть первая
О существовании злого принципа наряду с добрым, или об изначальном зле в человеческой природе
То, что мир лежит во зле, – это жалоба, которая так же стара, как история, даже как еще более старая поэзия, более того, как самая старая среди всех видов поэтического вымысла – религия жрецов. Тем не менее у всех мир начинается с добра – с золотого века, с жизни в раю или с еще более счастливой жизни в общении с небесными существами. Но это счастье скоро исчезает у них, как сон, и впадение во зло (моральное, с которым всегда в ногу идет и физическое) ускоренным шагом торопится к худшему[16]16
Aetas parentum, peior avis, tulit Nos nequiores, mox daturos Progeniem vitiosiorem.
Horat.
[Закрыть], так что мы теперь (но это теперь так же старо, как сама история) живем в последние времена, на пороге у нас день Страшного суда и светопреставление. А в некоторых областях Индостана судья мира и опустошитель Рутрен (иначе называемый Сиба или Сивен) уже почитается как ныне державный бог, после того как мирохранитель Вишну, которому наскучила его должность, воспринятая им от творца мира Брамы, много веков назад отрекся от нее.
Более новое, но гораздо менее распространенное мнение – это противоположное первому героическое мнение, которое находило себе поклонников почти исключительно среди философов, а в наше время главным образом среди педагогов: мир беспрестанно (хотя еле заметно) идет как раз в обратном направлении, а именно от плохого к лучшему, во всяком случае зачатки этого имеются в человеческой природе. Но это мнение, несомненно, возникло у них не из опыта, если речь идет о морально добром или морально злом (а не о цивилизации), так как в этом пункте история всех времен слишком сильно говорит против этого мнения. Скорее это только добродушное предположение моралистов от Сенеки до Руссо, дабы лежащий, быть может, в нас зачаток добра побуждать к беспрерывному росту, если только можно рассчитывать на естественные основания для этого роста в человеке. Сюда можно отнести еще и мнение, что так как человека по природе (т. е. как он обычно рождается) надо признавать физически здоровым, то нет никакой причины не признавать его также и душевно здоровым и добрым от природы. Следовательно, сама природа содействует развитию в нас этих нравственных задатков добра. Sanabilibus aegrotamus malis nosque inrectumgenitos natura, si sanari velimus, adiuvat, – говорит Сенека.
Но так как легко может случиться, что ошибаются и в том и другом мнимом опыте, то возникает вопрос: не возможно ли по крайней мере что-то среднее, а именно, что человек как член рода своего ни добр, ни зол или, вернее, может быть и тем и другим, т. е. отчасти добрым, а отчасти злым? Человека, однако, называют злым не потому, что он совершает злые (противные закону) поступки, а только потому, что эти поступки таковы, что дают возможность сделать вывод о его злых максимах. Опыт, конечно, позволяет наблюдать противные закону поступки и то (по крайней мере у самих себя), что они сознательно противны закону, но максимы нельзя увидеть – даже в самом себе. Поэтому суждение о том, что виновник – злой человек, не может быть с уверенностью основано на опыте. Следовательно, дабы назвать человека злым, надо иметь возможность из некоторых его поступков, даже из одного-единственного сознательно злого поступка, a priori сделать вывод о злой максиме, лежащей в основе, а из этой максимы – о заложенном в каждом субъекте основании всех отдельных морально злых максим, которое само, в свою очередь, есть максима.
Для того чтобы сразу же не споткнуться о термин природа, который, если он (как обычно) обозначает то, что противоположно основанию поступков из свободы, должен находиться в прямом противоречии с предикатами морально доброго или морально злого, следует отметить, что здесь под природой человека подразумевается только субъективное основание применения его свободы вообще (под [властью] объективных моральных законов), которое предшествует всякому действию, воспринимаемому нашими чувствами, в чем бы ни заключалось это основание. Но само это субъективное основание всегда должно, в свою очередь, быть актом свободы (ведь иначе применение произволения или злоупотребление им не могло бы быть человеку вменено в вину относительно нравственного закона и нельзя было бы называть доброе или злое в нем моральным). Стало быть, основание злого находится не в каком-либо объекте, который определяет произволение посредством склонности, и не в каком-либо естественном побуждении, а только в правиле, какое произволение устанавливает себе для применения своей свободы, т. е. в некоторой максиме. О максиме уже нельзя спрашивать дальше, что́ в человеке есть субъективное основание признания этой, а не противоположной ей максимы. В самом деле, если бы это основание в конце концов само уже не было максимой, а было только естественным побуждением, то применение свободы можно было бы полностью свести к определениям через естественные причины; а это противоречит ей. Итак, если мы говорим: человек по природе добр или он по природе зол, то это значит только то, что он имеет в себе (непостижимое для нас) первое основание[17]17
То, что первое субъективное основание принятия моральных максим непостижимо, видно пока уже из того, что так как это принятие свободно, то основание его (почему я, например, принял злую, а не добрую максиму) надо искать не в природном побуждении, а опять-таки в некоторой максиме; и так как эта максима тоже должна иметь свое основание, а кроме максимы не следует и невозможно указать какое-либо другое определяющее основание свободного произволения, то в ряду субъективных оснований мы всегда будем вновь и вновь возвращаться к бесконечности, не будучи в состоянии дойти до первого основания.
[Закрыть] принятия добрых или принятия злых (противных закону) максим, и притом как человек вообще, а стало быть, через них он выражает также характер своего рода.
Мы, следовательно, будем говорить об одном из этих характеров (об отличии человека от других возможных разумных существ), что он ему прирожден, – и при этом всегда решать, что не природа – причина его вины (если он зол) или его заслуги (если он добр), но что человек сам создает этот характер. Поскольку, однако, первое основание принятия наших максим, которое само, в свою очередь, должно всегда заключаться в свободном произволении, не может быть фактом, который мог бы быть дан в опыте, то добро или зло в человеке (как субъективное первое основание принятия той или другой максимы в отношении морального закона) называется прирожденным только в том смысле, что оно заложено в основу до всякого данного в опыте применения свободы (в самом раннем возрасте вплоть до рождения) и поэтому представляется как нечто уже имеющееся в человеке с минуты его рождения, но не в том смысле, что причина этого – само рождение.
Примечание
В основе спора обеих вышеприведенных гипотез лежит дизъюнктивное суждение: человек (от природы) или нравственно добр, или нравственно зол. Но каждому может легко прийти на ум вопрос, верно ли такое противопоставление и не может ли каждый утверждать, что человек от природы ни то ни другое или что он и то и другое одновременно, а именно: в одних отношениях добр, а в других зол. Опыт, по всей видимости, даже подтверждает это среднее между двумя крайностями.
Но для учения о нравственности вообще очень важно не допускать, насколько возможно, никакой моральной середины ни в поступках (adiaphora), ни в человеческих характерах, так как при такой двойственности всем максимам грозит опасность утратить определенность и устойчивость. Тех, кто придерживается такого строгого образа мыслей, называют ригористами (имя, которое должно заключать в себе порицание, а на самом деле есть похвала); их антиподов можно поэтому называть латитудинариями. Последние бывают или нейтральными, и тогда их можно назвать индифферентистами, объединителями, и тогда их можно назвать синкретистами[18]18
Если добро = а, то контрадикторно противоположное ему есть недоброе. Оно бывает следствие или только отсутствия основания добра = 0, или положительного основания, противоположного ему, = – а. В последнем случае недоброе можно называть также положительным злом. (В отношении удовольствия и страдания можно указать на такого же рода среднее, так что удовольствие = а, страдание = – а, а состояние, в котором нет ни того ни другого, есть безразличие = 0.) Если же моральный закон не был бы в нас мотивом произволения, то морально доброе (согласие произволения с законом) было бы = а, недоброе = 0, а следствие отсутствия морального мотива = а х 0. Но мотив в нас = а. Следовательно, отсутствие согласия между ним и произволением (= 0) возможно только как следствие реально противоположного определения произволения, т. е. противодействия ему = – а, т. е. возможно только через злое произволение; и между злым и добрым образом мыслей (внутренним принципом максим), по которому надо судить и о моральности поступка, нет, следовательно, ничего среднего. (А)
Морально безразличный поступок (adiaphoron morale) был бы тогда поступком, который следует из одних лишь законов природы и, таким образом, вообще не имеет отношения к нравственному закону как закону свободы, при этом он не есть факт и в отношении его не бывают, да и не нужны, ни предписание, ни запрет, ни даже дозволение (законное правомочие). (В)
[Закрыть].
Ответ на поставленный вопрос о ригористическом способе решения[19]19
Господин профессор Шиллер в своей мастерски написанной статье (Thalia, 1793, номер 3-й) «О грации и достоинстве» в морали не одобряет этого способа представления обязательности как якобы влекущего за собой настроение души наподобие монашески-картезианского. Но так как мы в важнейших принципах с ним сходимся, то и в этом случае я не могу допустить никакого расхождения, если мы только хотим понять друг друга. Я охотно признаю, что к понятию долга именно ради его достоинства я не могу присовокупить какую-либо грацию: понятие долга содержит в себе безусловное принуждение, с чем грация стоит в прямом противоречии. Величие закона (подобно закону, данному на Синае) внушает благоговение (не страх, который отталкивает, и не прелесть, которая вызывает непринужденность), возбуждающее в подчиненном чувство уважения к своему повелителю, а в данном случае, так как повелитель находится в нас самих, – чувство возвышенности нашего собственного назначения, что увлекает нас больше, чем все прекрасное. Но добродетель, т. е. образ мыслей, имеющий твердую основу и направленный на то, чтобы точно исполнять свой долг, в своих последствиях более благодетельна, чем все, что может сделать в мире природа или искусство. И великолепный образ человечества, представленный в этом его облике, хотя и дозволяет грациям сопровождать себя, но они должны держаться на почтительном расстоянии, если речь идет еще только о долге. Однако если иметь в виду те привлекательные последствия, которые добродетель распространяла бы в мире, если бы она везде нашла себе применение, то в этом случае морально направленный разум примешивает чувственность (через способность воображения). Геркулес стал мусагетом только тогда, когда он одолел чудовищ, – занятие, которое заставляет содрогаться этих добрых сестер. Эти спутницы Венеры Урании становятся блудницами в свите Венеры Дионы, как только они намереваются вмешаться в дело определения долга и давать мотивы, побуждающие к этому. Если же спросить, каков эстетический характер, так сказать, темперамент добродетели: мужественный, стало быть радостный, или боязливо смиренный и подавленный, то вряд ли требуется ответ. Рабское настроение духа не может существовать без срытой ненависти к закону, а радость от исполнения своего долга (но не удобство от признания его) есть признак подлинно добродетельного образа мыслей даже в благочестии, состоящем не в самобичевании кающегося грешника (самобичевание очень двусмысленно и обычно есть только внутренний упрек в том, что не соблюдены правила благоразумия), а в твердом намерении поступать в будущем лучше, и такое намерение, воодушевляемое успехом, не может не вызывать радостное настроение духа, без которого никогда нет уверенности, что добро полюбилось, т. е. принято в максиму. (В)
[Закрыть] основывается на важном для морали наблюдении: свобода произволения имеет ту совершенно отличительную особенность, что она может быть тем или иным мотивом определена к поступкам, лишь поскольку человек принимает мотив в свою максиму (поскольку он становится общим правилом, согласно которому человек хочет поступать); только в этом случае мотив, каким бы он ни был, совместим с абсолютной спонтанностью произволения (свободы). Только моральный закон сам по себе есть мотив в суждении разума, и тот, кто делает его своей максимой, морально добр. Если же закон не определяет чьего-либо произволения в отношении того или иного поступка, касающегося данного закона, то на произволение должен иметь влияние противоположный ему мотив. И так как, по предположению, это может случиться только благодаря тому, что человек принимает этот мотив (стало быть, и отклонение от морального закона) в свою максиму (в этом случае он злой человек), то его образ мыслей в отношении морального закона никогда не бывает индифферентным (никогда не может быть ни тем ни другим – ни добрым, ни злым).
Но он также не может в некоторых отношениях быть добрым, а в других – одновременно и злым. В самом деле если он в одном отношении добр, то это значит, что он принял моральный закон в свою максиму. Если же в других отношениях он был бы злым, то, поскольку моральный закон исполнения долга вообще только один-единственный и всеобщий, относящаяся к нему максима должна быть всеобщей, а вместе с тем только особой максимой, что само себе противоречит[20]20
Старые философы-моралисты, которые столь основательно рассмотрели все, что можно сказать о добродетели, не оставили без внимания и оба поставленных выше вопроса. Первый они формулировали так: следует ли учиться добродетели (человек, следовательно, от природы безразличен к ней и к пороку)? Другой формулировали так: существует ли одна добродетель или их больше (значит, не бывает так, что человек в одних отношениях добродетелен, а в других порочен)? То и другое они отвергали с ригористической определенностью и вполне справедливо, так как они рассматривали добродетель самое по себе в идее разума (каким человек должен быть). Но если хотят нравственно судить об этом моральном существе, о человеке, в явлении, т. е. как его нам показывает опыт, то на оба указанных вопроса можно отвечать утвердительно, так как в таком случае его не взвешивают на весах чистого разума (перед божественным судом), а судят о нем по эмпирическому мерилу (перед человеческим судьей). Но об этом еще будет речь впереди.
[Закрыть].
Иметь тот или другой образ мыслей как врожденное свойство – значит здесь не то, что он вообще не приобретен человеком, который им обладает, т. е. что не он виновник, а то, что этот образ мыслей был приобретен не во времени (что тот или другой был у человека смолоду, всегда). Образ мыслей, т. е. первое субъективное основание принятия максим, может быть только одним и направлен на все применение свободы вообще. Но сам образ мыслей должен быть принят свободным произволением, иначе он не может быть вменен. Субъективное основание, или причину, этого признания нельзя, в свою очередь, познать (хотя вопрос о нем неизбежен, иначе снова должна быть указана максима, в которую был принят данный образ мыслей, а этот образ мыслей, в свою очередь, также должен иметь свое основание). Следовательно, так как мы этот образ мыслей, или, вернее, его высшее основание, не можем выводить из какого-либо первого акта произволения во времени, то мы называем его свойством произволения, которое присуще ему (хотя в действительности оно имеет свою основу в свободе) от природы. То, что под человеком, о котором мы говорим, что он от природы добр или зол, мы понимаем не отдельного человека (ибо тогда можно было бы признавать одного по природе добрым, а другого злым), а имеем право понимать весь род, может быть доказано только позднее, когда антропологическое исследование покажет, что основания, которые дают нам право приписывать человеку один из этих двух характеров как прирожденный, таковы, что нет никакого основания делать отсюда исключения для какого-либо человека и что, следовательно, этот характер относится ко всему роду.
I. О первоначальных задатках добра в человеческой природеВ отношении их цели нам удобно разделить их на три класса как элементы определения человека:
1. Задатки животности человека как живого существа.
2. Задатки человечности его как существа живого и вместе с тем разумного.
3. Задатки его личности как существа разумного и вместе с тем способного отвечать за свои поступки[21]21
Это необходимо следует рассматривать как особый вид задатков, а не как заключающийся уже в понятии двух первых. В самом деле, из того, что какое-то существо обладает разумом, еще не следует, что оно имеет и способность определять произволение безусловно, одним лишь представлением о пригодности его максим в качестве всеобщего законодательства, и, таким образом, само по себе может быть практическим, по крайней мере насколько мы можем постичь. Самое разумное существо в мире все еще могло бы нуждаться в каких-то мотивах, которые у него проистекали бы от объектов влечения, чтобы определять свое произволение, но для этого понадобилось бы самое разумное размышление относительно огромнейшего количества мотивов и относительно средств достижения определяемой этим цели, даже если бы и не подозревали о возможности чего-то такого, как моральный, безусловно повелевающий закон, который возвещает о себе, и притом как о высшем мотиве. Если бы этот закон не был дан в нас, мы не могли бы его как таковой выдумать никаким разумом или навязать произволению; и все же этот закон единственное, что дает нам сознание независимости нашего произволения от определения всеми другими мотивами (сознание нашей свободы), а тем самым и сознание того, что за все поступки мы способны нести ответственность.
[Закрыть].
1. Задатки животности в человеке можно подвести под общую рубрику физического и чисто механического себялюбия, т. е. такого, для которого не требуется разум. Они троякого вида: во‑первых, стремление к самосохранению; во‑вторых, к продолжению рода своего через влечение к другому полу и к сохранению того, что производится при сочетании с ним; в‑третьих, к сообщности с другими людьми, т. е. влечение к общительности. Им могут быть привиты всевозможные пороки (которые, однако, не возникают сами собой из этих задатков как корня). Их можно назвать пороками естественной грубости, и при наибольшем отступлении от целей природы они становятся скотскими пороками – обжорства, похоти и дикого беззакония (по отношению к другим людям).
2. Задатки человечности можно подвести под общую рубрику физического, правда, но сравнительного себялюбия (для чего требуется разум), а именно, как наклонности судить о себе как о счастливом или несчастном только по сравнению с другими. Отсюда влечение добиваться признания своей ценности во мнении других, и притом первоначально лишь ценности своего равенства с другими: никому не позволять превосходства над собой, что связано с постоянным опасением стремления к тому же самому и со стороны других. Отсюда прямо возникает несправедливое желание добиться превосходства над другими. Им, а именно ревности и соперничеству, могут быть привиты величайшие пороки тайной и открытой враждебности против всех, на кого мы смотрим как на чужих для нас. Эти пороки, собственно говоря, не возникают сами собой из природы как их корня; при усиленном домогательстве со стороны других ненавистного нам превосходства над ними они суть склонности: ради своей безопасности добиваться превосходства над другими как предохранительного средства, в то время как природа хотела использовать идею такого соревнования (которое само по себе не исключает взаимной любви) только как побуждение к культуре. Пороки, которые прививаются этой склонности, могут поэтому называться и пороками культуры, а когда они становятся в высшей степени дурными (так как тогда они становятся просто идеей максимума зла, превышающего человечность), например завистью, неблагодарностью, злорадством и т. д., – могут быть названы дьявольскими пороками.
3. Задатки личности — это способность воспринимать уважение к моральному закону как сам по себе достаточный мотив произволения. Способность воспринимать только уважение к моральному закону в нас была бы моральным чувством, которое само по себе еще не составляет цели естественных задатков, а есть такая цель, лишь поскольку оно мотив произволения. А так как это становится возможным исключительно благодаря тому, что свободное произволение принимает его в свою максиму, то свойством такого произволения служит добрый характер, который, как вообще каждый характер свободного произволения, есть нечто такое, что может быть только приобретено, но для возможности этого все же должны существовать задатки в нашей природе, которым никак не может быть привито что-либо злое. Однако идею морального закона с неотделимым от нее уважением к нему нельзя назвать задатками личности; она уже сама личность (идея человечности, рассматриваемая совершенно интеллектуально). Но субъективное основание того, что мы принимаем это уважение в качестве мотива в наши максимы, кажется дополнением к личности и потому заслуживает ради личности названия задатков.
Когда мы названные три вида задатков рассматриваем с точки зрения их возможности, то мы находим, что первый не коренится ни в каком разуме; второй коренится хотя и в практическом, но подчиненном другим мотивам разуме, и только третий сам по себе коренится в практическом, т. е. безусловно законодательствующем, разуме. Все эти задатки в человеке не только (негативно) добры (не противоречат моральному закону), но это и задатки добра (содействуют исполнению этого закона). Они изначальны, так как требуются для возможности человеческой природы. Человек хотя и может пользоваться первыми двумя противно их цели, однако ни одного из них не может уничтожить. Под задатками какого-нибудь существа мы понимаем и необходимые для этого составные части, и формы их связи, чтобы быть таким существом. Они изначальны, если они необходимо требуются для возможности такого существа, случайны же, если бы это существо было возможно само по себе и без них. Следует еще отметить, что здесь речь идет только о таких задатках, которые непосредственно относятся к способности желания и к применению произволения.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































