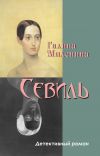Текст книги "К пирамидам. «…внидоша воды до души моея»"
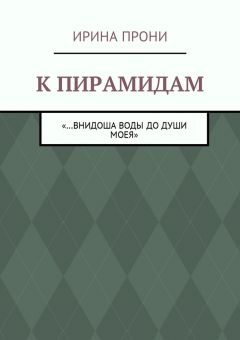
Автор книги: Ирина Прони
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)
Проводы
Когда кто-то из нашей группы отбывает домой, то весь наш двадцатичетырех квартирный дом выходит на площадку перед подъездом, чтобы проводить отъезжающих на родину и помахать рукой вслед автобусу, который повезёт их в аэропорт.
Это довольно эмоциональный момент, ведь люди прожили рядом год, два или три, познакомились, подружились. Как сложится судьба соседей и друзей на родине после возвращения? Отъезжающие загодя готовятся к моменту отбытия. Как правило, специально «на отъезд» шьётся новое платье. И даже самые экономные дамы позволяют себе «на отъезд», как завершающий аккорд, в качестве обновы какое-нибудь ювелирное украшение. Провожающие обращают пристальное внимание на то, как отъезжающие подготовились к встрече с родиной, вернее, в чем они собираются приземляться в Шереметьево, прибыв, между прочим! из заграницы. Потом на полянке обсуждается: какие серьги с бирюзой купила себе на отъезд Наташа, как не поскупилась на новые туфли и сумку к ним из магазина «Бата» Надежда Григорьевна, и то, что Оксана Шпитко полетела домой в той же самой юбке, в которой два года назад приехала сюда.
Сегодня мы провожали в Союз Плотвиных. Накануне к Эле пришла Зоя и принесла ей подарок – упакованный в нарядную коробку чайный сервиз. Сказала, что она очень благодарна ей за Мушку и хочет, чтобы Эля вспоминала её и Мушку. Ведь девочка после ставшей всем известной фразы «Дай хлеб!» начала бойко разговаривать и даже выучила под руководством Эли классические стихи про мишку с оторванной лапой и про брошенного хозяйкой зайку. Слушая дочкину декламацию, Зоя почти всегда смахивает украдкой со своей упруго глянцевой щеки слезу умиления. Эля не хотела обидеть Зою, но и не хотела принимать от неё подарок, зная, как та экономна и как у неё распланирован каждый динар и даже филс на покупку необходимых для будущей жизни вещей. Поэтому она, поблагодарив, объяснила, что их багаж уже упакован, что она опасается перевеса, и что просит Зою оставить эти чашки себе. При этом она просит считать их как бы Элиными, чтобы Зоя не берегла их за стеклом в серванте, а часто ими пользовалась, вспоминая Мушкину наставницу.
Эльвира вышла к автобусу в новом светло-бежевом лёгком замшевом пальто, которое ей очень шло, а Глеб принарядился в черный кожаный пиджак. У меня сейчас нет слов, описать произведенное впечатление. Ещё бы, ведь все знают, что подобная одежда продается не на суку-базаре, а в дорогом магазине на улице аль Рашид. Когда автобус отъехал, Катя Серемова, жена капитана, мать двоих детей, почтальон из городка Бобровичи, завистливо-грустно промолвила:
– Хорошо им, переводчикам: то они в одной загранице, то – в другой. Могут себе позволить купить, что нравится, а не что будет служить и носиться долгие годы. А нам в своих гарнизонных городках век вековать да бытовать!
На лирическую зависть Кати можно не обращать внимания, пытаясь переубедить, что направление жизни можно выбирать, если при этом учиться, стараться, стремится и т. д. Однако для каждого вопрос небезразличный: что же в жизни идёт по собственной воле и выбору, а что случается по Божиему промыслу?
После проводов Плотвиных немного грустно на душе, и невольно думается: как всё сложится у них в дальнейшем, в каких заграницах им придётся побывать… Увидимся ли мы снова?
Часть вторая: МОСКВА. Я НЕ СИРОТА!
Новоселье
Когда Плотвины вернулись из Багдада, всё вышло, как два года назад им посоветовал ответственный редактор из ТАСС. Глеба (с рекомендацией тех, кто знал его по учебе в университете) приняли на работу в ТАСС в редакцию по странам Ближнего Востока. Без всяких проблем с помощью родственника Федора Векшина они вступили в жилищный кооператив и стали обладателями небольшой двухкомнатной квартиры в Чертаново на юго-востоке Москвы.
Эльвире место работы можно было выбирать: в их новом жилом районе открывались сразу два детских сада. Но она не торопилась с работой. Ей хотелось вначале всё как следует обустроить в их новой собственной московской квартире. Симпатичную кухню они купили в «Березке», специальном магазине, где все товары продавались на сертификаты. (Условные деньги, которые граждане СССР получали во Внешторгбанке в обмен на иностранную валюту, привезенную из заграничной командировки.) А со спальней им просто повезло. В московских магазинах только-только начала появляться мебель из Финляндии, и на неё пока не было ни «записи», ни очередей, так как стоила она значительно дороже прочей. Когда они увидели в магазине темную добротную спальню, Эля сумела договориться с продавцом, чтобы он придержал для них мебель на три часа, пока они привезут деньги, ведь чек на товар выписывался строго на один час. А буквально через месяц в том же самом магазине тот же продавец, запомнивший их, (ведь Эля, разумеется, «поблагодарила» его при покупке спальни), показал им прекрасный, тоже финский, тоже недешевый «кабинет», скромно и неброско стоявший в уголке, очевидно, в ожидании своего особо благодарного покупателя. Таким образом, Глеб, ещё не успев стать настоящим журналистом, уже был обладателем завидного рабочего места: у окна расположился солидный письменный стол и удобное рабочее кресло. В комплект кабинета входила элегантно-строгая стенка для книг, имелся удобный диван с креслом, а также широкий журнальный стол. Эта комната прекрасно выполняла в их квартире и функции гостиной. В стенку Эля поставила не только книги, но и нарядную посуду, и всякую арабскую сувенирную всячину.
Мама Глеба приехала из Ленинграда погостить, посмотреть, как они устроились в столице. Она бесконечно восторженно причитала:
– Ну и живёте вы, как короли! Квартира маленькая, но какая уютная! Какая красивая! Эльвира, ты прекрасная хозяйка, как ты всё обставила, какой у тебя порядок!
Восторг вызывали и сложенные в шкафу аккуратной стопкой со сгибом вперёд простыни и пододеяльники, тарелки и чашки с блюдцами, составленные на симпатичных кухонных полочках строго по ранжиру. На кухне у Эли чей-либо взгляд не мог натолкнуться на невымытую ложку или забытую чашку.
На работу Глеб ездил на собственной новой «Волге» цвета кофе со сливками.
– Ты, действительно, настоящий везунчик, Плотвин! – опять услышал Глеб от своего бывшего сокурсника.
Семейная жизнь
Чего ещё можно было желать в Москве середины семидесятых 20 века двум любящим сердцам? Однако, имелся один очень огорчительный, особенно для Эли, момент, который она не любила обсуждать с окружающими, хотя и не делала из этого секрета. У них с Глебом не было детей. Первый раз она забеременела, когда Глеб был ещё безденежным студентом, и они не были официально женаты. Им обоим казалось, что при таких обстоятельствах о ребёнке не могло быть и речи. К тому же Эльвире не хотелось, чтобы ситуация выглядела так, словно она «подловила» Глеба.
Вторая беременность наступила, когда они уже расписались. Глеб готовился к защите диплома и уже имел предложение отправиться после окончания университета переводчиком в одну из арабских стран. Их ближайшее будущее было конкретно и радостно. Для Эли весь мир стал иным, и главным в нём стала пока совсем мало ощутимая другая жизнь, что была внутри неё. Эта новизна казалась ей праздничной тайной, особым образом соединяющей её и Глеба. Для неё их отношения с Глебом тоже стали другими, особо значимыми, ведь теперь и она, и Глеб, и тайна складывались в новое главное целое, а всё прочее было второстепенным. И что бы она ни делала: занималась чем-то, шла ли по улице, разговаривала ли с кем-то – она по своему особому состоянию постоянно ощущала своё тайное отличие от других, свою тайну, которой ей пока не хотелось ни с кем делиться.
Перед поездкой в Йемен при оформлении документов им сразу строго сказали, что из-за тяжелого климата и особых условий пребывания, учитывая сложную политическую обстановку в чужой стране, туда не разрешается везти маленьких детей и выезжать беременным женщинам. Туда нет даже прямого рейса Аэрофлота, и лететь нужно с пересадкой в третьей стране. Глеб считал, что они должны отравиться в Йемен вместе. Да и хотелось ли Эльвире оставаться в Ленинграде на два года одной без мужа? Пришлось принять трудное решение. Тайна исчезла. Исчезло и особое целое, их стало снова двое: она и Глеб.
Жизнь за границей оказалась не такой уж сложной. В период их пребывания внутренняя обстановка в стране характеризовалась как стабильная, и им, иностранцам, следовало лишь разумно придерживаться правил поведения, не забывая о необходимых ограничениях в передвижениях, что, впрочем, им не особенно мешало, так как передвигаться-то там было некуда. Последние полгода командировки можно было забыть и про всевозможные строгие предупреждения по поводу ребенка, ведь они уже были на чемоданах, собираясь домой. Но беременность больше не наступала. Вернувшись в Ленинград, Эля выяснила, что она сама совершенно здорова, что препятствующей появлению ребенка причиной является, собственно, Глеб. От врача, к которому она заставила обратиться Глеба, Эля услышала: «По моим наблюдениям у многих питерских мужчин, кому в самом раннем детстве пришлось пережить условия блокады, рано снижаются репродуктивные возможности. Они остаются весьма активными мужчинами, но не могут стать отцами. Впрочем, окончательных приговоров выносить нельзя. Может быть, вам и повезет в этом смысле. Очень важно вести активный и подвижный образ жизни и иметь положительный эмоциональный настрой».
Глеб привык сам быть ребенком. Всегда заботливо воркующая вокруг него мама передала его в такие же заботливые руки жены.
– Мой муж умеет приготовить растворимый кофе и сварить сосиски, – шутливо-снисходительно говорила Эля. – Пожарить самому яичницу – для него верх кулинарного искусства. А уж откуда у него в шкафу берутся наглаженные сорочки и свежее бельё в ящике комода, ему и вовсе не ведомо.
Готовила Эля хорошо, многое умела, но Глеб в еде не был капризен. В Москве семидесятых в отличие от нынешних дней гурманство вообще не было распространено. Главное было – добыть необходимые продукты. Когда им хотелось «чего-нибудь вкусненького», можно было отправиться в гастрономический отдел магазина «Берёзка» и купить то, чего было не сыскать в обычных магазинах: благоухающую красивой жизнью ветчину, сырокопченую колбаску, томную буженину, буржуазно красивую бутылку мартини или «родную», но качественную водку.
Глебу нравились хорошие качественные вещи: на рабочем столе стояла отличная немецкая электрическая пишущая машинка. В кожаном футляре хранился очень дорогой тромбон, который он теперь почти не доставал. Хорошая гитара была всегда под рукой, но она также имела свой чехол. Среди друзей он слыл большим аккуратистом и слегка пижоном. Купить хорошую одежду они могли без проблем на ещё оставшиеся у них сертификаты в валютной «Березке».
Глеб оказался способным и старательным журналистом, писал много и для разных изданий, поэтому получал достаточно гонораров. Они жили вполне обеспечено в соответствии со своими потребностями и возможностями, предоставляемыми им их жизнью.
Ездили на машине в Питер, в Прибалтику и в Крым.
Официальное письмо
Эля отперла своим ключом дверь ленинградской коммунальной квартиры, где две другие комнаты занимали соседи, и остановилась перед дверью своей комнаты.
– Эльвира! Здравствуй, как вы там с Глебом-то в Москве? – к ней в коридор вышла соседка.
– Здравствуйте, Полина Марковна! В Москве мы устроены хорошо.
– Что же, ты теперь будешь выписываться из этой комнаты?
– Конечно, всё будет, как положено.
– А ведь у меня уже неделю письмо лежит для тебя. Официальное. Я и не знала, что с ним делать.
Соседка протянула ей белый конверт, на котором вместо марки стоял штемпель.
– Спасибо, Полина Марковна, – Эля убрала письмо в сумку.
– Тебе известно что-нибудь об Иветте? Где она?
– У Веты всё благополучно. Если вы хотите спросить про её прописку в этой комнате, так ведь она сохраняется за ней по специальной брони, как за женой военнослужащего на Крайнем Севере.
Ей не хотелось обсуждать с соседкой свои проблемы. Сестра не имела привычки писать письма, поэтому она о ней почти нечего не знала. Последнее письмо Эли к младшей сестре более двух лет назад ещё перед их поездкой в Багдад вернулось назад с пометкой «адресат выбыл». Это могло означать, что мужа Иветты перевели к другому месту службы, но младшая сестра так и не собралась сообщить новый адрес.
Конверт, врученный соседкой, вызывал какое-то волнение, и Эльвира не могла вскрыть его при ком-то. Она вошла в свою комнату, здесь было всё так, как она оставила несколько месяцев назад, было видно, что Вета не появлялась. Эля надорвала край конверта, достала сложенный вчетверо листок и развернула его. Прочитав напечатанные на машинке строчки, она не поняла, о чем идет речь. Прочла ещё раз. Её приглашали явиться по известному в Ленинграде, пугающему адресу «для получения информации о ваших родителях». Эля отправилась туда незамедлительно.
– Вас разыскивают ваши родители, – услышала она от сдержанного сотрудника строгого учреждения, – они проживают в Канаде в городе Оттава.
– Как так родители? Разыскивают… Почему в Канаде? – Эля растерялась.
– Они не погибли, как считалось, а оказались в плену. Сначала попали в Германию, а затем им удалось перебраться в Канаду, – беседовавший с ней сотрудник был вежлив и предупредителен. – Не волнуйтесь, за ними нет ничего плохого, мы проверили. В случае вашего согласия вы можете поговорить с ними по телефону, мы организуем этот разговор.
Детство
На телефонный разговор с Канадой нужно было придти через два дня. Каким было состояние Эли? Оглушена, выбита из колеи, растеряна. Она не могла ни на чем сосредоточиться.
Отец, мать, папа, мама – никогда в своей сознательной жизни ей не пришлось произнести этих слов в качестве обращений. Для неё они существовали лишь как известные ей понятия. Она не знала, как выглядели её родители. Война забрала не только самих родителей, но и их внешний образ. Бабушка Елизавета Григорьевна, как могла, поддерживала в детях память о них своими рассказами. То, что было связано с домом: имущество, фотографии – всё утратилось. А когда не стало с ними бабушки, то исчезли и рассказы. Вторая бабушка, бабушка Люба, была постоянно озабочена, чем прокормить и как вырастить девочек. Сиротство не ставило их с сестрой в особое положение перед другими. В послевоенном послеблокадном Ленинграде, как и повсюду, было достаточно и сиротства, и безотцовщины, и одиночества, и утрат. У каждого в памяти громоздилось множество трагических и грустных моментов, но до поры их старались не ворошить. Все вокруг были озабочены добыванием хлеба насущного, жили трудностями дня текущего, да надеждами на будущее. Блокада перевернула сознание людей. Кого Господь уберёг от гибели, тому следовало жить, жить достойно. Ведь должно же, должно же всё когда-нибудь наконец-то наладиться!
В течение двух дней, данных ей на ожидание телефонного разговора, в памяти Эли напряженно восстанавливались эпизоды раннего детства. Эле только что исполнилось четыре года, а сестренке не было ещё двух, когда родители ушли из их жизни. Ей припомнилось, как отец поднял её на руки и поцеловал. Потом родители уже в дверях остановились, и бабушка перекрестила их поочередно. На этом воспоминания о родителях обрывались. В сознании неожиданно выплыло другое, о чем она и думать забыла. Память отчетливо возвратила ей лицо, перекошенное странной гримасой и седые всклоченные волосы – женщина из их подъезда, у которой зять воевал на фронте, а на рытье окопов послали её беременную дочь. Женщина что-то шептала бабушке, а та в полголоса, чтобы не было слышно никому, говорила ей:
– Ну что вы, что вы, Капитолина Викторовна! Успокойтесь! Возьмите себя в руки! Нам ведь сообщили, что погибли все. Но надеяться всё равно можно.
– Я-то знаю точно, что моя Машенька жива. И ваши живы. Я знаю, я вижу их всех. А кто видел их мертвыми? Кто их хоронил? Их не пускают к нам. Их стережет НКВД. Я ведь знаю, что вы, Елизавета Григорьевна, верующая. Давайте вместе помолимся за них, как за живых, – взгляд Капитолины был тревожным, и говорила она, понизив голос, как заговорщица.
– Молитесь, молитесь, Капитолина Викторовна! Это утешает сердце.
Позднее Капитолина какое-то время находилась с ними вместе в эвакуации. Маленькой Эле запомнилось, как она шептала бабушке:
– Машенька мальчика родила. Я вижу и её и малыша, молюсь за них непрестанно. Они выживут!
Выражения лица соседки казалось Эле странным даже на фоне прочих лиц, озабоченных, угнетённых горем, отчаянных, тревожных и трагичных.
– Вася наш погиб, – сообщила она бабушке, – но Машенька назвала малыша Василием.
Она постоянно, понизив голос, что-то рассказывала о дочери:
– Слава Богу, молоко у неё есть, ребёночек не голодает. Молюсь за них с радостью! Мальчик вырастет, хороший будет мальчик! Я бы хотела, чтобы он стал священником. Чтобы обо всех нас помолился Богу.
Всё это отдавало неким безумием, как результата обрушившейся на людей катастрофы. Люди боялись разговаривать с Капитолиной Викторовной. Утешить её было нечем, к тому же она часто говорила про заключение, в котором находилась её дочь, а уж это было опасной темой.
Через месяц, после того, как Капитолина сообщила о гибели своего зятя, она получила официальную похоронку на него. Дата гибели совпадала с тем днём, когда К.В. уже сама знала об этом.
Бабушка наставляла маленькую Элю, что в жизни есть вещи, которые нужно непременно уметь делать, чтобы не пропасть, не потеряться и не зависеть от других людей. Следовало научиться читать, готовить еду, рукодельничать и обращаться с другими людьми. В пять лет Эля знала азбуку и читала простые детские книжки. Она также разбиралась во всех документах, хранимых бабушкой в особой сумочке. Знала, что вот это – бабушкин паспорт, а это метрики – свидетельства о рождении её и сестры. Ей были хорошо известны их продуктовые карточки. Она умела чистить картошку и экономно заваривать чай. С окружающими была вежлива, и не отличалась излишней детской доверчивостью. За время эвакуации им пришлось несколько раз переезжать с места на место в переполненных вагонах. Бабушка иногда прикалывала большой булавкой подол платья младшей внучки к своей юбке.
– Иветта такая вертушка! Её нельзя никуда отпускать! Может потеряться. Если со мной что-то случится, смотри, чтобы вы попали в один и тот же детский дом, – наказывала бабушка.
Когда девочки оставались одни, Эля привязывала руку сестренки к своей руке розовой ленточкой, чтобы та не убежала и не потерялась.
Бабушка пришивала ей и сестренке на их рубашонки с изнанки крестильные крестики. Не разрешала снимать эти рубашонки.
Из эвакуации они вернулись домой втроём. Дом, где они прежде жили, был сильно разрушен, и их поселили в другом месте в чужой квартире, где жили ещё две семьи. В комнате стоял круглый обеденный стол с двумя стульями, имелось старинное бюро и огромный сундук с коваными углами. Всё остальное, что когда-то находилось в этом жилом помещении, сожгли в печке-буржуйке те люди, которым пришлось здесь переживать блокадные дни. Эля, бабушка и сестра – все трое – спали на сундуке. Однажды Эля проснулась от того, что услышала чужие голоса.
– Надо же, – сказал кто-то, – дети так крепко спали, что даже не почувствовали, что бабушке плохо. Она, очевидно, умерла ночью, а они так и спали рядом с покойницей до самого утра.
Вид умершего человека не испугал восьмилетнюю девочку. В своей пока ещё не длинной жизни она повидала много смертей. Бабушку было жалко, так как она сознавала, ей будет очень не хватать близкого человека. «Они ничего не понимают, – думала Эля про соседей, – бабушка специально умерла тихо, чтобы нас не беспокоить. Она хотела, чтобы мы выспались».
Приехала вторая бабушка. Она жила в уцелевшем во время войны доме недалеко от Ленинграда.
– Как же мне забрать вас к себе? – сетовала бабушка Люба. – Если ко мне переедете, вашу комнату сразу отнимут, так и останетесь в деревне.
Впоследствии бабушка то несколько недель жила у девочек, а то забирала их на время к себе. Когда Эля пошла в школу, она ощущала себя абсолютно взрослой. Бабушка Люба не всегда могла оставаться у них, ведь ей следовало заботиться и о доме, и об огороде, который их кормил. Эля водила сестру в детский сад, самостоятельно делала уроки, убирала в комнате. Никто не хвалил её за это, это было само собой разумеющимся в соответствии с наказами покойной бабушки Елизаветы Григорьевны. «Умение справляться с бытовыми делами – признак воспитания и человеческого достоинства. Не надо жаловаться или кричать о том, как тебе неприятен вид невымытой посуды или не подметенного пола, нужно без всякого раздражения вымыть посуду и вымести пол. Да, помыть и подмести, вот и всё». Так учила маленькую внучку Елизавета Григорьевна Куулкинен (в девичестве – Амбросова), бывшая фрейлина Её величества.
Когда Эльвира заканчивала седьмой класс, бабушка Люба сказала:
– Что бессмысленно учиться в школе? Надо получать профессию, чтобы себя обеспечивать.
Было решено, что Эля пойдет учиться в педагогическое училище на воспитателя детского сада. Опыт воспитания младших у неё был уже достаточный.
Два дня Эля в оглушенном состоянии перебирала сохранившиеся в памяти эпизоды раннего детства. И она сама, и прочие люди представлялись ей при этом как бы издали, со стороны. Её собственные эмоции не включались, восстанавливаемые картины проплывали перед глазами без цвета и без звука. Она не могла припомнить, когда и куда подевались их рубашонки с пришитыми крестиками. Мучилась угрызениями совести и из-за того, что теперь потеряла связь с сестрой. Развязалась розовая ленточка, не выполнила наказ бабушки следить за сестрёнкой. Как теперь разыскивать Иветту?
Очевидно, люди, которые предложили Эльвире придти для телефонных переговоров через два дня, знали, что эти два дня ей будут весьма необходимы для предварительного осмысления всего произошедшего.
Встреча
– Эльвира! Доченька моя! Это я, твоя мама! – женщина на другом конце провода на другом континенте не смогла больше ничего сказать, она расплакалась. Затем Эля услышала мужской голос, отец тоже сильно волновался.
– Мы с мамой искали вас тридцать лет. Делали через Красный Крест ежегодно запросы в СССР. Нам сказали, что тридцатый запрос – последний, после этого поиски прекращают. И вот какое счастье – мы разыскали тебя!
Через три месяца она встречала мать в Шереметьево. В толпе прилетевших она увидела немолодую женщину, странно выделявшуюся из общей серо-черной толпы сограждан своим пальто в пеструю крупную клетку, стянутым на талии белым лаковым поясом, и белыми высокими сапогами. «Сразу видно, что иностранка, – подумала Эля, – у нас немолодые женщины предпочитают сдержанность в одежде. Да ещё и белые лаковые сапоги! Интересно, кто её встретит, наверное, из „Интуриста“ кто-нибудь». Ярко одетая женщина озиралась по сторонам. И вдруг она бросилась к ней:
– Эльвира! Доченька!
В Москве мать остановилась в гостинице, которую ей заказало туристическое агентство из Канады. Несмотря на приглашение Эльвиры и Глеба ночевать у них, каждый вечер Зинаида Степановна возвращалась в свой гостиничный номер. Она, запуганная в канадской туристической фирме предупреждениями, как вести себя в СССР, боялась нарушить что-нибудь из полученных инструкций. Да и увидев их крошечную квартиру, не хотела стеснять дочь и зятя.
Привезла фотографии:
– Это папа, это твоя сестра Виктория, а это братья – Антуан и Кристиан.
Они рассматривали фотографии, расспрашивали друг друга, рассказывали какие-то эпизоды. Но что-то оставалось непреодолимым. От волнения и психологического напряжения для осознания всего произошедшего Эля не могла избавиться от скованности. А мать тоже стеснялась. Она не знала, как вести себя со своей дочерью, самостоятельной взрослой замужней женщиной, выросшей в реалиях уже незнакомой ей послевоенной страны. Людей в жизни часто сближает не столько осознание степени родства, сколько пережитые вместе годы и события, а затем, позднее, вспыхивающие общие воспоминания о них. Но у матери и дочери здесь был провал, пустота. Им предстояло заново знакомиться и обретать друг друга. Интуитивно они не обозначали точкой отсчета момент разлуки. Рассказывая что-то о себе, каждая осторожно продвигалась из текущего настоящего глубже, в прошлое. Иных вопросов избегали, опасаясь задеть неизвестную рану или душевную ссадину. И Москва была для Зинаиды Степановны чужим городом, ведь она была здесь впервые. С обычным интересом любого туриста она осматривала московские достопримечательности.
Через три дня мать и дочь приехали ранним утром в Ленинград. Они вышли из здания Московского вокзала, и когда перед их взором сразу же от площади Восстания, от самого начала Невского вдали показался знакомый четкий шпиль Адмиралтейства, Эля почувствовала, как затрепетало у матери сердце. Оставив вещи в гостинице, они отправились бродить по городу. На Невском мать, достав из сумочки платок, сначала лишь украдкой промокала глаза, а когда дошли до Литейного, где жили до войны, слёзы так и полились. Все три дня она ходила по городу своего детства и своей юности пешком, ей не хотелось ездить в транспорте. Она не рассматривала этот «свой город знакомый до слёз», а прикасалась к нему, здоровалась с ним, ощущала его глазами, ногами. Она мало говорила. Нахлынувших чувств было так много, что она была не в состоянии выражать их словесно или как-то делиться ими. Её глаза были постоянно влажными. Эля смотрела на мать со стороны и ощущала трепет её сердца. Понимала, что она была поглощена бывшим, утраченным и безвозвратно ушедшим, что давнишние, переполнявшие её воспоминания были в эти минуты для неё значимее, чем то, что сейчас рядом с ней находилась её потерянная и найденная дочь.
Ей было не с кем встретиться в этом городе, хотя с того момента, как ей пришлось покинуть его, ещё не прошло сорока лет, необходимых для забвения. Здесь не было уже никого из тех, кого она знала когда-то, или кто мог бы вспомнить её. Уголки её памяти не могли трепетно отозваться на чье-то дружеское приветствие, оживиться радостными объятьями или взволнованным «а помнишь?». Никого! Ни знакомых детских лет. Ни школьных товарищей. Ни друзей юности. Знакомым и бесконечно родным ей был сам дорогой её город. И она не была для него чужестранкой.
Эрмитаж, Дворцовая площадь, памятник Петру, Исаакиевский и Казанский соборы – для каждого ленинградца не просто достопримечательности. Это часть их жизни. И городские мосты, и проспекты – всё это, знакомое и впитанное в душу с детства как само собой разумеющееся, считается своим, личным и общим знаковым пространством.
Именно родной узнаваемо-неузнаваемый Ленинград явился мостиком в отношениях матери и дочери. Город, где каждая родилась, где в разное время, но с одинаковыми впечатлениями от своего города у каждой прошли детство и юность, помог им почувствовать их общность. В этом особом пространстве, на одинаково знакомой территории, они, наконец, сердцем вспомнили своё родство, бросились друг к другу, осознав свою кровную связь. Наконец по-настоящему обнялись и расплакались.
На Глеба произвело впечатление, что привезенное матерью для Эли очень тёплое письмо от отца, начиналось с эпиграфа:
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Село.
Детские годы Ганса Куулкинена прошли именно там, в Царском Селе, впоследствии – Пушкино.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.