Текст книги "Дикие пчелы"
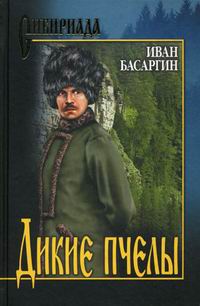
Автор книги: Иван Басаргин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
Утром снова встретил его Сонин, который нарочно стоял в прихожей. Бережнов достал две золотые пятерки, сунул ему, сказал:
– Молчи! Ох и сладка, язва! – тонко хихикнул.
– Купить хочешь? Не продаюсь. Пошли в кабак, просадим эту деньгу.
Ели, пили, забыли про торги. Сонин пел похабные песни, куражился перед кабатчиком. Сорвались мужики, как резвые кони с коновязи, и теперь взбрыкивают. Долго им придется отмаливать грехи.
– Не буду отмаливать. Любовное дело не грех. Это люд его выдумал. Убить человека – грех, украсть – грех. Пей, Ляксеич, и пойдем к бабам. Я человек непонятный, бога чуток боюсь, а самого на грехи тянет, как ворону на падаль. Не могу сказать, от ча такое? Эй, нищий, поди сюда, на рупь да помолись за мою грешную душу. А потом, Ляксеич, жизни-то отмерено с гулькин нос, потому жить надыть во всю ширь, со всего плеча. Не успеешь нагрешить, как уж пора умирать. Хочу и буду жить по велению сердца, а не по велению бога. Хочу воли, свободы! Пью за свободу! И не боюсь я ни бога, ни царя. Все они одним миром мазаны.
– Энто зря, зря не боишься бога-то. Царя – куда ни шло, а бога надыть бояться. Мало ли что? – осторожничал Бережное.
– Думаешь, бог меня держит в узде? Нет, ты держишь, ваша братия. Ты во сто раз богаче меня, но во столько же раз беднее. Нас смиряешь, себя смиряешь, а плоть-то не смиришь. Вот и ты стал блудником.
– Но ить я… ить она мне ндравится.
– Э, не виноваться. Мне баба без нраву не нужна. С того и любишь, что по нраву. Ить все подохнем! А меня, меня дажить можете хоронить без гроба, как похоронили Тарабанова. Плевать! Там пусто. Здесь жисть, здесь земная радость. Мне бы еще бабу Журавлева изведать, тогда и помирать можно. За одну ласку ба десяток бочек меду откатил.
…В деревне знали, что Сонин влюблен в Варвару. А Мефодий Журавлев спал и во сне видел его жеребца Коршуна. У этого коня, как говорил Сонин, два сердца. Он мог бежать десятки верст, не зная усталости. А резвей его не было в краю. За Коршуна купцы давали и пять, и десять тысяч рублей. Сонин не продавал. Зачем ему деньги? Он на скачках брал не меньше, да и гордость стоила тех денег. Вот Устину Бережнову он всегда мог дать Коршуна на разминку, посадить в бега вместо себя. Коршун любил Устина, а Устин его и того больше. Устин, как Алексей, никогда не брал в руки плети, если ехал на Коршуне. Стоило пощекотать за ушами, как Коршун вытягивался в струну и летел вольной птицей над землей. Распластается, не даст себя никому обогнать. Стоит трижды просвистеть Устину, как Коршун тут как тут. Коршун признавал Устина и хозяина. Больше никто никогда на его спину не садился.
Года два назад, осенью, сидели мужики на бревнах под окнами Сонина – у него всегда у дома валялись бревна, лузгали семечки, лениво перебрасывались словами. Искали зацепку, чтобы начать причащаться к медовухе. А тут и скажи Мефодий Журавлев:
– Эх, продал бы ты мне Коршуна, ничего бы боле в жизни не надо.
– То так, баба у тебя первая на деревне, еще бы коня – и все. Придется продать, мужик изнывает.
– Продай, Степаныч!
– Продаю, так и быть, давно ты мне проходу не даешь.
– Сколько? Счас кубышку растрясу!
– Сколько? Да даром, два рубля золотишком.
– Ты ошалел! Такому коню цена пять тышш! Окстись! – зашумели мужики. – А може, запалил жеребца, може, опоил?
– Ха, можно проверить. Мефодий, ты красивого араба купил – бег на десять верст, и мой Коршун того араба оставит на три версты позади. Ну, по рукам, Мефодий, спор на три бочки медовухи по пять ведер. Разбивайте, мужики!
Тут же и устроили бега. Коршуна повел Устий, араба – Журавушка. Но где там – за десять верст бега Коршун оставил араба позади больше чем на три версты.
– Хорош конь! Молодец! – трепали мужики Коршуна по холке.
– Что конь, это Устин молодец! – усмехнулся Сонин. – Срослись с Коршуном, вот и оставили с носом араба. Гони медовуху, дружище.
– Так сколько за коня-то? – суетился Журавлев.
– Два рубля золотишком и бабу твою на три ночки.
Грохнули мужики, схватились за бока, закатились в смехе. Все знали, как ревнует Варвару Мефодий, без него она ни шагу не сделает за ограду. Не любит, когда мужики таращат глаза на его красавицу: стройна, росла, походка мягкая, лицо чистое, глазищи готовы весь мир обнять, а губы будто переспелые яблоки – тронь и брызнут соком. И хитрющая улыбка, которая будто говорила: «Нате, я вся тут. Мефодий кто, Мефодий – теленок. Мне бы мужика посильней да ночку потемней…»
При виде Варвары мужики только покрякивали да чесали затылки. А Алешка Сонин ей в глаза говорил: «Эко, какие телеса тебе бог отвалил. А ить грешно, Варварушка, мужиков дразнить. На сеновальчик – и тышша твоих…» – «Не пойдет, Алешка, умрешь от моей ласки, оставишь бабу Катю вдовой. Да и жидок ты, поди мой-то кузнец глыбаст, клешаст. А ты – недородок… Мне бы кого посильнее…»
Вспыхнул Мефодий, сжал кулачищи, но сдержался. Молча прикатил три бочки медовухи на полянку, и началась шумная и разухабистая пьянка. Упилась вся деревня. Потом мужики боролись. Любит русский мужик силой помериться, но Фотей всех положил на лопатки.
Фотей и Евсей Бережновы едва нашли своего брата. Вытряхнули его, голенького, из постели продажной девки, поставили на ноги, а Фотей так жамкнул брата, что у Степана глаза из орбит полезли.
– Так вот ты чем тута занят? Прелюбодействуешь! А что над нами творишь? Спасибо Алексею Сонину, встретили его дорогой, он нам на ухо шепнул, где тя искать. Прознай про то люди, то в лоскуты бы тебя порвали. Никто не пикни, а сам!.. – рычал зверем Фотей.
– Всю эту богадельню разнесем! – ревел Евсей. Вырвал прут из железной койки, связал его узлом и швырнул в угол. – Вот так же тебя свяжут. А ты брысь отселева! – рявкнул на чернявочку.
Степан лишь мычал, мотал головой, вяло отбивался от братьев.
– Так слушай, бежала баба Уляша с бабой Безродного. Грозились они всю правду о нас рассказать. За ними гнались твои двоедушники, но у них убили коней.
– Что?! – враз пришел в себя Бережнов. – Поймали утеклецов?
– Нет. Наши сторожат их на вокзале. Они уже билеты купили на поезд. Поезда ждут. Обе с винтовками.
– Та-ак! Подай одежду. Дьявол попутал, уф! Погодите, погодите. Вчерась я видел здесь Баулина, он шибко зол на Безродную. Грозил мне, ежли, мол, буду держать ее у себя, то натравит на нас власти. Он говорил, что Груня раз стреляла в своего муженька, Хомин помешал убить, но в прошлом годе она нашла его в тайге и там уханькала. Любой из сельчан Божьего Поля будто бы подтвердит, что она каждый день набивала руку, стреляла из нагана, винтовки. С этой ниточки и почнем. У Безродной десять тысяч ассигнациями и пять золотом. Скажем, что эти деньги она украла у Алексея Сонина.
– А как Сонин откажется?
– Не откажется. Оба были вместях, чуть что, я его поприжму.
– Но и он может тебя тем же поприжать? – усомнился Евсей.
– Кто ему поверит? А потом Грунька поделилась на Устина. Устин даже ее поминал во сне. Отобьет, и потеряет Сонин зятя. Сейчас ноги в руки и искать Баулина. Он на гостином дворе стоит. К дружку какому-то приехал. Я побегу в полицию и сделаю заявление. Стребую, чтобы задержали утеклецов. Скажите Баулину, что, мол, словили птичку с золотым пером. Враз клюнет. Молодцы, что сами меня нашли. Об этом ни слова. Дело сладкое, но сами знаете… Цыц – и баста! Рачкина сюда. Ты, Фотей, к нему побежишь. Все обскажешь, пусть бумаги заготовит для дела.
Баба Уляша сидела на узле с вещами и зорко посматривала на дверь. Чуяло сердце старой, что кто-то за ними пристально наблюдает. Груня навалилась на плечо названой мамы, сон видела, будто идет к ней Федька Козин, тянет руки, зовет обратно. Но на пути его встал Устин, грозит своим винчестером. На Устина сверху упал огромный орел, схватил Устина и унес в сопки.
Показалось бабе Уляше, что она видела за окном бороду Степана Бережнова. Руки сжали винтовку. Достала патрон. Нет, баба Уляша живьем в руки не дастся, схватит Бережнов – убьет ее. А жить-то осталось… Прикроет собой негаданную дочку. Распахнулась дверь, ворвался морозный пар, а с паром ввалились в вокзальчик Исак Лагутин, Мефодий Журавлев, Венедикт Бережнов и сам голова – Степан Бережнов, с ними два полицейских. Идут на бабу Уляшу. Та чуть прикрыла глаза, будто спит.
Полицейский положил ей руку на плечо. Баба Уляша вскочила, закричала:
– Груша, убегай! Я их осажу! – вскинула винтовку, но кто-то снизу ударил ей по винтовке, грохнул выстрел, пуля тесанула по потолку, посыпалась известковая крошка. Скрутили. Звякнули наручники.
Груня вскочила с узла, сунула руки в карман, отпрыгнула к стене, выставила вперед браунинг, подарок пристава Баулина. А тут и сам Баулин ворвался.
– Вот она, убивица купца Безродного! Вяжите ее! Попалась, воровка! Теперь я с тобой рассчитаюсь!
Погорячился Баулин, незачем было ему говорить эти слова. Много раз смерть обходила его. Много…
Баулин рвал револьвер из кобуры, но не мог вырвать. Злая усмешка скользнула по лицу Груни. Она медленно подняла браунинг, плавно нажала на спуск, хлопнул выстрел. Баулин качнулся и начал оседать. Тонкая струя крови брызнула из головы. Упал. Затих. И полицейские и староверы тоже замерли. Боялись пошевельнуться. Голос Груни заставил их вздрогнуть:
– Вот еще одним бандитом стало меньше на земле. Возьмите мой браунинг. Отпустите маму Уляшу. Я сдаюсь.
Все обернулись к бабе Уляше. Она лежала на узлах, будто прикорнула на чуток. Была мертва. Не выдержало изношенное сердце, остановилось в страхе за свою названую дочь. Потянулись мужики к шапкам. Замерли перед бабой Уляшей. Про Баулина и забыли – надо ли помнить о таком человеке? Баба Уляша своей была. Умерла, унесла с собой многие тайны братии. Царство ей небесное.
Груню втолкнули в общую камеру, битком набитую проститутками, воровками, аферистками. Все они грязны, завшивлены, косматы. Спертый запах от людского пота и параши. Не продохнуть. А Груня, свежая с мороза, чистая, нарядная, остановилась посредине камеры деревянной спасской тюрьмы. Зашумел, заворошился вшивый клубок арестанток, они начали спрыгивать с нар, окружать Груню. Одна тронула колонковую шубку – хороша! Такой шубке на барахолке цена тысяча рублей. Другая потянула за конец пуховой шали – мягкая, теплая, ей тоже цена немалая. Третья наклонилась, тронула грязной рукой расписные пимы. Эко вырядилась, будто не в тюрьму собралась, а на свадьбу.
Груня застыла. Все еще перед глазами стояла баба Уляша, которую унесли и положили в розвальни. И эти страшные, оскаленные морды полицейских, Степана Бережнова. Ее толкали, вели по улице. Малышня сопровождала этот конвой и кричала: «Убивицу ведут, воровку поймали!»
В глазах потемнело, под сердцем сдавило, сперло дыхание. И даже когда кто-то снял с нее колонковую шубку, сдернул шаль, Груня все еще не пришла в себя. Но вот ее толкнули в грудь, посадили на нары и начали стягивать пимы. Очнулась, спал тяжкий сон, напряглась и увидела этот грязный ком людей: они визжали, царапались, рвались к Груне. Спешили раздеть ее донага. Груня пнула арестантку, снимавшую с нее пимы, в угол. Тихо, но с каким-то страшным шипением сказала:
– Отойдите, бабы, я только что пролила чужую кровь, могу еще пролить. А ну, грязные собаки, подайте мне сюда шубку, шаль, чтой-то холодновато у вас! – опалила арестанток огненным взглядом.
– Ну ты, шалава, не гундось! – Криворотая проститутка выхватила короткий кинжальчик из халата.
Груня спокойно посмотрела на криворотую, ответила:
– А ну подай-ка мне кинжальчик сюда! Ну! – двинулась на криворотую, и та сдалась.
– Это какая-то психопатка. – Легла криворотая на нары.
Раздался стук в стену, кто-то подавал таинственные сигналы. Одна из воровок их вслух переводила:
– «В первой камере сидит Груня Безродная. Она убила на вокзале пристава Баулина, самого преподлейшего человека. Кто тронет Груню, тот будет иметь дело с Кузей. Тебе, Сашка Кривой Рот, приказываю охранять и оберегать Безродную, или я тебе сверну еще и шею набок. Поняла?»
– «Пошел ты к черту, старый хрыч! Безродная сама кого хочешь обидит. Она из психических. Пусть уберут ее из нашей камеры. Убийцам – место в одиночке».
– «Заткнись, сука, или я тебе кишки на нож намотаю!»
– Верните хламье! С этим хрычом лучше не связываться.
Груня оделась, присела в углу под зарешеченным окном. Застыла в своем горе. Круто судит ее судьба, вырвалась из одних тенет, попала в другие.
– Кто эта баба? – спросил Гаврил Шевченок.
– Э, эта баба хлебнула горького до слез, – ответил Кузьма Кузьмин. – Мы с ней вроде из одного гнезда. Жила с мужем-убийцей, сгинул он. Дважды спасала меня от голодной смерти, даже от каторги спасла, куда хотел меня спровадить пристав Баулин. Раньше я был богач. Баба моя спалила дом Хомина, сама сдохла, все отобрали у меня. Стал нищ. Груня нищим подавала щедро, сама когда-то была нищенкой. Теперь вор. Побирушкой быть тягостно. Вором – куда ни шло. Меня им сделали люди… За убийство пристава – каторга. Да что там за убийство… Дай по мордасам полицейскому – тоже каторга, припишут тебе бунтарство, сопротивление властям. Пропала баба, убьет ее каторга. А ты чей и откуда? – спросил Шевченка Кузьма Кузьмин.
– Я переселенец, анучинский. Приехали сюда по казенному кошту. Десять ртов, тот кошт скоро съели. Посеяли хлеб, а его водой смыло. Ушел работать сюда на цементный завод. Думал поддержать семью. Старшой я в семье. А здесь тоже платят – едва самому прожить. Вот и бунтанули третьеводни. Меня поставили в голове бунта. Тоже могут сунуть на каторгу.
– На волю хочешь? Помогу бежать. Тут год назад сидели Коваль и Шишканов, я им помог бежать. Земляки.
– Как бежать?
– Просто. Сегодня мы и дадим драла. Наши парни выкуп за меня гоношат. В Яковлевке хотят обобрать лавку одного купчишки. Я тебя с собой прихвачу. Прокатимся с ветерком.
– М-да, а ты силен, дядя.
– Сильны мои парнищи. Собрал я в этом городе всех сирых и нищих и сколотил шайку-лейку. Живем ничего. Я им даю наставления, а они шуруют.
– Глупая ты баба! – поучала Сашка. – Любовь, любовь… А что в ней толку. Главное – деньги. Пока я красотой цвела, мужиков у меня было больше, чем в голове вшей. Деньги, водка… А с твоей красотой я бы с губернатором шашни завела.
– А ты на нее не шипи, – заговорила старая проститутка. – Разве у нас жизнь была? Тьфу! Плакать хотелось, а мы смеялись, тошнило от гнилого рта, а мы целуй. Она красива – мне от зависти глаза хочется ей вырвать. Даже тюремщики не стали на меня смотреть. Дожила.
– Не ной, все до того доживем. Если бы не Кузя, то я бы сделала из нее красавицу, – прошипела Сашка.
– А ты злая баба! – бросила Груня. – Я не из тех, кого можно обидеть. Подвинься! Лечь хочу, ноженьки не держат.
– Может быть, ты Груню освободишь, а я хоть откуда убегу, – не зная Груни, уже жалел ее Шевченок.
– Нет. Груню не освободить. Пристава убила. Тут и деньги не помогут: убила представителя власти.
– Но ведь меня могут схватить?
– Затаишься поначалу у наших ребят. Найди Федьку Козина, а потом Устина Бережнова – хороший парнище, всем норовит помочь, хотя Шишканова и Коваля под каторгу подвел его отец. Там все прознаешь, клубок мы ладный намотали. Сюда подвязались Макар Булавин, Черный Дьявол, моя баба, Хомин, Безродный, Степан Бережнов – всех не перечесть. Деньги тебе на дорогу дадим. Все! Сегодня твой побег.
4
Устин долго и мучительно приходил в себя. Он видел в кошмарном сне бороды, бороды, рожи полицейских, его били, пинали, куда-то волокли. Слышал долгий и протяжный крик Груни. Он тоже что-то кричал в ответ, звал ее к себе…
Побратимы вернулись с охоты. Арсе ушел к Федору Силову. Сойдут снега, снова они уйдут на поиски камней. Кого-то хоронили. Побратимы бросили таежную добычу, винтовки и побежали на кладбище. Хоронили бабу Уляшу. Побратимы спросили у своих, когда, мол, и как умерла баба Уляша?
– На днях, – тихо ответила баба Катя. – Занедужила и умерла, – отвернулась, чтобы не смотреть в пытливые глаза Устина, которые так и спрашивали, а где, мол, Груня?
– А где Груня Макова? – спросил он.
– Собралась и уехала, а тут вскоре умерла баба Уляша, – снова как-то неуверенно ответила баба Катя.
У Устина защемило под сердцем. Прищурился, в упор спросил:
– Ты можешь сказать мне правду, баба Катя?
– Ха, правду. Об ней спроси у небеси. Аминь. – Отвернулась, смахнула слезу с глаз, зашептала молитву. – Заходи под вечер.
Завела баба Катя Устина в лазарет и все как есть рассказала. Потемнел Устин, враз осунулся, тугие желваки заходили на скулах.
– Сгинула Груня, завтра суд, а потом каторга…
Под копытами захрустел ледок. Кто-то шибко проскакал по улице, стук копыт затих за поскотиной. Ночь. В сопках тоскливо выл волк, выплакивая свою тоску звездам. Вот волк выскочил на тракт, темной глыбой застыл на пути всадника. Но всадник даже не снял винтовки с плеча. Черный волк прыгнул на обочину и скрылся в кустах. И когда Устин отъехал с версту, вдруг остановился, прошептал:
– А ведь это был Черный Дьявол, – тронул коня и поскакал через сопки в ночь.
Игреньку оставил в Яковлевке, в Спасск уехал на почтовой тройке.
Бросился в уездный суд, но дорогу преградил полицейский. Устин сунул ему в потную руку золотую пятерку, вошел в зал. Выступал его отец. И то, что он говорил, Устин не сразу смог осмыслить: он видел только спину Груни, которая сидела на скамье с низко опущенной головой и даже не отрицала того, что говорил Степан Бережнов. А говорил он страшное, будто бы Безродная, она же Макова, украла у него деньги, убила своего мужа Безродного, пыталась увести за собой его сына Устина. Закачались судьи за высоким столом, люди, что сидели в зале, поплыл пол из-под ног, завертелся каруселью потолок. В глазах потемнело.
– Он все врет! Врет! Хоть он и мой отец, но все врет! – дико закричал Устин. Увидел, как к нему повернулась Груня, в ее глазах вспыхнула радость, она схватилась за грудь, замерла.
Устин бросился на отца, ударом в челюсть сбил с ног. К Устину метнулись полицейские. Одного он сбил кулаком, затем схватил скамейку и начал ею волтузить всех, кто под руку попадет, а попал под руку дядя Фотей, ему удар пришелся по спине; полетели Алексей Сонин, Исак Лагутин. Но на Устина прыгнул дядя Евсей, выбил из рук скамейку. И тут на Устина навалились, били, пинали, топтали, а потом куда-то понесли. Будто сквозь толстую стену, слышал он крик Груни, рев толпы, стук судейского молотка. Потом стало легко и тихо…
Удары сердца больно отдавались в голову. Болело все тело. Хотел крикнуть, позвать на помощь, но пропал голос. Открыл глаза. Веки тяжелые, в глазах тьма. Но вот сквозь эту тьму он увидел раскрашенный кубиками потолок. Услышал чьи-то торопливые шаги. Уж не Груня ли спешит ему на помощь? Нет, не Груня, над ним склонилась мать: губы сурово поджаты, в глазах плескалась злоба, она прошипела:
– Одыбался, щенок. Скажи спаси Христос нашей бабе Кате, вдругорядь из могилы вытаскивает. Супротив всех пошел. Погнался за сарафаном мирской бабы. Блудник! Знай я такое, то в утробе бы своей задушила. Отца бунтуешь сколько лет?
– За что? – прошептал Устин опухшими губами.
– Знать, не каешься? Аль забыл, что отца ударил, супротив нашей братии бунт поднял? Забыл? Вот оклемаешься, то все припомним. Воровку и убивицу защищать почал! Наших чуть под монастырь не подвел. Да и хотели тебя сунуть на каторгу, но наши же и откупили.
– Потому и откупили, что я мог правду сказать на суде. Зря не станут откупать. Звери вы, а не люди!
– Ах, так! – тупой удар по голове снова бросил Устина в забытье.
Очнулся. Резко поднялся, спросил:
– Где Груня? Груня где? – От острой боли в груди тело его облилось холодным потом.
– Груню бог прибрал, удавилась на споднем в тюрьме, – с усмешкой бросила Меланья. – Нашим же пришлось ее хоронить в тайге. Мы ить люди жалостливые.
Устин вжался в подушку. Все поплыло перед глазами, провалился в темноту, в голове звон, который враз рассыпался. Все. Тишина. Тьма…
Прибежала баба Катя, закричала:
– Ты ополоумела, мать Меланья, я его на свет тяну, а ты во тьму гонишь.
– Не тяни, такой сын мне не надобен. Забирай в свой лазарет. Или я его подушу.
– С тебя может статься. Скажи, когда ты перестала быть матерью?
– Покусился на нас, нашу веру отринул. Слышала, что он кричал в памороках.
– Праведно он кричал! Озверели мы! Озверели! Есть ли у вас сердца? Я мать своей Саломки, он наречен мне в зятья, но захоти он уйти с Груней, отпустила бы. Вы Груню сделали убивицей! Вы убили бабу Уляшу! Вы! Изыди, нечистая сила! Убийцы!
Степан Бережнов стоял за дверью и слышал запальчивый крик бабы Кати. Такой он ее не помнил.
– Алешка, Аким, Димка, где вы пропали? Понесли. Еще задушите ненароком. У-у, зверина! Опоить бы тебя борцом, – замахнулась лекарка на Меланью.
– Ну, ну, баба Катя, чего ты разошлась? – вошел Степан Бережнов.
– А ты, сатана, дьяволина, прочь с дороги, не то и я почну стрелять, как баба Уляша и Груня. Слова не трогают ваших душ, может, пули проймут. Прочь с дороги!
Степан Бережнов подошел к Устину, погладил его кудряшки, а потом круто повернулся и ушел на подворье. Вбежал в свою любимую боковушку, налил полный жбан медовухи и жадно выпил, еще зачерпнул, еще и еще. Хмель ударил в голову.
Меланья приоткрыла дверь, но тут же закрыла. Прошептала:
– Ради крепости нашей веры идет на такое двоедушие. Эй, парнищи, уберите оружье, топоры, что-то отец занудился. Не понес бы.
Хорошо знала Меланья своего супруга. Часто впадал в борьбу с самим собой. То ли трусил за свои неправедные деяния, то ли душа не принимала зла и корысти. Он в первый год после смерти великого наставника Амвросия, отца своего, не был избран наставником. Был избран другой человек. В кулачном бою убил Степан своего противника. Заложил в рукавицу свинчатку. Успел ее выбросить в снег, затоптали. Он неделю пил, носился с ружьем по деревне, гонял сатану. Потом его избрали наставником. Одыбался. Родилась дочь. Меланья увидела антихристову печать у нее на лбу и приказала бросить дочь в печь. Выполнил. Снова запил…
Отчего же он сейчас занедужил? Устина избили?… А может быть, самому полюбилась Груня, которую по его же воле бросили на каторгу? Эко путан мир, путаны души людские…
Пьет Степан Бережнов, заливает хмельным боль душевную. Ведь в Святом Писании сказано и это: «Не убий, не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй, возлюби ближнего, как сам себя…» Грохнул кулаком по столу, закричал:
– Ну, где же ты, дьяволина, душа восхотела поговорить с тобой! Приди!
– Ха-ха-ха-ха! – раздался громоподобный хохот дьявола. – Ежели есть нужда, то и поговорить можно. Но только без обмана говорить, будем как на духу.
– Кто есть дьявол?
– Дьявол есть порождение бога, дабы страшился человек адских мук, как страшится вор и убийца слуг царских. Бог создал и дьявола. Аминь, говорю я тебе. Ха-ха-ха! Налей-ка медовушки, чтой-то в горле першит. Философствовать будем или поначалу поговорим о деяних твоих?
– Только не ори, не глух, а потом наши могут услышать.
– Кроме тебя, никто не услышит. Что сделал ты хорошего в мире сем? Привел сюда своих людей, поднял первый пласт земли в этом забытом богом краю, взял под защиту инородцев, ибо сказано в писании, что люди рождены от Адама и одной все крови. Помогал, как мог, переселенцам, воевал с царскими ярыгами, на смерть шел против никонианцев. Ты был самим собой. Кем ты стал сейчас? Ты стал двоедушником, одной десницей караешь праведников, второй – привечаешь злодеев. Я понимаю тебя, Бережнов, ты хочешь оградить свою братию от мирской заразы. Но ты не оградишь. Зараза уже вошла в души вашей братии, и нет тех преград, кои бы ее остановили. Не только ты, но вся ваша братия уже нарушила одну из заповедей: «Не лжесвидетельствуй». Все здесь лжесвидетели. Ты стал убийцей, нет, не Тарабанова. Ты куда девал ту чернявочку из бардака?
– Выкупил.
– Сделал божье дело, выволок из грязи добрую душу. А потом, потом? Ха-ха-ха! Сейчас скажешь, что сделал по наущению дьявола. Ты ее убил в глухом логу и бросил тело на съедение зверям. Ты стал прелюбодеем, потом убийцей. Держал тело в чистоте – пал в грязь. «Не укради» – но ты украл у Груни Маковой все деньги, лжесвидетельствовал, что она воровка. Ха-ха-ха! А уж ближнего-то своего ты и вовсе ненавидишь. Все в тебе смешалось: сердолюбие и корысть, властолюбие и двоедушие. Ты стал звереть и терять разум. Хочу упредить тебя по-дружески – не рвись к власти, ибо и там ты обломаешь зубы и надорвешь душу.
– Стой, стой, не ори, ведь ты же, дьяволина, шепчешь праведное.
– Эхе-xe! Все-то ты хочешь свалить на дьявола. Не выйдет, Бережнов. Ты мне ответствуй, кто предал Христа? По-твоему, я об этом нашептал Иуде Скариотскому? Нет! Сердце ему так подсказало, страх пришел в сердце, а разум принял тот страх. Отвергли Христа его ученики, но он простил им это, потому что знал: не дьявол руководил их помыслами, а страх. Запутался ты, Бережнов, хочешь с моей помощью распутаться. Не выйдет. Кто рожден с каменным сердцем, с ним и умрет. Ты же рожден двоедушником, им и сгинешь! Ха-ха-ха! А уж двоедушников-то мы ладно мучаем в аду. Там, брат, стенания, скрежет зубовный, грешники кипят в смоле, жарятся на кострищах. Убить свою любовь – несть страшнее греха. Сердце твое струсило, что отринут тебя ваши, проклянут. За-ради любви, кою бог назвал прелюбодеянием, можно пойти и в ад. Там влюбленные любят во всю силу, ни огонь, ни смола им не страшны. Ха-ха-ха! Ты мне ответствуй, от кого идет любовь? Не знаешь, запутался. От меня, от дьявола. Да-да, а не от ваших паршивых ангелов. Но дети рождаются в ночи – от дьявола рождаются. Люди влюбляются в ночи – от дьявола, а не от игрушечных стрел ангелочков. Сволочь ты, Бережнов.
– Не сволочь, бо дам жбаном по башке – и нет тебя! Адом запугал.
– Да не пугаю я вас адом, им вас пугает бог. Не веришь, что ад – божий промысел? Так слушай: вначале бог создал небо и землю. С этого начинается Святое Писание. Земля была бесформенна, пустынна и погружена в вечный мрак. Всюду воды и только воды, а над ними носился дух божий. И сказал бог: да будет свет! Он отделил свет от тьмы и назвал днем… Говорить ли дальше, ведь ты все это читал?
– Да читал, все знаю назубок. На следующий день он сотворил свод посреди вод, разделил их на две части: на воды, которые были на земле под небом, и на воды, которые в виде туч повисли над землей.
– Хорошо, ладно ты зазубрил. А на плодородной равнине, лежащей на востоке, бог сотворил сад, райский сад. Вот с этого начался рай, а потом и Царство небесное. Но случились грехи. Адам и Ева, Каин и Авель… Так вот, когда грешников стало невпроворот, бог и создал для вас ад, а затем меня, дьявола, и мою чертовскую гвардию. Ох и гвардия у меня. Ха-ха-ха! Помнишь, на страже у ворот рая бог поставил херувима с огненным мечом? А на вратах у меня стоит рядовой чертик, коего я списал по старости лет. Ибо ко мне силой не рвутся. Ну и дураки! Сейчас врата в царство небесное сторожит ученик Исуса апостол Петр, коий струсил признаться, что он ученик Христа. Тоже двоедушник ладный. Но это уже божье дело.
– К чему ты пряжу эту сучишь? Говори, нечистая сила!
– А к тому, что ты навсегда мой. Где Макар Булавин? Тоже, дурак, ходит по райской обители. Умрет скоро его душа-то. Ведь в раю непроглядная скука. Души те слоняются от безделья, мрут как мухи по осени. Бога матюгают, дерутся с ангелами и архангелами. Да и бог мусорщиков гоняет ладно, бо те ленятся сметать с райских дорожек дохлые души, сваливать их в помойные ямы. Мы уже с богом обговорили, махнул он на тя рукой. Мол, делай, как знаешь: двоедушник Бережнов и христопродавец.
– Не долдонь, не пугай, лучше расскажи про свои Палестины. Может, и правда мне дорога в ад. Чем дохнуть в раю, так лучше рвать бороды попам в аду. Ить они больше, чем я, двоедушники.
– То так. Это я тебе позволю, потому как попы все у меня в аду. Расскажу тебе нашу притчу. Пришел, значит, царь Петр в рай, апостол Петр тут же ворота распахнул, бряк – и закрыл следом. Гля, там другие цари бродят, скучные. Свою родню встрел, начал расспрашивать что и как. Все в ответ, мол, скучища адская. Ну и взбесился тут Петр-то, заорал: «Мать вашу перемать, вы куда меня сунули? Где здесь работа?» Бога матом помянул. Иван Грозный было прикрикнул на него, мол, нельзя бога ругать. Но Петр так дал ему под зад, тот и полетел через всю райскую обитель. И Ивана-то душа хлипкая, навроде твоей. Двоедушничал, то да се. Но царь! Помазанник божий – что бы ни делал, ему рай уготован. Ну и пошел всех костерить. Сунулись на него ангелы – разбросал, двум-трем крылышки обломал. Бросился к апостолу Петру, выпусти, мол, сгину зазря. Тот не пускает. Он под дых Петру-то, своему тезке, потом по мусалам, вырвал с корнем врата и во весь дух полетел ко мне. С богом ссориться мне не с руки. Но уговорил я бога, выкатил ему две бочки адского вина. Он ить тоже не любит свое райское, кислое, хмельного маловато, а от моего враз голова кругом заходит. Прилетел и сразу спрашивает: нет ли, мол, у тя работенки пожарче? Есть, говорю, вон стоят котлы, в них души двоедушников. Вари, потом выцедишь их, бросай в смолу кипящую, из смолы да в печь огненну. Так и вываривай, пока не останется запаха двоедушия. А потом уж я распоряжусь, куда их девать. Эх, и обрадовался царь Петр, говорит, мол, мне эти двоедушники на земле надоели, но уж здесь-то позабавлюсь. Робит, шурует у котлов, ажно весь ад гудит. Вчерась мне пожаловался, мол, стало много подваливать двоедушников, мол, надо бы помощника посильнее подбросить.
– Эко страхи ты рассказываешь, сатано! Брысь отселева!
– Погоди, не гони. Хороша у тя медовушка-то. Тяжко у нас убивцам и двоедушникам. Остальные же живут и в ус не дуют, жрут адское вино, влюбляются, матерятся, дурят. Что там Содом и Гоморра? Так, пустяки. У меня, брат, все кипит, все клокочет. Вот тебя, например, я поначалу отдам Петру, он выварит из тебя двоедушие, потом кинет своим чертям. Они за убийство пожарят в печи, за лжесвидетельство повисишь ты на дыбе, да не бойся, просто зацепят твою душу за язык и повисишь сотню-другую лет, и все. А потом, потом начнется у тебя райская жисть, будешь пить, влюбляться. Любовь – это мое порождение. Начало ей дала змея-искусительница, а уж я прибавил чуток. Там ты будешь ревновать свою чернявочку, драться с соблазнителями. Да не шарахайся! Чем киснуть в этой небесной обители, так лучше поначалу вытерпеть все муки ада, а уж потом пожить по-людски.
– Эко страшно ты говоришь. Изыди, сатано! Боюсь!
– Не боись, привыкнешь, есть у меня такие души, кои уже прошли все муки ада, но все просятся, ежли застудятся, попариться в кипящей смоле, обжариться в печи огненной. Человеческая душа и сам человек ко всему привыкают.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































