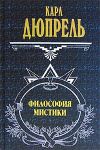Текст книги "Загадочность человеческого существа"
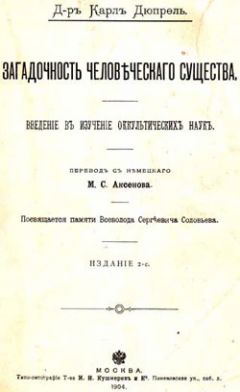
Автор книги: Карл Дюпрель
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 7 страниц)
Так как это новое миросозерцание находится в настоящее время только в периоде зачаточного образования, то в области наших воззрений на мораль продолжает царить рознь, отражающаяся на практической нашей жизни. Один томится фаустовской жаждой знания, до которого окружающим его людям так же мало дела, как до прошлогоднего снега; другой всецело поглощен мыслью о своем материальном благосостоянии и относится с полным презрением к науке и искусству; тот уходит от людей и делается траппистом или погружается в чистое созерцание и ведет растительную жизнь, а тот, увлеченный вихрем жизни, гоняется за призраком славы, не забывая и науку, так как наука – сила; наконец, подавляющее большинство проводит жизнь в погоне за чувственными удовольствиями и, как средством к пользованию ими, деньгами. В наше время всплыл на свет Божий так называемый социальный вопрос, являющийся в различных головах в различном виде: то в виде филантропии, то в виде слепой страсти к разрушению, то в виде мелочного тщеславия и желания заставить о себе говорить, как это имело место, например, у злодея Геделя или (обращаясь к вожакам) у сгоравшего тщеславием еврея Лассаля, бредившего о триумфальном въезде своем вместе со своей возлюбленной в Берлин (ведь кто не может быть героем, хочет быть хоть Геростратом). Несмотря на такое многообразие в нашем обществе тенденций, каждый из нас убежден в правоте соответствующего его миросозерцанию и мотивируемого им этим его миросозерцанием образа своих действий и тем доказывает справедливость высказанного нами положения, что рознь практической нашей жизни есть продукт розни нашей жизни теоретической.
К сожалению, даже разумнейшие сторонники социальной реформы убеждены в том, что она сводится на реформу политико-экономических воззрений. Но они впадают в логическое противоречие: ведь с убедительностью теоретического материализма будет расти и его практическая живучесть, а, следовательно, будет обостряться и борьба за существование, к смягчению которой стремятся социалисты. Конечно, смягчение борьбы за существование может быть достигнуто до некоторой степени путем внешних политико-экономических мероприятий; но они не в силах произвести главного, а именно такого изменения людей, при котором филантропия не нуждалась бы в дающем всегда чувствовать свой гнет внешнем принуждении. Социалисты, которым действительно не чужда моральная тенденция помочь бедным и несчастным, рано или поздно убедятся в том, что никакой материалистически окрашенный социализм не может радикально излечить социальную болезнь, что сделать это под силу только метафизическому миросозерцанию. Но в наши дни здание такого миросозерцания может быть воздвигнуто только на почве опытных явлений, почему в этом отношении на первом плане должно стоять признание только и вводящей в метафизику трансцендентальной психологии.
Существует очень много людей, оптимистически ослепленных нашей культурой, взирающих на все сквозь розовые очки и мнящих, что мы далеко ушли вперед по пути нравственного совершенствования, а потому и не видящих необходимости в каком бы то ни было новом миросозерцании. Но по более внимательном рассмотрении дела моральная окраска современной культуры рассеивается, как дым, превращается просто-напросто в законность деяний. Последняя определяется для образованных людей общественным мнением, а для необразованных – правительственной властью, уложением о наказаниях. Чтоб убедиться в том, что по исключении этих факторов наших деяний на долю моральных их факторов не остается ровно ничего, стоит только обратить внимание на те эпохи общественной нашей жизни, в которые имеет место, хотя и кратковременное, упразднение законности. В эти эпохи безраздельно царит бестиализм. Так было во времена «великой революции», когда по улицам Парижа расхаживали с пиками, увенчанными головами убитых, и когда эта столица всемирной цивилизации по мановению волшебного жезла спустилась на ступень культуры дагомеев. Что в такие эпохи имеет место падение устоев нравственности, это совершенно не верно; в них имеет место только падение истинного столпа современного сознания законности деяний – страха наказания.
Все сказанное доказывает настоятельную необходимость оживления в людях веры в метафизику, в которой мораль только и может почерпнуть новые силы. Внутренне обоснованная, а не навязанная извне, мораль должна получиться в результате метафизического определения человека, что также сводится на правильное решение загадки о человеке.
Обоснование морали представляет, конечно, труднейшую, хотя и прямейшую задачу философии, потому что человек – высшее явление природы, а мораль – высшая его функция. Инстинктивно мы ставим мораль выше образования. Мы почти не обращаем внимания на отсутствие образования у нравственного человека, тогда как лишенный нравственности гений действует на нас отталкивающим образом. Глупость вызывает в нас сострадание или смех, низость – негодование. Настоящим пробным камнем в деле оценки философских систем служит способность их к обоснованию морали.
Но нравственный инстинкт является в нас диссонансом, если заключить наше индивидуальное существование в пределы колыбели и могилы. Если бы путь нашего существования ограничивался видимой его частью, мы, сознательно идущие навстречу смерти, уподобились бы приговоренному к смерти преступнику, с той только разницею, что был бы длиннее путь к месту нашей казни и было бы нам не известно время ее. Некогда закон дарил приговоренным к смерти в последние дни их жизни исполнение их желаний. Так было, например, у древних греков. Мы же, если мы, подобно материалистам, будем смотреть на нашу смерть как на наше уничтожение, сами лишим себя подготовления к переходу в потусторонний мир.
Степень нравственного развития человека находится в таком же отношении к степени развития у него представления времени, в каком находится к ней степень его развития интеллектуального. Объяснимся.
Животное живет чувственно созерцаемым им настоящим. Немногим отличается от него номад: он не черпает для себя никаких уроков в прошлом и не готовит ничего для будущего. Стоящий же на высшей ступени лестницы земных существ культурный человек принимает в своей деятельности во внимание и прошедшее и будущее. Таким образом степенью развития у данного существа представления времени определяется занимаемая им в лестнице биологического развития ступень, а значит, и степень его интеллектуального развития: ведь прошедшее и будущее могут существовать субъективно только в виде абстрактных понятий, а способность образования последних и есть существеннейшая способность интеллекта; если бы процесс биологического развития на земле не достиг пункта образования на ней этой способности, не было бы места и человеческому интеллекту. В такой же точно зависимости, в какой развитие интеллекта находится от развития представления о земном прошедшем и земном будущем, находится развитие морали от сознания неземного прошедшего и неземного будущего. Мораль возможна для нас единственно в том случае, если мы не будем ограничивать всего пути нашего существования (этой проходимой нами в трансцендентальном пространстве гиперболической кривой) земной его частью, освещаемою чувственным нашим сознанием. Какое бы расширение ни приобрело в будущем наше представление о земном времени в обоих его направлениях (и в направлении прошедшего и в направлении будущего), оно послужит только ко благу нашего интеллекта и будет мотивом нашего стремления только ко благу нашего земного лица. Но это породит соответственно больший, чем существующий теперь, конфликт интеллекта и морали. Мы будем стремиться ко благу всего нашего существа, истинного нашего существа, мы будем стремиться к истинному благу нашему только тогда, когда сообщим нашему сознанию такое расширение, что будем обнимать им не только земное наше существование, но как предсуществование наше, так и загробное наше существование, когда снова признаем нашу метафизическую природу. При такой степени развития у нас представления времени, на такой высоте нашего развития вообще мы постигнем и то, что такое нравственный человек.
……………
……………
……………
Из сказанного следует, что опирающееся на трансцендентальную психологию учение о душе льет могучий свет и в практическую нашу жизнь. Что же касается значения его как теории, то оно разрешает, и разрешает в недосягаемой для всех остальных теорий степени, не только загадку о человеке, но отчасти и мировую загадку; благодаря ему мы имеем некоторое понятие о цели мироздания и знаем, что мир служит школой для духов, которым изгнание из трансцендентального рая может, пожалуй, принести большую пользу, чем пребывание в трансцендентальном раю.

Объяснение схемы
Человек живет одновременно двоякой жизнью: в потустороннем мире, как трансцендентальный субъект, и в посюстороннем мире, как земной человек. Оба эти существования различаются между собой и формой познания, и образом деятельности. Потусторонний и посюсторонний миры разделяются не пространственно, но отделены друг от друга только порогом сознания, почему чувственное сознание обнимает только земное существование. Потусторонний мир есть только своеобразно созерцаемый мир посюсторонний. Монистическое учение о душе дает доказательство тождества мыслящего и организующего начал в трансцендентальном субъекте; благодаря ему оккультные науки приобретают фундамент. Силы и способности трансцендентального нашего субъекта, насколько они сознаются нами в исключительных случаях нашей посюсторонней жизни (в сомнамбулизме) и вступают из потустороннего мира в посюсторонний (спиритизм), образуют объект оккультных наук. Кроме уразумения этих наук вышеупомянутое доказательство имеет важность, и особенную важность, для скептика по причине своей неуязвимости со стороны материалистических нападок.
Приложение
Отрывок из «Reden gehalten in naturwissenchaftliehen Versammlungen»
д-ра Карла Эрнеста фон Бэра
Мы получили от природы несколько вполне определенных мер времени, представляющих постоянно повторяющиеся периоды времени естественных явлений и потому почти насильственно нам ею навязываемых; таковы суть: год, месяц, сутки. Но основные меры времени, служащие нам мерами заимствуемых нами от внешнего мира мер, мы черпаем, и иначе поступать не можем, в самих себе. Народы, живущие без часов, т. е. без искусственной меры времени, обыкновенно меряют время промежутками между приемами пищи, т. е. попеременным возвращением голода и сытости. Точнее всего было бы производить субъективное измерение времени дыханием. Хотя я не знаю, употреблялась ли каким-либо народом эта субъективная естественная мера времени, тем не менее я не сомневаюсь, что обычная минимальная мера времени, называемая секундой и определяемая нами искусственно, дана нам нашей пульсацией, биением нашего сердца, совершающимся при нормальных обстоятельствах у взрослого здорового человека с математической точностью. Но настоящей основной мерой, которой орудует наше сознание, служит гораздо меньшая психическая мера, а именно: ею служит время, потребное для восприятия нами оказываемых на наши чувства внешним миром впечатлений. Вот почему секунда может показаться нам продолжительной, если мы в течение ее пребываем в состоянии напряженного ожидания. Это время служит мерой времени у всех народов, что воочию доказывается наименованием нами минимального времени мгновеньем, т. е. временем, потребным нам для того, чтобы мигнуть глазом. Оно же служило мерой времени и для древних народов. Римляне называли его momentum, а также punctum temporis. Punctum означает собственно укол, а потому punctum temporis должно означать время потребное для восприятия укола. Слово momentum производят от глагола movere, двигать; им, вероятно, обозначали время следующего за уколом отдергивания уколотого члена; этот латинский термин перешел и в новые языки.
Итак, скорость нашего чувственного восприятия или следующей за ним реакции нашего организма есть наша настоящая естественная мера времени. У сангвиника то и другое совершается скорее, чем у флегматика. Следовательно, первый живет скорее второго, т. е. он проживает в течение одного и того же времени больше, чем второй. Но у первого и пульс бьется скорее, чем у второго. У кролика пульсация совершается вдвое скорее, чем у человека, а у коровы вдвое медленнее. Значит, у кролика следование ощущений и движений совершается гораздо скорее, чем у коровы. Таким образом кролик в течение одного и того же времени проживает значительно больше, чем корова, живет значительно скорей последней. Здесь обращаем особенное внимание на то, что в течение одного и того же времени внешнего внутренняя жизнь различных организованных существ и одного и того же существа может протекать с различной скоростью, и что скорость нашей внутренней жизни служит основной нашей мерой времени, которой мы измеряем время при наших наблюдениях над природой.
Только потому, что эта основная наша мера времени (равная 1/6 – 1/10) есть наша естественная минимальная мера времени, нам и кажется, что минутно созерцаемый нами, хотя бы множество раз, предмет, например животное, есть нечто постоянное, неизменное по величине и по виду. Созерцаемое нами таким образом животное в действительности далеко не неизменно. Не только находится в непрестанном движении его кровь, но в течение одной минуты оно несколько раз вдохнуло кислород и выдохнуло углекислоту, путем транспирации потеряло много входящих в его организм веществ и вообще в этот период времени в его организме совершилось такое множество невидимых для нас изменений, что если бы мы наблюдали его вооруженные соответственной мерой времени, мы подметили бы и изменение в его внешнем виде.
Если мы теперь вообразим, что жизнь человека течет гораздо быстрее, чем то имеет место в действительности, то увидим, что все совершающиеся в природе процессы должны предстать пред ним в таком случае в совершенно ином виде. Разительнейшая разница результатов получится при допущении максимальнейшей разницы результантов. Теперь человек достигает глубокой старости, прожив 80 лет, или 29200 дней и ночей. Допустим же, что весь цикл его жизни совершался бы в 1/1000 этого времени. Тогда дряхлость наступала бы для него, когда ему было бы 29 дней. Но он ничего не потерял бы в своей внутренней жизни, если бы она текла в соответственной мере скорее, если бы его пульс бился скоре в 1000 раз. При таких допущениях он должен бы был, как и мы, воспринимать в промежуток времени между двумя ударами своего пульса 610 впечатлений, но он должен бы был воспринимать многое, нами не воспринимаемое, и наоборот. Он был бы, например, в состоянии совершенно свободно следить взором за пролетающей мимо его ружейной пулей, невидимой нами потому, что она меняет место своего нахождения слишком быстро, чтобы мы могли видеть ее в определенном месте; но он ничего не мог бы знать о смене времен года. Насколько же иной показалась бы ему наша природа? «Вот великолепно сияющее на небе светило, – сказал бы он в старости, – восходящее, на некоторое время заходящее, и затем снова на нем восходящее, чтобы изливать свет и тепло. Это я созерцаю уже 29-й раз. Но на небе было еще другое светило, которое появилось на нем, когда я был еще крошечным дитятею, и которое было сперва совсем узеньким серпом, но затем делалось все шире и все дольше пребывало на небе, пока сделалось совсем круглым, и тогда лило свет всю ночь, – свет хотя и слабейший, чем свет дневного светила, но достаточно яркий, чтобы указывать путь. Но это ночное светило стало уменьшаться и восходить все позднее, пока наконец не исчезло. Оно исчезло, и наступили черные ночи». Такой взгляд был бы вполне натурален со стороны существа, которое имело бы возможность мыслить и наблюдать только в течение месяца и родилось бы во время новолуния. Понятно, что о смене времен года такой месячный человек не мог бы иметь никакого представления; по крайней мере, он не мог бы почерпнуть о нем понятия из своего собственного опыта. Но если бы он мог воспользоваться в этом отношении опытом своих предшественников, например, так, как мы пользуемся опытом наших предшественников, т. е. путем предания и письменности, то он, если бы жил летом, услышал бы или прочел бы с изумлением, что были эпохи, в которые вся земля была покрыта белым, холодным веществом, снегом, вода находилась в твердом состоянии, деревья были лишены листвы и царил лютый холод, что затем стало тепло, потекла вода, зазеленела земля, оделись листвой деревья. Он, по всей вероятности, отнесся бы к рассказам об этом с точно таким же сомнением, с каким относимся мы к рассказам о том, что находящиеся в большей части нашего умеренного пояса следы указывают на то, что тысячи лет назад целые страны этого пояса были покрыты толстым слоем льда, и что, наоборот, содержащиеся в угольных пластах Гренландии остатки растений указывают на то, что было время, когда в ней царил тропический климат.
Идея о двадцатидевятидневной продолжительности жизни не заключает в себе ничего нелепого. Ведь есть множество органических существ (особенно это относится к грибам и инфузориям, лучше сказать, protozoa), далеко не достигающих такого возраста; что же касается насекомых, то если мы ограничим их жизнь периодом их полного развития, по отношению к которому все предшествующие ему периоды их жизни имеют только подготовительное значение, то увидим, что жизнь многих из них короче жизни гипотетического нашего существа. Многие эфемериды живут только несколько часов, даже несколько минут после последнего своего линяния.
Но вообразим себе, что человеческая жизнь текла бы еще скорее, скорее еще в 1000 раз. Тогда она равнялась бы 40 минутам и только в случае достижения человеком глубокой старости – 42 минутам. Если бы при этом не последовало никакого изменения во всей остальной природе, то она должна бы была показаться в этом случае человеку опять другой, чем она казалась ему в предыдущем случае. Такой эфемерно существующий человек не мог бы подметить роста травы и цветов, не говоря уже о деревьях; они должны бы были казаться ему неизменными. В продолжение своего существования он не мог бы составить себе ни малейшего понятия о смене дней и ночей. Если бы среди таких минутных людей явился философ, родившийся, например, в летний день, в 6 часов вечера, то он на склоне своей жизни сказал бы внукам своим: «Когда я родился, лучезарное светило, от которого, по-видимому, исходит всякая жизнь, стояло на небе выше, чем теперь. С того времени оно ушло на запад и все опускается. Надобно предположить, что сменится еще одно-два поколения, и оно исчезнет совсем. Тогда настанет царство сковывающего все холода, тогда настанет конец мира, по крайней мере – конец человеческого рода».
Какие же изменения в органическом царстве мог бы подметить человек, живущий 40—42 минуты? Мы уже сказали, что для такого человека были бы неизменными трава и цветы. В самом деле, ведь если бы он не употребил половины своей жизни (20—21 мин.) на исследование выхождения цветка из почки (что было бы томительно даже для нас, для наблюдателя же, для которого 20 минут имели бы такое же самое значение, какое имеет для нас дважды взятое такое же число лет, было бы томительно до невероятности), то он не подметил бы ничего в этом процессе. Такой человек не мог бы воспринимать, как движения, движения животных и отдельных членов их тела. Эти движения были бы для его быстро воспринимающего глаза слишком медленными, чтобы он мог созерцать их непосредственно. Об их существовании он мог бы узнать только опосредовано, путем умозаключения, подобно тому, как мы, не имея возможности непосредственно воспринимать своим глазом кажущегося движения небесных светил, заключаем о нем, основываясь на удалении и приближении их к нашему горизонту. Весь органический мир показался бы безжизненным такому человеку, если бы, например, подле него не прокричал воспринимаемым им голосом какой-нибудь представитель животного царства, и, в высокой степени вероятно, вечным показался бы он ему, существу, которое думало бы, что может предсказать закат солнца, но не имело бы никакого основания верить в его восход. Живыми казались бы ему только существа ему подобные, вследствие чего на него должна бы была чрезвычайно сильно влиять мысль о вероятной их с исчезновением солнца гибели. Как безутешна и скучна должна бы была казаться ему вся природа! Зато ему были бы доступны утехи иного, чем нам, рода. Конечно, такой человек не мог бы слышать всех слышимых нами звуков, если бы его ухо было организовано подобно нашему; но он мог бы воспринимать звуки, нами не воспринимаемые; он мог бы даже слышать свет, который мы теперь видим, если б его ухо было организовано соответственным для того образом. Мы слышим, как звучат тела, а вместе с ними и воздух, если они совершают не менее 14—16 и не более 48000 колебаний в секунду, т. е. в промежуток времени, заключающийся между двумя ударами нашего пульса. Мы не слышим ни более быстрых, ни более медленных колебаний. Из числа воспринимаемых нашим ухом колебаний быстрейшие называются нами высокими, медленнейшие – низкими тонами. Но, предполагая жизнь человека ускорившейся в 1000 раз, мы предполагали не изменившимся содержание его душевной жизни, полагая уменьшившимся в той же мере потребное для чувственного его восприятия время, равно как и соответственно ускорившимися все прочие процессы его жизни, и не изменившейся всю остальную природу. Значит, звук, совершающий 48000 колебаний в промежуток времени между двумя ударами нашего пульса и представляющий для нас самый высокий, какой мы можем воспринять, тон, совершал бы 48 колебаний в промежуток времени между двумя ударами пульса человека, который жил бы такой жизнью и принадлежал бы для него к самым низким тонам. Представляя себе затем минутного человека, мы мысленно ускорили все наши процессы еще в 1000 раз, т. е. представили себе наши жизненные процессы ускорившимся в 1000000 раз. Человек, живущий такой жизнью, не слышал бы, конечно, всех нами слышимых звуков; он слышал бы звуки несравненно более высокие, производимые несравненно быстрейшими колебаниями. Такие колебания, действительно, существуют в природе, хотя мы их и не слышим, а видим. Физики путем точнейших исследований свойств света пришли к заключению, что он производится бесконечно быстрыми колебаниями некоторого, наполняющего все мировое пространство и межатомное пространство всех тел вещества, называемого эфиром. Колебания этого эфира так быстры (их считают сотнями биллионов в секунду), что, конечно, они остались бы невоспринимаемыми нашим ухом, если б оно было даже в миллион раз восприимчивее, чем теперь. Но мы могли бы представить себе нашу жизнь ускорившейся в такой степени, что воспринимаемые нами теперь в качестве света и цветов колебания эфира сделались бы нами слышимыми, предполагая обладание нами достаточно чувствительным для их восприятия органом слуха. Но разве не может еще существовать в природе колебаний слишком быстрых, чтобы они воспринимались нами как звук, и слишком медленных, чтобы они воспринимались нами как свет? Согласно новейшим исследованиям, теплота, по крайней мере лучистая, производится колебаниями менее быстрыми, чем колебания эфира. И разве не может быть в природе еще иных колебаний, нами совсем не воспринимаемых? Это не нелепо, а до некоторой степени вероятно. Движутся планеты, в числе их и наша земля, со значительной быстротой в эфире, а следовательно приводится ими в движение и эфир; но это его движение несравненно медленнее световых его колебаний. Может быть в межпланетном пространстве существуют воспринимаемые не нашим ухом звуки, может быть существует воспринимаемая не нашим, а совсем иным ухом «гармония миров»…
Но мы можем совершенно оставить в стороне движения, которые могут существовать в мире, не будучи нами воспринимаемыми при теперешней нашей организации, и которые могли бы быть нами воспринимаемы при иной нашей организации. Нам важно представить вполне строгое доказательство только того, что если бы прирожденная нам мера времени была иной, была бы для нас совершенно иной и природа, совершенно иной не только со стороны продолжительности своих процессов или со стороны сферы своих на нас воздействий, но с качественной стороны.
До сих пор мы, оставляя неизменной жизнь внешнего мира, представляли себе ускорившейся, как бы сжатой человеческую жизнь. Представим теперь себе обратный процесс: представим себе жизнь человеческую замедлившейся, произведем мысленно ее растяжение. Допустим, что пульс наш бился бы в 1000 раз медленнее, чем теперь, и что для чувственного нашего восприятия потребовалось бы в 1000 раз больше, чем теперь, времени; соответственно этому конец нашей жизни наступал бы не в 80, а в 80000 лет. Так как с изменением заимствуемой нами из сферы наших жизненных процессов нашей меры времени изменяется и все наше миросозерцание, то при вышесказанном допущении период нашей жизни в один год имел бы для нас такое же значение, какое имеют теперь для нас 8 ¾ часа нашей жизни. Следовательно, мы могли бы тогда в течение не много более 4 часов нашего тогдашнего внутреннего времени созерцать, как растаял бы покрывавший зимой почву снег, вскрылись бы реки и зашумели бы ручьи, зазеленела бы трава и запестрели бы цветами поля, оделись бы листвой, принесли бы плоды и затем снова обнажились бы деревья. Тогда мы буквально созерцали бы рост, так как тогда наш глаз непосредственно воспринимал бы увеличение растений. Зато тогда многие процессы развития, например процесс развития гриба, остались бы для нас почти неприметными; мы заметили бы многие растения только по достижении ими полной стадии их развития, подобно тому как теперь мы замечаем струю бьющего вверх фонтана, подле которого стоим, только тогда, когда она достигла предельной своей высоты. В такой же степени должны бы были казаться нам при вышесказанном допущении эфемерными и животные, особенно низшие. Но что в особенности должно бы было породить в нас тогда идею о непрестанном универсальном изменении, так это было бы то обстоятельство, что тогда, в течение соответствующих периоду теперешнего летнего нашего времени четырех часов, день непрерывно сменялся бы ночью, светлая минута – полуминутой темной и солнце в течение одной минуты совершало бы весь свой по небу путь, а в следующую за ней полуминуту было бы нами невидимо. Тогда солнце при кажущейся быстроте своего движения должно бы было оставлять за собой огненную полосу, подобно тому как оставляют ее для нас за собой светящиеся метеоры.
Если мы мысленно замедленную, растянутую нами в 1000 раз жизнь человека представим себе замедленной, растянутой еще в 1000 раз, то увидим, что природа явится пред ним опять в ином виде. У человека, который жил бы такой жизнью, могло бы в течение года иметь место всего-навсего 189 восприятий, так как для каждого его восприятия потребовалось бы почти дважды 24 наших часа. При таких условиях мы не могли бы узнать ничего относительно правильной смены дня и ночи. Да мы не могли бы ни разу увидеть солнца как солнца; оно казалось бы нам, подобно тому, как теперь кажется нам совершающий быстрое круговое движение раскаленный уголь святящейся круговой линией, только светящейся на небе дугой, и так как свет оставляет в нашем глазу гораздо более продолжительное, чем мрак, впечатление, то эта дуга не исчезала бы для нас на небосклоне и ночью. Тогда относительно кажущегося движения солнца мы могли бы по большей мере замечать, особенно зимой, правильно возвращающееся моментальное ослабление света. Мы видели бы непрерывно вспыхивающую зарницу, и это еще вопрос, могли ли бы мы тогда при помощи всего своего глубокомыслия и всех своих научных средств узнать, что земля освещается вращающимся вокруг ее огненным шаром, а не огненным кольцом (что говорила бы нам видимость), восходящим и заходящим, смотря по времени года. Ведь нам непременно были бы тогда известны времена года, но они казались бы нам чрезвычайно быстротечными, потому что тогда в течение 31 ½ удара нашего пульса пред нами совершалась бы смена всех времен года. Тогда в продолжение 10 ударов нашего пульса (10 тогдашних внутренних наших секунд) мы видели бы в наших широтах землю покрытой снегом, затем в течение каких-нибудь 1 ½ удара его созерцали бы таяние снегов, в течение других 10 его ударов видели бы, как земля и деревья покрываются зеленью, вырастают всевозможные цветы и плоды, и, наконец, как в течение остальных его 10 ударов исчезают зелень, цветы, плоды и водворяется царство осени с ее дождями и стужей.
Я нарочно старался не наделять человека новыми способностями, которые давали бы ему возможность познания сторон природы, скрытых от него теперь. Ни разу я не наделил его каким-нибудь новым чувством, хотя и не подлежит сомнению, что у многих животных имеют место восприятия, отсутствующие у нас. Некоторые копытные чуют в степи присутствие на далеком от них расстоянии воды. Если так, то они должны обладать в высокой степени чувствительностью относительно направления распространения в воздухе водяных паров, которой мы обладаем в такой же малой мере, в какой обладаем и способностью ощущений ощутимых ищейкой тонких запахов. Ни разу я не наделил человека микроскопическим или телескопическим глазом насекомых, чтобы он лучше видел; ни разу я не наделил его способностью видеть от нас сокровенное, например, способностью следить взором за восхождением в растении почвенной влаги, как она подымается от клеточки к клеточке, например, в виноградной лозе, пока, наконец, дойдя до гроздей, не превращается там в сахар, или – способностью следить за тем, как кровью питаются и вместе с тем ее уничтожают части тела. Не наделял я его также способностью проникать во внутреннюю сущность вещей, постигать первую причину и конечную цель всякого процесса природы, всякого становления. Я брал человека таким, каков он есть, и только спрашивал, какой показалась бы ему природа, если бы он обладал другой, чем теперь, мерою времени.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.