Текст книги "Мобилизованное Средневековье. Том II. Средневековая история на службе национальной и государственной идеологии в России"
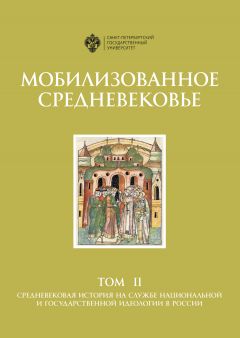
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
В поисках своего Средневековья: стихийный медиевализм постпетровской эпохи
Культурный поворот, который совершила Россия в результате Петровских реформ, вызвал к жизни новые способы осмысления русской истории и определения места этой истории в формировании облика новой страны, которую спустя столетие А. С. Пушкин назовет «Россией молодой». Дихотомия «Молодая Россия» – «Старая Русь» быстро стала устойчивым дискурсом эпохи, с помощью которого задавалась оптика восприятия прошлого, настоящего и будущего. Главным здесь был поиск в прошлом корней и причин происходящего сегодня, здесь и сейчас. Если бы люди того времени изъяснялись языком ученых XX в., они бы говорили о предпосылках текущих событий.
Для русских интеллектуалов до XVI в. прошлое и настоящее отличалось континуитетом и внутренним единством, а отклонения от «старины» нарушали положенный порядок вещей. В XVI–XVII вв. представления о континуитете сохраняются, но образ истории меняется. Новое проявилось в образе «лествицы» – это все еще единая, неразрывная история, но имеющая ступени, и эти ступени могут быть разными. На такое понимание большое влияние оказывали текущие события: династия Рюриковичей сменилась династией Романовых, раскол поставил вопрос о «древнем благочестии» и порядке, пришедшем ему на смену.
Но Петр, говоря словами П. Я. Чаадаева, в глазах современников и потомков «отрекся от старой России, вырыл пропасть между нашим прошлым и нашим настоящим»[423]423
Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего // Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989. С. 18.
[Закрыть]. Теперь прошлое можно было расценивать как причину наших сегодняшних проблем (отсталости, которую приходится преодолевать). Но была возможность и другой оптики, при которой в прошлом виделась «палитра возможностей», нереализованные ростки того, что приходится доделывать потомкам, забытые образцы успехов и добродетели. И тот и другой подход создавали стихийную предмедиевалистскую ситуацию: образ прошлого можно было выявить, переформатировать и интерпретировать в угоду актуальным целям и интересам современности. Собственно, этот процесс мы и наблюдаем в примерах проявления стихийного медиевалима в постпетровскую эпоху.
Разница в восприятии старой и новой России проявилась в лексике. Е. Погосян проанализировала употребление терминов «Русь» и «Россия» и показала, что «широкое вовлечение наименования “Россия” в обиход официальной культуры приходится на конец XVII – начало XVIII в.»[424]424
Погосян Е. Русь и Россия в исторических сочинениях 1730–1780-х годов // РОССИЯ / RUSSIA. Вып. 3 (11). М., 1999. С. 7.
[Закрыть]. Справедливо при этом отмечается, что это «факт идеологии»: слово «Русь» применялось к прошлому, а «Россия» – к недавнему прошлому и настоящему. Начала оформляться общепринятая терминология, применяемая к разным историческим периодам (и тем самым подчеркивалось их различие). Именно на вторую четверть XVIII в. приходится начало споров о происхождении Руси – споров, которые моментально выплеснулись за рамки чисто научных и приобрели политическое звучание.
В 1749 г. Петербургская Академия наук начала обсуждение знаменитой диссертации официального российского историографа Г. Ф. Миллера «О происхождении и имени народа Российского». 16 сентября 1749 г. «химии адъюнкт» Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) подал императрице Елизавете Петровне рапорт о неправильном содержании сочинения Миллера, в котором говорилось о происхождении государственности и самого имени «Россия» от варягов-скандинавов. Стоит заметить, что обращение Ломоносова в конечном счете имело успех – проведя почти два десятка заседаний, академики постановили уничтожить тираж диссертации Миллера и запретить ее публикацию. Она так и не была издана на русском языке[425]425
В 1768 г. Й. Гаттерер издал ее на немецком языке в германском городе Галле, причем Миллер заявил, что это было сделано «без ведома автора» (Доронин А. В. Древняя Русь до Древней Руси: М. В. Ломоносов о началах российской нации // Древняя Русь после Древней Руси: дискурс восточнославянского (не)единства. М., 2017. С. 359).
[Закрыть]. Этим было положено начало известных споров «норманнистов» и «антинорманнистов», причем, как мы видим, в ход сразу был пущен административный ресурс, вненаучные приемы ведения полемики, запрет на публикацию и т. д. Все это говорило о том, что трактовка Миллером древнерусской истории в 1749 г. была воспринята не как чисто научная проблема, а как злободневный политический выпад, попытка унизить Россию через искаженное изображение начал ее исторического пути. Перед нами медиевализм в чистом виде.
Запреты в мире идей не могут противодействовать их развитию, идеям можно противопоставить только другие идеи. Проблема была в том, что концептуально труду Миллера противопоставить было нечего: Россия к середине XVIII в. не располагала современной теорией своего происхождения. Легенда «Повести временных лет» о призвании варягов, Августианская легенда, «Сказание о Словене и Русе» или не удовлетворяли идеологическим и интеллектуальным запросам XVIII в., или порождали конфликтные интерпретации (вроде диссертации Миллера). Попытку создания теории происхождения российской государственности предпринял Василий Никитич Татищев (1686–1750). К 1739 г. он написал первый вариант своей «Истории Российской», к 1746 г. создал вторую, расширенную, редакцию, над которой продолжал работать до самой смерти. Труд Татищева был частично опубликован только в 1767–1784 гг., а его последняя часть была напечатана только в 1848 г. Тем не менее он важен как пример первого масштабного концептуального осмысления русского Средневековья в соотнесении с требованиями современной историку эпохи.
Первой линией, которую Татищев проводил с древности до современности – это изображение территории, вошедшей в Россию, бывшую изначально конгломератом великого множества разнообразных народов, которые ассимилировались друг с другом и в конце концов объединялись под единой властью Рюриковичей в их государстве. Это имперская ситуация. На такой территории с таким населением может возникнуть или множество мелких стран, воюющих друг с другом, или империя. Исторический путь России к империи Петра I органически вытекал из ее прошлого. Таким образом имперская идея обосновывалась в России впервые: не через династию и Божью волю, а через конструирование имперски разнообразного исторического пространства. Само название «Россия», по Татищеву, связано со словом «рассеяние», то есть является собирательным. Историк считал, что его придумал в XVI в. митрополит Макарий: «Начало же оного хотя весьма от древняго времени производят, но оно не прежде, как в конце царства Иоанна… Макарием митрополитом возставлено… Произвождение же его не потребно толковать, ибо всякому видно, что от раз-сеяния или пространства народа»[426]426
Татищев В. Н. История Российская: в 7 т. Т. 1. М.; Л., 1962. С. 287–288.
[Закрыть].
Вторая линия, которую Татищев обозначает в своих построениях, – происхождение народа. Народ росов – изначально неславянский. Варяги Рюрика, по Татищеву, – это финское племя. Славяне, росы, сарматы (генетически, по Татищеву, это финны) и татары объединяются в государство под названием «Русь», а его население получает общее имя русских (позже россиян). Его ошибочно связывали с библейским народом рос, а россиян столь же ошибочно выводили от сармат-роксоланов. Татищев здесь предлагает свою гипотезу возникновения русской/российской нации (без этого термина, естественно). При этом он объединяет в ней совершенно разные народы, но, что характерно, отрицая другие, актуальные этногенетические легенды того времени. Например, польский сарматский миф в построениях Татищева просто изничтожается, а поляки объявляются клеветниками России, чуть ли не укравшими ее историю. Русская нация оказывалась древнее польской и обладающей более весомым историческим багажом. Для продвижения империи на запад, на земли Речи Посполитой, эта аргументация была весьма востребованной. И показательно, что Татищев ее выдвигает, опираясь на средневековый материал и фактически присваивая сарматский миф.
Третья линия, ярко представленная в «Истории Российской» Татищева, – это конструирование прошлого в соответствии с актуальными политическими запросами. Как известно, его труд насыщен уникальными сведениями по древнерусской истории, которые больше не встречаются нигде. Считается, что в распоряжении Татищева были источники, не дошедшие до нас и отраженные только в его сочинении. Относительно их верификации в науке идут давние споры между сторонниками оригинальности и подлинности татищевских известий и скептиками, которые считают их вымыслом ученого. Не углубляясь в этот спор, который не имеет отношения к теме нашей книги, подчеркнем, что несомненен факт редактирования и «усовершенствования» Татищевым летописных известий для своей «Истории Российской» (что, как показал А. П. Толочко, видно из сравнения текстов источников с первой и второй редакциями текста)[427]427
Толочко А. П. «История Российская» Василия Татищева: Источники и известия. М.; Киев, 2005. С. 249–524.
[Закрыть]. Подлинность и уникальность этих сведений – вопрос отдельный.
Перед нами ситуация сознательного медиевализма, блестяще проанализированная А. П. Толочко (хотя термин «медиевализм» он не употребляет и через этот дискурс ситуацию не рассматривает). Автор отмечает, что «случай Татищева представляет собой уникальный… пример, когда историк вполне европейского типа мышления сознательно избирает формой своего труда средневековую летопись»[428]428
Там же. С. 262–263.
[Закрыть]. Через конструирование повествования в подражание летописи (где-то используя средневековые тексты, а где-то делая в них свои вставки, стилизованные под летопись) Татищев через свое сочинение декларировал идеи, которые Толочко назвал его idées fixes: общественного договора, просвещения и т. д. В духе времени, то есть в духе XVIII в., Татищев трактует отношения церкви и государства, вопрос о законах и законности в общественном развитии, проблемы экономического развития России. Все эти идеи и трактовки под пером историка получают свои подтверждения, поучительные примеры на средневековом материале. Толочко предполагает, что в некоторых случаях автор конструировал ситуации, понятные и злободневные для читателя XVIII в., но совершенно невероятные для Древней Руси (примером может служить так называемый «конституционный проект» князя Романа Мстиславича 1203 г.)[429]429
Там же. С. 288–328.
[Закрыть].
Парадоксален, но примечателен вывод, к которому приходит Толочко: именно благодаря своим «конструкциям» (употребим это слово, потому что термин «фальсификация» носит оценочный характер и не подходит для точной характеристики творчества Татищева) «Татищев оказывается в гораздо большей степени участником современного научного дискурса, чем знаменитые и более ученые историописатели следующего века… Татищев оказывается современным историком не благодаря случайности, не потому, что простодушно сохранил фрагменты древнего летописания, но потому, что он был историком достаточно хорошим, чтобы на заре критической историографии… предвосхитить… многие будущие дискуссии»[430]430
Там же. С. 522–523.
[Закрыть]. Эта живучесть в актуальной историографии свидетельствует о том, что Татищев стал первым русским успешным медиевалистом.
Рассматривая формирование русского национального дискурса с привлечением медиевальных сюжетов, необходимо обратить внимание еще на одного мыслителя XVIII в. – М. В. Ломоносова. Выше уже говорилось о роли, которую он сыграл в превращении вопроса об этнической принадлежности Рюрика и его варягов в политизированную «норманнскую проблему». После «рапорта» императрице Елизавете Ломоносов стал писать труд по российской истории, который был опубликован уже после его смерти, в 1766 г.[431]431
Ломоносов М. В. Древняя Российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года. СПб., 1766.
[Закрыть] Его целью было опровергнуть концепцию Миллера. По справедливому замечанию А. В. Доронина, главное, что возмущало Ломоносова у Миллера – фактическое умаление роли России среди европейских держав через отрицание древнего происхождения ее народа и утверждение о «заимствовании» государственности у «немцев». Этим идеям Ломоносов противопоставил тезис, что Русь происходит от времен библейских и возникла на основе единой этнической славянской общности. Тем самым утверждалась «преемственность Руси как единого древа до Петра Великого; сами славяне, а не кто иной, были у Ломоносова и творцами государственности российской»[432]432
Доронин А. В. Древняя Русь до Древней Руси: дискурс восточнославянского (не)единства. М., 2017. С. 360–361.
[Закрыть].
А. В. Доронин считает, что «дитя своего века и Отечества, Ломоносов попытался встроить Русь, продолжением которой в его представлении было Великое Московское княжество, наконец, Российскую империю в семью (первых и наиболее авторитетных) европейских наций… Ломоносов стал пионером в поисках российской (с корректировкой на эпоху, на ценности Просвещения) нации <…> спор между Миллером и Ломоносовым о варяжском наследии русской истории, по сути, маркировал… рождение самого мифа модерной российской нации»[433]433
Там же. С. 363–364.
[Закрыть]. Перед нами новый яркий пример русского стихийного медиевализма, когда обоснование актуальных политических и национальных идей происходит через концептуализацию средневековой истории. Эта история конструируется, воображается и мистифицируется. Ломоносов выстраивает единую линию преемственности исторической памяти от сарматов, которых он отождествляет с древними славянами, к россиянам, и именно благодаря этому российская нация в соответствии с европейскими схемами нациестроительства превращается в «воображаемое сообщество» по аналогии с теми, что были воображены западными книжниками Germania, Anglia и т. д. Говоря о Ломоносове, Доронин считает, что здесь, «укореняя славян в мифологизируемой им древности (Руси до-Киевской) и национализируя их “века средние” (получившие в историографии название Древняя Русь), он, подобно ренессансным авторам конца XV – начала XVI в., релятивирует трехчастную схему Петрарки». Он фактически создает русскую Античность, не уступающую возрастом Трое или Риму (сарматский период), а древнерусский период делает русским Средневековьем, между подлинной древностью (до Рюрика) и Россией новой – Россией Петра Великого[434]434
Там же. С. 366, 373, 379.
[Закрыть]. При этом Ломоносов отрицает «иноземное» происхождение Рюрика и варягов, считая их славянами, происходящими от сармат-роксоланов.
Как это часто бывает, и творчеству Татищева, и полемике Миллера и Ломоносова потомки придали несколько иной смысл, нежели сами авторы. Татищева обычно рассматривали как одного из первых российских историков Нового времени, в распоряжении которого были уникальные манускрипты, позже утраченные. Его политические взгляды трактовались исходя из его биографии, отношения к «заговору верховников» и т. д. В Ломоносове видели прежде всего патриота, который выступил против немецкого засилья в науке и противопоставил антирусской лженаучной норманнской теории новую историческую концепцию, которая утверждала древность и величие славянского народа, а также независимый характер возникновения Древнерусского государства. Несомненно, такие мотивы в творчестве Татищева и Ломоносова присутствовали, но рассмотрение их сочинений через призму медиевализма позволяет уточнить важные аспекты их взглядов и роль этих взглядов в становлении русского медиевализма как составной части развивающейся национальной идеологии. Во многом благодаря идеям Татищева и Ломоносова русское Средневековье историографически оформилось в отдельный период и приобрело идеологический статус, востребованный в следующую эпоху – эпоху романтического национализма.
Старообрядчество XVIII века и медиевализм
В продолжение второй половины XVII в. и особенно XVIII в. восприятие и адаптация западноевропейской культуры стали определяющими в общественной жизни России. Старообрядчество при этом незаметно меняло свой общественный статус. Если во второй половине XVII в. его сторонниками выступали представители столичного духовенства, светской и церковной элиты, то в XVIII столетии социальный статус старообрядцев заметно понизился. В период Петровских реформ определяющей стала ориентация на систему ценностей Западной Европы. Канонические споры со старообрядцами на глазах теряли свою актуальность. Старообрядцы были обложены дополнительным налогом (подушной податью в двойном размере), что фактически узаконило их существование[435]435
Анисимов Е. В. Императорская Россия. СПб., 2008. С. 118.
[Закрыть]. Казалось бы, это религиозное движение было обречено на вымирание, однако этого не случилось. И причиной тому, по-видимому, был новый протест, зародившийся в народной среде и направленный против формирования «благородного сословия», воспринявшего западноевропейский образ жизни, а также против имперской регламентации жизни подданных российского императора[436]436
См. об этом: Покровский Н. Н.: 1) Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. Новосибирск, 1974; 2) Книги Тарского бунта 1722 г. // Источники по истории русского общественного сознания периода феодализма. Новосибирск, 1989. С. 155–190; Покровский Н. Н., Зольникова Н. Д. Староверы-часовенные на востоке России в XVIII–XX вв. Проблемы творчества и общественного сознания. М., 2002. С. 115–141; Гурьянова Н. С.: 1) Крестьянский антимонархический протест в старообрядческой эсхатологической литературе периода позднего феодализма. Новосибирск, 1988; 2) Об отношении крестьян Филипповского согласия в XVIII в. к государственной власти // Литература и классовая борьба эпохи позднего феодализма в России. Новосибирск, 1987. С. 142–153.
[Закрыть].
История русской культуры XVIII в. являет собой наглядный пример постепенной вестернизации. Особенно этот тезис применим к культуре русской провинции. В начале столетия обиход русских монастырей был еще вполне средневековым: в их стенах продолжалась традиция иконописания и книгописания, составлялись агиографические и церковноучительные тексты вполне в традиции XVII в. Уже во второй половине XVIII в. ситуация изменилась, чему в немалой степени способствовали церковные иерархи украинского происхождения. Становясь во главе монастырских обителей и епархий, они «насаждали просвещение»[437]437
Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т. 1. Казань, 1914. С. 459–878.
[Закрыть]. Ярким примером такого рода деятельности может служить пребывание на древней Ростовской епархии выдающегося церковного деятеля Димитрия Туптало. Так, с его приездом в Ростов в архиерейском доме начались театрализованные представления[438]438
Софронова Л. А.: 1) Поэтика славянского театра XVII – первой половины XVIII вв.: Польша, Украина, Россия. М., 1981; 2) «Рождественская драма» Дмитрия Ростовского // Духовная культура славянских народов: Литература. Фольклор. История. Л., 1983. С. 97–108; Нехлебаева Н. А. Эволюция школьной драмы в творчестве Димитрия Ростовского // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Вып. 13. СПб.; Самара, 2007. С. 71–79.
[Закрыть]. Подчеркнем, что если для украинских ученых монахов такого рода просвещение считалось безусловным благом, то для местных жителей, по крайней мере для какой-то части из них, привносимые извне элементы барочной культуры вызывали протест и отторжение.
Следует иметь в виду еще и проходивший в течение XVIII в. процесс понижения социального статуса памятников средневековой литературы. Сборники житий, слов и поучений в XVI–XVII вв. имели хождение в самых разных социальных слоях Российского государства, от дворянства до горожан, о чем можно судить по владельческим и читательским записям на сохранившихся рукописях. В XVIII столетии эти сочинения прочно входят в круг чтения средних и низших социальных слоев – провинциального духовенства, купечества, горожан (так называемого посадского населения, позднее – мещанства) и крестьян. Высшие социальные слои, дворяне, интересовались уже литературой другого рода. Таким образом, носителями, а следовательно, и трансляторами средневековой культуры оказывались социальные низы, точнее – податные сословия соответствующих институций. Так хранителей средневековой культуры с каждым десятилетием оказывалось все меньше.
В этой ситуации тяготение к традиционному, исконно своему, местному, привычному с детства и освященному традицией приводило любителей древности к старообрядцам. С другой стороны, и старообрядчество XVIII в. становилось более традиционным (имеются в виду прежде всего старообрядцы Белокриницкого согласия). Старообрядцы выступали как знатоки и хранители древнерусской традиции, собиратели древних памятников письменности и иконописи. Именно от старообрядческой среды исходила полемика о правилах написания святых икон, критика «картин» XVIII в., апологетика «старого» иконописного стиля (под ним понимались образцы XVI–XVII вв., вплоть до Симона Ушакова)[439]439
Бусева-Давыдова И. Л. Русская иконопись от Оружейной палаты до модерна: поиски сакрального образа. М., 2019. С. 84–88.
[Закрыть]. Для изучаемой нами темы важно, что здесь опять-таки происходило противопоставление старого и нового, и старое апеллировало к Средневековью в данном случае как к художественному и сакральному идеалу.
Таким образом, в течение XVIII в. древнерусская культура как бы уходила в подполье, становясь достоянием той части населения, которая испытывала наибольшее притеснение и угнетение. Следует иметь в виду, что старообрядческое начетничество по своему происхождению было чрезвычайно близко к парадигме знания, свойственной для русского Средневековья. Чтение и усвоение прочитанного, причем в объемах как можно больших, формировало феномен знатока-начетчика, не склонного к анализу, но хорошо ориентирующегося в обширном и слабо организованном мире кириллической книжности. Начетчики выступали как систематизаторы этой традиции, без которых обращение к ней было бы затруднительным.
Наиболее радикальные слои беспоповского старообрядчества формировали своеобразную идеологию протеста против регулярного государства, и важным элементом этой идеологии становилась русская средневековая культура[440]440
Покровский Н. Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. Новосибирск, 1974.
[Закрыть]. Так, в кругах старообрядцев-«бегунов» во второй половине XVIII в. сложилась легенда о граде Китеже – пропавшем древнерусском городе-монастыре, доступном только благочестивым людям. Исторической основой для этой легенды и для ее литературного оформления, «Сказания о граде Китеже», стало житие владимирского князя Георгия Всеволодовича, погибшего в 1238 г. при нашествии Батыя на Русь. В «Сказании о граде Китеже» также действует князь Георгий Всеволодович, защищающий Русь от полчищ Батыя, однако он не погибает, а исчезает вместе со своим городом Китежем на дне озера Светлояр. Жизнь горожан на дне озера продолжается, обретая идеальные черты, и благочестивые люди якобы могут проникнуть в укрытый от реального грешного мира мистический город, воплощающий идеал Святой Руси[441]441
Кулагина А. В. Легенда о граде Китеже в свете экспедиционных записей XX – начала XXI века // Народные культуры Русского Севера. Фольклорный энтитет этноса. Вып. 2. Архангельск, 2004. С. 131–141; Чистов К. В. Русские народные социально-у топические легенды XVII–XIX вв. М., 1967. С. 249.
[Закрыть].
Появившись в среде старообрядцев-«бегунов», легенда о граде Китеже во второй половине XIX – начале XX в. была воспринята светской культурой, о чем ярко свидетельствует успех оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова. Писателей, композиторов, философов и читающую публику легенда привлекала именно запечатленным в ней образом скрытого идеала, каковым представлено Средневековье. Обаяние этого образа было столь велико, что видные представители литературоведческой науки XX в., например В. Л. Комарович, были убеждены в том, что в «Сказании о граде Китеже» отражены отголоски легенд домонгольского времени[442]442
Комарович В. Л. Китежская легенда. Опыт изучения местных легенд. СПб., 2013. С. 99–164.
[Закрыть]. В последней по времени академической антологии древнерусской литературы это произведение отнесено к памятникам XIII в.[443]443
Китежский летописец; Повесть и взыскание о граде сокровенном Китеже // Памятники литературы Древней Руси: XIII век. М., 1981; Легенда о граде Китеже / подгот. текста, пер. и коммент. Н. В. Понырко // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 5 / под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб., 1997. С. 168–183, 481–482.
[Закрыть] На дне озера Светлояр специальная экспедиция, организованная на государственные средства, искала остатки потонувшего города. В настоящее время на берегах озера проводятся неоязыческие радения, а само озеро остается местом православного паломничества. Нередки случаи «оползания» озера (когда паломники в буквальном смысле ползли вдоль берегов) – восстановленный обычай, практиковавшийся старообрядцами вплоть до XX в. Иными словами, и в наше время люди по-прежнему отказываются признать искусственным образ, созданный в «Сказании граде Китеже». Они пытаются доказать себе, что этот образ отражает реальность, что, впрочем, свойственно многим утопическим легендам, точнее, их воздействию на умы людей.
Утопизм был свойственен далеко не для всех старообрядческих толков, но восприятие древнерусского наследия как некоего эталона является важной отличительной особенностью старообрядчества. На этой почве в старообрядческой среде происходило конструирование своего представления о Древней Руси как о некоем идеальном пространстве. Эти идеи получат развитие в XIX в. Подобное конструирование было, если можно так выразиться, «неофициальной сферой» развития медиевализма. В рамках государства она не могла получить развития. Требовалось, чтобы медиевальными идеями заинтересовались монархи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































