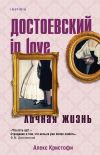Текст книги "Федор Достоевский. Единство личной жизни и творчества автора гениальных романов-трагедий"
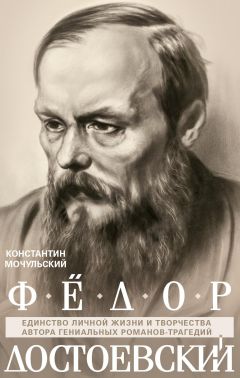
Автор книги: Константин Мочульский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Автор гордился тем, что в «Селе Степанчикове…» он вывел «два огромных типических характера». Это – Фома Фомич Опискин и «дядя» – полковник Ростанев. Русский Тартюф – Опискин где-то служил, пострадал за правду, занимался литературой, толковал с красноречивыми слезами о разных христианских добродетелях, ходил к обедне и даже к заутрене, отчасти предсказывал будущее и мастерски осуждал ближнего. «Представьте себе, – говорит рассказчик, – человечка самого ничтожного, самого малодушного, выкидыша из общества, никому не нужного, совершенно бесполезного, совершенно гаденького, но необъятно самолюбивого и вдобавок не одаренного решительно ничем, чем бы он мог сколько-нибудь оправдать свое болезненно-раздраженное самолюбие. Предупреждаю заранее: Фома Фомич есть олицетворение самолюбия самого безграничного, но… самолюбия оскорбленного, подавленного прежними неудачами, загноившегося давно-давно и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче». Ю. Тынянов в своей работе «Достоевский и Гоголь» убедительно показал пародийность этой фигуры. Весь докаторжный период творчества Достоевского прошел под знаком Гоголя. Он ученически подражал ему и боролся с ним. В споре Гоголя с Белинским принимал живое участие, и образ автора «Переписки с друзьями» преследовал его и на каторге. В «Селе Степанчикове…» писатель подводит итог своему «гоголевскому периоду» и беспощадно расправляется с тем, что был «властителем дум» его молодости. Фома Фомич – карикатура на Гоголя. Он тоже литератор, проповедник, учитель нравственности. Под его влиянием в эпилоге романа Настенька начинает читать жития святых и с сокрушением говорит, что «обыкновенных добрых дел еще мало, что надо бы раздать все нищим и быть счастливым в бедности». У своих московских друзей Гоголь везде находил тихое помещение, прислугу, стол с любимыми кушаньями. В доме Ростанева «полный комфорт окружает великого человека». Все ходят на цыпочках и шепчут: «Сочинение пишет!» Фома развивает программу двух статей из гоголевской «Переписки с друзьями»: «Русский помещик» и «Занимающему видное место». Его рассуждения о литературе пародируют статью Гоголя «Предмет для лирического поэта». Он проповедует спасительность страданий, прямо ссылаясь на Гоголя: «Про себя же скажу, что несчастье есть, может быть, мать добродетели. Это сказал, кажется, Гоголь, писатель легкомысленный, но у которого бывают иногда зернистые мысли».
Все приемы гоголевского проповеднического стиля комически преувеличены. В «Завещании» Гоголь писал: «Завещаю не ставить надо мной никакого памятника». Фома восклицает:
«Не ставьте мне монумента! Не ставьте мне его! Не надо мне монументов! В сердцах своих воздвигните мне монумент, а более ничего не надо!»
Гоголь думал своею проповедью спасти Россию, мечтал об аскетическом подвиге, о монашеской келье. Фоме Фомичу тоже предстоит подвиг: «написать одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия. А когда уже затрещит вся Россия, то он, Фома, пренебрегая славою, пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастии отечества».
В «Переписке с друзьями» возвышенный пафос сочетался с самыми низменными выражениями: встречались, например, подобные фразы: «Только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль». Проповедь Фомы в том же смешанном стиле; он заявляет: «Только в глупой светской башке могла зародиться потребность таких бессмысленных приличий».
Фома Опискин, действительно, «огромный типический характер». Бессмертная фигура русского Тартюфа навсегда вошла в нашу литературу, но тяжело думать, что для создания ее автор решился так несправедливо унизить своего учителя Гоголя. Издеваясь над его человеческими слабостями и погрешностями стиля, он не оценил громадного духовного и общественного значения «Переписки с друзьями». Между тем Достоевский был обязан Гоголю не только техникой своего словесного искусства, но и основанием религиозного мировоззрения. Мысли Гоголя о роли христианского искусства, об устроении общества на почве церковной соборности и о преображении мира путем внутреннего просветления человека были целиком усвоены Достоевским.
Другой «огромный характер», о котором говорит автор, остался в состоянии туманности. Полковник Егор Ильич Ростанев не «характер», а только набросок «характера». До окончательного воплощения этого замысла должно было пройти еще много лет.
Ростанев – богатырь: «высокий и стройный, с румяными щеками, с белыми, как слоновая кость, зубами, с длинным темно-русым усом, с голосом громким, звонким и с откровенным раскатистым смехом». Это человек утонченной деликатности, благородный и мужественный; доброта его не знает пределов. Всех людей он считает ангелами и готов все отдать, лишь бы «все были довольны и счастливы». Его горячее и чистое сердце живет восторгом. Когда племянник излагает ему свои гуманные идеи («в самом падшем создании могут еще сохраниться высочайшие человеческие чувства») и в заключение читает стихи Некрасова:
Когда из мрака заблужденья…
дядя приходит в экстаз. «Друг мой, друг мой, – сказал он растроганный, – ты совершенно понимаешь меня… Так, так! Господи, почему это зол человек? Почему я так часто бываю зол, когда так хорошо, так прекрасно быть добрым!» Восторженный монолог дяди о красоте природы напоминает «гимн» Дмитрия Карамазова. «Но посмотри, однако же, – говорит Ростанев, – какое здесь славное место! Какая природа! Какая картина! Экое дерево, посмотри: в обхват человеческий. Какой сок, какие листья! Какое солнце! Как после грозы-то все повеселело, обмылось! Ведь подумать, что и деревья понимают, тоже что-нибудь про себя чувствуют и наслаждаются жизнью… Дивный, дивный Творец!»
Вспоминаются письма Достоевского к брату из Петропавловской крепости: 17 деревьев в тюремном дворике, тоска по зеленым листьям, восклицание: «on voit le soleil». Все экстазы его героев связаны с этими природными знаками.
В фигуре смиренного и чистого сердцем Ростанева можно видеть первую попытку автора изобразить «положительно прекрасного человека». Она не удалась: дядя вышел слишком бесхарактерным и безличным человеком. Но в его душе уже загорелся «космический восторг» Дмитрия Карамазова. Еще и другая нить протягивается от «Села Степанчикова…» к «Братьям Карамазовым». Она связывает лакея Видоплясова с лакеем Смердяковым. Одна из самых зловещих и трагических фигур в мире Достоевского при первом своем воплощении носит характер комический. Но странно – даже и в этом шутовском обличье она не смешит. «Видоплясов был еще молодой человек, для лакея одетый прекрасно, не хуже иного губернского франта… Лицом он был бледен и даже зеленоват; нос имел большой с горбинкой, тонкий, необыкновенно белый, как будто фарфоровый. Улыбка на тонких губах его выражала какую-то грусть, и однако же деликатную грусть. Глаза, большие, выпученные и как будто стеклянные, смотрели необыкновенно тупо, и однако же все-таки просвечивалась в них деликатность. Тонкие, мягкие ушки были заложены из деликатности ватой. Длинные белобрысые и жидкие волосы его были завиты в кудри и напомажены. Ручки его были беленькие, чистенькие, вымытые чуть ли не в розовой воде. Роста он был небольшого, дряблый и хилый, и на ходу как-то особенно приседал». Он, как и Смердяков, жил в Москве, презирает деревню, пишет стихи, «Вопли Видоплясова», нахватался идеек. «Все отличительные люди говорили, – заявляет он, – что я совсем на иностранца похож, преимущественно чертами лица». Культуру он воспринимает по-лакейски, как «деликатность» и щегольство, сходит с ума от чувства собственного достоинства и желает переменить свою фамилию на более изящную, вроде: Олеандров, Тюльпанов, Эссбукетов. Герои Достоевского характеризуются прежде всего речью; все незабываемые интонации резонера Смердякова уже даны в «лакейской речи» Видоплясова. «Неосновательная фамилия-с, – рассуждает тот. – Так-с. Изображает собой всякую гнусность-с. Это подлинно-с, что через родителя моего я, таким образом, пошел навеки страдать-с, так как суждено мне моим именем многие насмешки принять и многие горести произойти…»
Видоплясов благоговеет перед «философом» Фомой Фомичом. Помещик Бахчеев говорит племяннику Ростанева: «А только он [Фома] у дядюшки вашего лакея Видоплясова чуть не в безумие ввел, ученый-то твой! Ума решился Видоплясов-то из-за Фомы Фомича». Так намечаются будущие отношения между лакеем Смердяковым и «ученым братом», «философом» Иваном Карамазовым. Отметим, наконец, в «Селе Степанчикове…» один, брошенный мимоходом намек на драматическую ситуацию, из которой в «Братьях Карамазовых» вырастает большая сцена свидания двух соперниц – Грушеньки и Катерины Ивановны. В ней идиллия примирения заканчивается разрывом после того, как Грушенька просит «ручку барышни»… и не целует ее. В «Селе Степанчикове…» бедный чиновник и добровольный шут Ежевикин, при знакомстве с племянником Ростанева, тоже просит «ручку». «Раздался смех… я было отдернул руку, этого только, кажется, и ждал старикашка. „Да ведь я только пожать ее у вас просил, батюшка; если только позволите, а не поцеловать. А вы уж думали, что поцеловать? Нет, отец родной, покамест еще только пожать… А вы меня уважайте: я еще не такой подлец, как вы думаете“»[31]31
Ежевикин принадлежит к семейству «добровольных шутов», родоначальник которого – Ползунков, в рассказе того же имени. Члены этого семейства: Мармеладов в «Преступлении и наказании», Лебедев в «Идиоте», Лебядкин в «Бесах» и Федор Павлович Карамазов в «Братьях Карамазовых».
[Закрыть].
Среди гостей, собравшихся в усадьбе Ростанева, «всех более выдавалась на вид одна престранная дама, одетая пышно и чрезвычайно юношественно, хотя она была далеко не молодая, по крайней мере, лет тридцати». Старая дева Татьяна Ивановна, прожившая всю жизнь у «благодетельниц» и испившая до дна чашу унижений, получила большое наследство и помешана на женихах. Кроткая, мечтательная, великодушная «дурочка» ждет своего суженого; он – «идеал красоты», «всевозможное совершенство», художник, поэт или генеральский сын.
«Лицо у нее было очень худое, бледное и высохшее, но чрезвычайно одушевленное. Яркая краска поминутно появлялась на ее бледных щеках, почти при каждом ее движении… Мне, впрочем, понравились ее глаза, голубые и кроткие, и хотя около этих глаз уже виднелись морщинки, но взгляд их был так простодушен, так весел и добр, что как-то особенно приятно было встречаться с ним».
«Дурочка» Татьяна Ивановна – первый очерк «юродивой» Марьи Тимофеевны в «Бесах»; м-ль Лебядкиной тоже лет тридцать… «На узком и высоком лбу ее, несмотря на белила, довольно резко обозначились три длинные морщинки… Когда-нибудь в первой молодости это исхудавшее лицо могло быть и не дурным; но тихие, ласковые серые глаза ее были и теперь еще замечательны; что-то мечтательное и искреннее светилось в ее тихом, почти радостном взгляде». Она тоже мечтает о суженом, ждет своего Ивана-царевича. Татьяна Ивановна кокетливо бросает розу к ногам племянника Ростанева. Достоевский чувствовал, что роза символически связана с образом бедной помешанной. Он сохранил ее и для своей «хромоножки». Марья Тимофеевна приезжает в церковь с розой в волосах.
«Село Степанчиково…» – перевал на пути Достоевского: гоголевская дорога пройдена до конца; вдали открывается перспектива романов-трагедий.
В январе 1858 г. писатель подал прошение об отставке и просил разрешения вернуться в Россию. Высочайший приказ об увольнении его состоялся только в марте 1859 г. Ему не было позволено жить в столицах, и местом жительства он выбрал Тверь. 2 июля он выехал из Семипалатинска. В письме к ротному командиру А. Гейбовичу Достоевский описывает свое путешествие: «В дороге со мною было два припадка, и с тех пор забастовало… Погода стояла преблагодатная, почти все время путешествия тарантас не ломался (ни разу!), в лошадях задержки не было… Великолепные леса пермские, а потом вятские – совершенство… В один прекрасный вечер, часов в пять пополудни, скитаясь в отрогах Урала, среди лесу, мы набрели, наконец, на границу Европы и Азии. Превосходный поставлен столб с надписями и при нем в избе инвалид. Мы вышли из тарантаса, и я перекрестился, что привел, наконец, Господь увидать „обетованную землю“». В Казани он пробыл десять дней, ожидая денег от брата; побывал в Нижнем на ярмарке; посетил Сергиев монастырь. «23 года я в нем не был. Что за архитектура, какие памятники, византийские залы, церкви! Ризница привела нас в изумление». В Твери снял квартиру и начал поджидать брата. Михаил Михайлович приехал в сентябре. «То-то была радость… Много переговорили. Да что! не расскажешь таких минут. Прожил он у меня дней пять».
В Твери писатель тоскует по Петербургу. «Тверь – самый ненавистнейший город на свете», – пишет он брату. Работает он беспорядочно; задумывает новый роман «с идеей» и собирается писать его целый год, не спеша; предполагает переделать повесть «Двойник» и издать свои сочинения в трех томах; советует брату «рискнуть и взяться за какое-нибудь литературное предприятие, журнал, например». Но главное его желание – поскорее вернуться в Петербург. Он пишет Врангелю, Тимашеву, Долгорукову, самому государю. Наконец разрешение получено, и в декабре 1859 г. Достоевский возвращается в столицу. Он покинул ее ровно десять лет тому назад.
Глава 9
«Записки из мертвого дома»
В записной книжке Достоевский наметил литературные планы на 1860 г.: «1) Миньона, 2) Весенняя любовь, 3) Двойник (переделать), 4) Записки каторжника (отрывки), 5) Апатия и впечатления». Никаких заметок на тему «Миньоны» не сохранилось, но образ героини гётевского романа «Вильгельм Мейстер» невидимо присутствует в творчестве писателя. Из Твери он сообщает Михаилу Михайловичу о замысле «двух больших романов»; тот ему отвечает: «Милейший мой, я, может быть, ошибусь, но твои два больших романа будут нечто вроде Lehrjahre Вильгельма Мейстера. Пусть же они и пишутся, как писался Вильгельм Мейстер, отрывками, исподволь, годами. Тогда они и выйдут так же хорошо, как и два гётевых романа». Соперничество с Гёте чувствуется в «Униженных и оскорбленных»: литератор Иван Петрович не менее связан с биографией автора, чем Вильгельм Мейстер с жизнью самого Гёте; образ Нелли вдохновлен образом Миньоны. Идея романа Гёте – отказ от личного счастья ради служения ближнему – несомненно повлияла на концепцию «Униженных и оскорбленных». Имя Миньоны встречается и позднее в записной книжке Достоевского; работая над «Идиотом» и «Бесами», он не оставлял мысли о создании «русской Миньоны». Переделка «Двойника» ограничилась некоторыми сокращениями первоначального текста; из «отрывков» «Записок каторжника» получилась целая книга: «Записки из Мертвого дома»; от «Апатии и впечатлений» не сохранилось следов, но план «Весенней любви» дошел до нас в нескольких вариантах.
Богатый князь путешествует со своим нахлебником «писателем». Они останавливаются в провинциальном городе, где князь разыгрывает «человека с убеждениями»; его окружает подобострастное уважение всего общества. Он начинает волочиться за невестой какого-то убогого чиновника; та отдается ему, веря, что он женится на ней и спасет ее от ненавистного жениха. Но князь боится повредить своей карьере. Писатель жертвует собой и женится на опозоренной девушке. В этом наброске уже проступают черты героев «Униженных и оскорбленных»: князь – Алеша, писатель – Иван Петрович, «невеста» – Наташа. «Либеральничение» князя унаследует Алеша Валковский; позже этот мотив будет разработан в «Скверном анекдоте».
В вариантах намечены темы: женитьба чиновника на «грехах князя», пощечина оскорбителю; женитьба самого князя; вражда между князем и писателем. Все это еще неясные намеки на некоторые ситуации в «Бесах» (Степан Трофимович полагает, что его хотят женить «на грехах» Ставрогина; пощечина Шатова; женитьба Ставрогина; вражда между Ставрогиным и Шатовым).
Идея издания ежемесячного журнала возникла у Михаила Михайловича Достоевского еще в 1858 г.; возвращение в Петербург Федора Михайловича ускорило ее осуществление. 1860 г. был полон для братьев Достоевских трудов и хлопот по подготовке журнала; вырабатывалась программа, завязывались литературные связи, подыскивались сотрудники, заготовлялся материал. Федор Михайлович при всей этой журнальной суете находил время для работы над двумя произведениями: «Записками из Мертвого дома» и «Униженными и оскорбленными».
К этому же году относится его недолгое увлечение актрисой Александрой Ивановной Шуберт; старый друг Достоевского, доктор Степан Дмитриевич Яновский, женился на актрисе Шуберт, отец которой был крепостным. Достоевский, друг семьи, принимает участие в семейной драме. Шуберт не ладит с мужем и уезжает от него в Москву. Писатель мечтает написать «комедийку, хоть одноактную» и поднести ее артистке «в знак своего глубочайшего уважения». Он едет в Москву утешать ее и, вернувшись, нежно просит простить его «за назойливость в дружбе». В последнем письме он уверяет, что в нее не влюблен, но эти уверения написаны в галантно-влюбленном тоне: «Я откровенно вам говорю: я вас любил очень и горячо, до того, что сам вам сказал, что не влюблен в вас, потому что дорожил вашим правильным мнением, и, Боже мой, как горевал, когда мне показалось, что вы лишили меня вашей доверенности; винил себя. Вот мука-то была!.. Я так рад, что уверен в себе, что не влюблен в вас! Это дает мне возможность быть еще преданнее вам, не опасаясь за свое сердце. Я буду знать, что я предан бескорыстно. Прощайте, голубчик мой, с благоговением и верою целую вашу маленькую, шаловливую ручку и жму ее от всего сердца». «Благоговение» не вполне подходит к «шаловливой ручке»; «бескорыстная преданность» кажется слишком игриво-галантной.
Достоевский в роли утешителя жены своего друга Яновского напоминает писателя Ивана Петровича, в двусмысленном положении утешителя Наташи и друга ее жениха Алеши («Униженные и оскорбленные»).
В Омском остроге писатель вслушивался в речь каторжников и записывал меткие словечки, поговорки, народные выражения. В письме к брату после выхода из тюрьмы он писал: «Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров!.. Сколько историй бродяг и разбойников… На целые томы достанет». В 1856 г. он сообщает А. Майкову: «В часы, когда мне нечего делать, я кое-что записываю из воспоминаний моего пребывания в каторге, что было полюбопытнее. Впрочем, тут мало чисто личного». Записи прерываются на три года. Для «возвращения в литературу» эта тема кажется ему опасной; он пишет «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково…». Осенью 1859 г. в Твери возникает план «книжки». «„Записки из Мертвого дома“, – пишет он брату, – приняли теперь в голове моей план полный и определенный. Это будет книжка листов в шесть или семь печатных. Личность моя исчезнет. Это – записки неизвестного; но за интерес я ручаюсь. Интерес будет наикапитальнейший. Там будет и серьезное, и мрачное, и юмористическое, и народный разговор с особенным каторжным оттенком (я тебе читал некоторые из занесенных мною на месте выражений), и изображение личностей – никогда не слыханных в литературе, и трогательное, и, наконец, главное – мое имя…»
«Записки из Мертвого дома. Роман в двух частях» стал печататься в 1860 г. в газете «Русский мир». Первые главы были перепечатаны в журнале братьев Достоевских «Время», и весь роман был напечатан в нем в течение 1861 и 1862 гг.
А. Милюков пишет в своих воспоминаниях («Литературные встречи и знакомства»): «Сочинение это выходило при обстоятельствах довольно благоприятных; в цензуре веял в это время дух терпимости, и в литературе появились произведения, какие недавно еще были немыслимы в печати. Хотя новость книги, посвященной исключительно быту каторжных, мрачная канва всех этих рассказов о страшных злодеях и, наконец, то, что сам автор был только что возвращенный политический преступник, смущало несколько цензуру, но это, однако же, не заставило Достоевского уклониться в чем-нибудь от правды, и „Записки из Мертвого дома“ производили потрясающее впечатление; в авторе видели как бы нового Данте, который спускался в ад, тем более ужасный, что он существовал не в воображении поэта, а в действительности».
Достоевский правильно учитывал фактический интерес своего произведения; рассказ бывшего каторжника о том неведомом и страшном мире, из которого он только что возвратился, приобретал в глазах читателя историческую достоверность. Автор постоянно подчеркивает характер свидетельского показания: он-де описывает просто и точно все, что видел и слышал сам. Фикция рассказчика, уголовного преступника Александра Петровича Горянчикова, не может обмануть: всюду слышится голос самого Достоевского, очевидца событий. Вторая фикция – отсутствие «личного элемента», столь же условна, как и первая. Правда, автор выставляет себя в роли мореплавателя, открывшего новый мир и объективно описывающего его географию, население, нравы и обычаи. «Тут был особый мир, ни на что более не похожий, тут были свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи, и заживо мертвый дом, жизнь – как нигде и люди особенные». Но это описание совсем не сообщение ученого путешественника. И приемы и цель автора иные; «объективность» только средство для достижения большого впечатления; фактическая достоверность ставится в основание достоверности художественной. Деловитость и протокольность стиля усиливает иллюзию документальности. Достоевский с огромным мастерством строит из своих личных впечатлений, чувств и оценок «особый мир» каторги и художественно убеждает нас в его реальности. На первый взгляд кажется, что творца не видно за творением; но, присмотревшись к творению, мы замечаем, что все оно – откровение личности творца.
«Записки из Мертвого дома» построены необыкновенно искусно. Описание жизни тюрьмы и нравов арестантов, разбойничьи истории, характеристики отдельных преступников, размышления о психологии преступления, картина острожного быта, публицистика, философия и фольклор – весь этот сложный материл распределен свободно, почти беспорядочно. Между тем все детали рассчитаны и частности подчинены общему плану. Принцип композиции «Записок…» не статический, а динамический. Автор набрасывает быстрыми чертами широкую картину: крепость, острог, земляной вал, казарма, тюремный двор, работы в мастерских или на берегу Иртыша; арестанты, их внешность, занятия, нравы; из толпы заклейменных и закованных в кандалы людей выделяется несколько характерных лиц; первое утро в остроге; разговор за чаем; кутеж и пьянство; вечер – соседи по нарам: их истории; размышления о «Мертвом доме» (главы 1–4). Это – впечатления первого дня тюремной жизни. Далее идет рассказ о первом месяце пребывания в остроге; возвращается тема работы на Иртыше; описываются новые встречи и знакомства; изображаются наиболее характерные сцены из жизни каторжников. Потом – история первого года сосредоточивается в нескольких живописных эпизодах: баня, праздник Рождества, спектакль, Пасха. Во второй части резюмируются события последующих годов. Временная последовательность почти исчезает. Такова перспектива повествования: передний план (первый день) ярко освещен, и все детали отчетливо нарисованы, второй план (первый месяц) освещен слабее и представлен в общих чертах; и чем дальше уходят планы – тем шире обобщение. Многопланная композиция соответствует замыслу: острог неподвижен, это застывший в безысходности «Мертвый дом», но автор движется; он спускается по кругам ада: вначале – он внешний наблюдатель, схватывающий только наиболее резкие и поражающие черты, потом – участник в жизни тюрьмы; наконец, он проникает в тайные глубины этого мира, по-новому осознает виденное, переоценивает первые впечатления, углубляет свои выводы. Возвращение к уже затронутым темам объясняется движением от периферии к центру, с поверхности в глубину. Угол зрения постепенно меняется, и знакомые картины освещаются каждый раз по-новому.
Каторжный люд характеризован речью. Смесь народных говоров всех концов России с воровским жаргоном полна своеобразной выразительности. Она насыщена пословицами, поговорками, сентенциями и меткими сравнениями. Автор отмечает любовь народа к словесным прениям, к находчивым ответам, к художественной брани. Ругань в остроге почти никогда не переходит в драку; в ней арестанты находят своего рода эстетическое удовольствие. Вот пример такого словесного поединка:
– Одна была песня у волка и ту перенял, туляк!
– Я-то, положим, туляк, а вы в вашей Полтаве галушкой подавились.
– Ври! Сам-то что едал! Лаптем щи хлебал.
– А теперь словно черт ядрами кормит.
– Я и вправду, братцы, изнеженный человек; с самого сызмальства на черносливе да на пампрусских булках испытан, родимые же братцы мои и теперь еще в Москве свою лавку имеют, в прохожем ряду ветром торгуют, купцы богатеющие…
– Да тебя и теперь вместо соболя бить можно…
– Голова зато дорого стоит, братец, голова!..
– Да и голова-то у него не своя, а подаянная. Ее ему в Тюмени Христа ради подали, когда с партией приходил…
Эта крепкая и образная речь свидетельствует об острой наблюдательности и мрачном юморе угрюмого и насмешливого каторжного люда.
Картины жизни острога поражают суровой силой. Достоевский погружает свои сцены в зловещий мрак и ярким неживым светом внезапно освещает несколько искаженных клейменных лиц, бритых черепов, фигур в арестантской куртке, одна половина которой темно-бурая, другая – серая. Общеизвестен рассказ о тюремном спектакле, на котором разыгрываются народные пьесы «Филатка и Мирошка» и «Кедрил-обжора»; незабываемы очерки о праздновании в остроге Рождества, о «претензии», заявленной каторжниками по случаю дурной пищи, о побеге двух заключенных, но истинным шедевром изобразительного искусства является описание бани, «просто дантовское», по выражению Тургенева. Нарочитая сухость тона, спокойная зарисовка деталей усиливают впечатление:
«Когда мы растворили дверь в баню, я думал, что мы вошли в ад… Пар, застилающий глаза, копоть, грязь, теснота… На всем полу не было местечка в ладонь, где бы не сидели, скрючившись, арестанты, плескаясь из своих шаек… Веников пятьдесят на полке подымалось и опускалось разом; все хлестались до опьянения. Пару поддавали поминутно. Это был уже не жар: это было пекло. Все это орало и гоготало при звуке ста цепей, волочившихся по полу… Грязь лилась со всех сторон. Все были в каком-то опьянелом, в каком-то возбужденном состоянии духа; раздавались визги и крики… Обритые головы и распаренные докрасна тела арестантов казались еще уродливее. На раскаленной спине обыкновенно ярко выступают рубцы от полученных когда-то ударов плетей и палок, так что теперь все эти спины казались вновь израненными. Страшные рубцы… Поддадут – и пар застелет густым, горячим облаком всю баню, все загогочет, закричит. Из облака пара замелькают избитые спины, бритые головы, скрюченные руки, ноги…»
Контрастом к этой инфернальной оргии служит трогательное описание говения арестантов на Страстной неделе. На фоне «адского» мрака – весенний свет наступающей Пасхи. «Арестанты молились очень усердно, и каждый из них каждый раз приносил в церковь свою нищенскую копейку на свечку или клал на церковный сбор. „Тоже ведь и я человек, – может быть, думал он или чувствовал, подавая, – „перед Богом-то все равны“. Причащались мы за ранней обедней. Когда священник с чашей в руках читал слова: „Но яко разбойника мя прийми“, – почти все повалились в землю, звуча кандалами, кажется, приняв эти слова буквально на свой счет».
Эта «изобразительность», это «виденное и слышанное» образует наружный пласт «Записок…». Новый, особый мир открылся перед пораженным взором писателя. Но он не ограничивается описанием поверхности; он стремится пройти сквозь нее вглубь, понять «закон» этого мира, проникнуть в его тайну. Конкретное для него лишь оболочка духовного, образ – отправная точка движения идей; изображение переходит в истолкование. Динамика построения раскрывается в философском осознании опыта «Мертвого дома».
Сама жизнь устроила для Достоевского эксперимент, из которого выросла его философия. Первые впечатления от каторги были испуг, удивление и отчаяние; понадобились годы, чтобы поверить в новую действительность и понять ее. И вот постепенно – все страшное, чудовищное и таинственное, что окружало его, стало яснеть в сознании. Он понял, что «весь смысл слова „арестант“ означает человека без воли» и что все особенности каторги объясняются одним понятием «лишение свободы». Казалось, он мог знать это и раньше; но, замечает Достоевский, «действительность производит совершенно другое впечатление, чем знание и слухи». Автор не преувеличивает ужасов каторжной жизни: работа в мастерских не показалась ему слишком тяжелой; пища была сносной; начальство, за немногими исключениями, гуманным и благожелательным; в остроге разрешалось заниматься любым ремеслом. «Арестанты, хотя и в кандалах, ходили свободно по всему острогу, ругались, пели песни, работали на себя, курили трубки, даже пили вино, а по ночам иные заводили картеж». К физическим страданиям (шум, чад, вонь, холод) можно было привыкнуть. Мука каторги не в этом – она в неволе… Сделав это открытие, писатель возвращается к своей характеристике товарищей по несчастью и углубляет ее. В первой главе он отметил их страсть к деньгам, теперь (в пятой главе) он ее объясняет: арестант жаден к деньгам и кровавым потом, с величайшими опасностями добывает копейку; но после долгих месяцев накопления в один час прокучивает все свои сбережения. Почему? Потому что кутежом он покупает то, что «считает еще одной степенью выше денег. Что же выше денег для арестанта? Свобода или хоть какая-нибудь мечта о свободе». «Он может уверить себя хоть на время, что у него воли и власти несравненно больше, чем кажется… Наконец, во всем этом кутеже есть свой риск, значит, все это имеет хоть какой-нибудь призрак жизни, хоть отдаленный призрак свободы. А чего не отдашь за свободу?» Из тоски по свободе вытекают все особенности характера каторжников. Арестанты большие мечтатели. Оттого они так угрюмы и замкнуты, так боятся выдать себя и так ненавидят болтунов-весельчаков. В них есть какое-то судорожное беспокойство, они никогда не чувствуют себя дома в остроге, тяготятся работой, потому что она принудительная, враждуют и ссорятся между собой, так как сожительство их вынужденное. «Между арестантами, – говорит автор, – совсем не замечалось дружества, не говорю общего, это уж подавно, а так частного, чтоб один какой-нибудь арестант сдружился с другим… Это замечательная черта: так не бывает на воле». Люди, лишенные свободы, томятся, заводят бессмысленные ссоры, работают с отвращением. Но если им позволят проявить свою инициативу, они сразу преображаются. «Уроки» в мастерских всегда исполняются до срока, на спектакле актеры показывают массу выдумки и таланта. В праздник, приодевшись, они чувствуют себя людьми, как все, становятся деликатно-вежливыми и приветливыми. А какая радость и оживление царят в остроге при покупке гнедка! Арестанты понимают свою ответственность за общее дело, торгуются, исследуют лошадей, совсем как «вольные люди». Мотив свободы проходит через всю книгу; все построение определяется этим идейным замыслом. В конце записок рассказывается о раненом орле, который жил на тюремном дворе. Арестанты отпускают его на волю и долго смотрят ему вслед. «„Вишь его!» – задумчиво проговорил один. „И не оглянется! – прибавил другой. – Ни разу-то, братцы, не оглянулся, бежит себе!“ – „А ты думал благодарить воротится?“ – заметил третий. – „Знамо дело – воля. Волю почуял!“ – „Свобода, значит“. – „И не видать уж, братцы“. – „Чего стоять-то? Марш!“ – закричали конвойные, и все молча поплелись на работу…»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?