Текст книги "Властелин Урании"
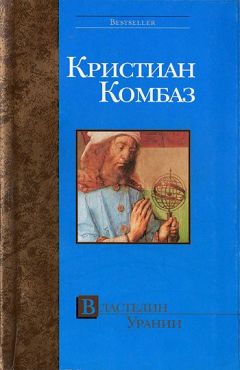
Автор книги: Кристиан Комбаз
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
«Я проглядел несколько страниц из книги этого итальянца, – обронил хозяин, – он мне когда-то давно присылал ее, весьма туманное сочинение, и название самое подходящее: «De umbris» – «О тенях».
Посланец герцога, занятый пожиранием медового пирога, облепившего ему пальцы и склеившего усы, казалось, не расслышал его слов и продолжал распространяться о бытии Господа нашего, сквозящем в основе всего сущего, и образ его неотделим от Природы, хоть и предстает искаженным в предметах низких либо испорченных. Было бы заблуждением утверждать, что Бог присутствует вне Творения либо над оным. Нет, он – само Творение. Оно не может быть завершено, ибо Господь бесконечен. Таким образом, «желание сосчитать небесные тела столь же тщетно, как попытка принудить их к неподвижности».
Как ни мало я знал о трудах Сеньора, не имевших иной цели, кроме как посчитать звезды и определить их неизменное положение, я мог понять, насколько эти речи должны его тяготить. Но я также сознавал, что его наружная бесстрастность – знак того, сколь важна для него поддержка герцога.
По правде говоря, у хозяина уже не было выбора – он должен был понравиться приближенному монарха, чтобы заручиться его заступничеством перед молодым королем. Увы, посланец герцога, промочив горло, прибавил: «Этих новых идей достаточно, чтобы отправить нашего молодца в венецианскую тюрьму, где он ныне и пребывает. Нам повезло, что мы живем при более милосердных законах, не правда ли?»
Осознав свою ошибку, Сеньор побледнел, сделал знак, что общее веселье может и подождать, и велел музыкантам пойти подкрепиться.
«Вы, разумеется, правы», – сказал он германскому гостю.
Но продолжать не решился. Ведь придворный не только принял его за единомышленника Бруно, а и предупредил какие последствия ждут в Италии тех, кто высказывает столь нечестивые мнения. Как явствовало из письма венецианского астронома Маджини, Бруно в это самое время притянут к суду инквизиции за то, что подверг сомнению божественность Христа и культ святых.
«Это и впрямь сущее безумие», – сказал господин Браге, приуныв оттого, что вся его стратегия провалилась, и злясь при мысли, что скоро его гость вернется к себе в Германию с убеждением, что он либо трус, либо еретик.
Вот почему, как только посланец герцога Мекленбургского покинул остров, Сеньор, желая знать, в чем именно его могут заподозрить за то, что он читал Джордано Бруно помчался в библиотеку и вновь склонился над поэмами итальянца, чтобы освежить свою память.
Он там обнаружил уйму дерзостей, способных вконец разрушить в глазах герцога Мекленбургского его репутацию человека серьезного и благочестивого. Разумеется, он тотчас отправил герцогу письмо, где слишком явно бросались в глаза его потуги исправить подобное впечатление. Мне ведь не раз при тех или иных обстоятельствах доводилось слышать, как он читал Лонгомонтанусу свои послания, писанные высокопоставленным адресатам.
К тому же господин Браге в латинском языке был отнюдь не силен. А Лонгомонтанус, напротив, обладал умением на бумаге как нельзя более естественно изъясняться по латыни. Но в писаниях его учителя давало о себе знать то, чего он исправлять не осмеливался, – склонность пылко защищаться от воображаемых обвинений.
Должно быть, перегруженное уверениями во всяческом почтении письмо, которое Ульрих фон Мекленбург получил от Тихо Браге, вызвало у деда будущего датского короля одно раздражение. Вопреки расчетам моего господина, он ни разу не выступил в его защиту перед королевской властью. Поговаривали даже, будто он внес свою лепту в распространение сомнительных слухов на его счет.
Но главное, Сеньор по сему поводу против собственного желания был принужден вникнуть в рассуждения и теории Бруно. При этом он волей-неволей примерял на себя те наветы, коих опасался, и так живо воображал себя сторонником ересей, о которых читал, настолько пронимала его их прелесть, что едва все их не усвоил.
Дважды он призывал меня к себе, чтобы уверить, что отнюдь не одобряет их.
– Я вам охотно верю, – говорил я ему, – но чего ради вы так стремитесь, убедить меня в этом?
– Геллиус недавно утверждал, что этот итальянец околдовал тебя, – напомнил он.
– Разве у вас недостаточно причин, чтобы сомневаться в правдивости Геллиуса? – съязвил я.
– Пусть меня избавят от разговоров о Геллиусе под моим кровом.
– Не вы ли сами первым упомянули о нем?
Он вдруг добродушно расхохотался, но не успел я удивиться, как его лицо вновь омрачилось.
– Не знаю, откуда тебе ведомо будущее, от Бога или от дьявола, – проворчал он, – да и знать этого не хочу. Но я полагаю, и на то у меня есть причины, что ежели удастся устроить так, чтобы разбирательство моей тяжбы с Геллиусом произошло перед капитулом Лунна, города, где у меня много сторонников, дело закончится в мою пользу. Прозреваешь ли ты что что-нибудь?
– Я способен увидеть лишь то, что уже случилось.
– Тут мне не требуется твоя помощь, – отрезал он. – Это я вижу и сам.
– Не вполне. Вам неизвестны кое-какие подробности прошлой жизни Геллиуса.
– Коли они не могут повлиять на исход процесса, что в них за прок?
– Он пытался вас отравить, вот какой прок. Бедняга Ольсен погиб вместо вас.
Его глаза наполнились слезами.
– Снова морочишь мне голову?
Я объяснил, как Геллиус поставил сосуд с ртутью на печь в кабинете алхимии.
«Неужели?… – забормотал он в раздумье. – Вздор, быть не может. Геллиус ненавидел Ольсена. Да если б у меня и были доказательства, как знать, захочет ли капитул в Лунне копаться во всем этом? Ладно, – заключил он, вдумчиво сопя, – отправишься со мной, а там видно будет».
Чтобы снова завоевать его расположение, мне бы этого понятно, не хватило, но тут возникло еще одно обстоятельство, побудившее его забрать меня с фермы Фюрбома и водворить под лестницу, где ютились ученики.
На второй день Рождества в Стьернеборге сломался один из приборов, Лонгомонтанус с юным Тенгнагелем тщетно над ним бились, пока им не пришло в голову использовать мою память, чтобы восстановить форму его недостающих деревянных частей – двух гнутых штырей, разлетевшихся на щепки при падении. Итак, поутру за мной послали на ферму лакея, чтобы я пришел и посмотрел на этот квадрант. Я при свете свечи показывал по памяти, как передать на бумаге вид этих штырей, а Тенгнагель держал подсвечник: этот малый в любом положении вел себя так благовоспитанно и кротко, что ему поневоле прощали его глупость. Но когда он, кивая своей русой головой, произносил: «Я понимаю!» – можно было утверждать с полной уверенностью, что он не понял решительно ничего.
Сеньор между тем бродил вокруг, крайне взбудораженный, сердито ворчал за нашими спинами, поглядывая, как мы снова и снова исправляем чертеж и уточняем размеры деревянных частей.
Тихо Браге не выносил, когда в приспособлении обнаруживался малейший изъян. Шла ли речь о часах, о тележке, на которой возят дрова, или о большом квадранте Стьернеборга, он глаз не смыкал, пока сломанное не будет приведено в порядок, привлекал к делу мастеров из Ландскроны или германских умельцев, заставляя их трудиться до глубокой ночи, только бы утром испытать удовлетворение, выслушав доклад о том, что механика вновь работает. После этого, умиротворенный, он отправлялся почивать.
Человеку, столь остро переживающему любую неисправность механических устройств, благоразумие могло бы подсказать, что механизмов в его хозяйстве должно быть как можно меньше, он Же, напротив, без конца обзаводился новыми, тем самым умножая поводы своих тревог. Помимо всего прочего, надобность чинить их, если они не выполняли своего назначения, а в случае, когда они работали безукоризненно, – боязнь, что они могут застопориться, страшно отравляли ему жизнь.
Через два дня местный столяр изготовил эти гнутые штыри. Ими квадрант прикрепили к медной плахе (все происходило на верстаке в алхимическом кабинете), и пока это делалось, сам хозяин вдвоем с юным Блау держал прибор на весу. Разрозненные части пришлись как раз впору, прибор был возвращен на прежнее место, а я – к себе под лестницу. С тех пор, как я в последний раз был в замке, минуло больше года.
Похоже, Сеньор испытал облегчение, когда подвернулся такой предлог вернуть меня из моей ссылки. Я наконец сообразил, почему он оказал мне честь, отправив в погоню за мной «Веддерен»: ему хотелось расспросить меня о моей встрече с Джордано Бруно. Ведь Геллиус успел стать его врагом, Эрик Ланге, вечный жених его сестры Софии, застрял в Ростоке, не решаясь сунуться в Данию из страха перед своими кредиторами, угрожавшими засадить его в кутузку, стало быть, кроме меня, не осталось никого, кто бы мог поведать ему о том, что говорил итальянец. Я же сделал это.
Всего любопытнее ему было узнать, как тот отзывался о нем.
«Он питает к вам живейшее и самое искреннее восхищение», – заверил я.
В ответ Господин замахал рукой, давая мне понять, что эти любезности его вовсе не – занимают. Ему, дескать, куда интереснее, чтобы я изобразил портрет Бруно. Как мне представляется ныне, для него писания этого человека таили в себе некую магическую притягательность. Итальянец, как, впрочем, и я сам, видимо, казались ему посланцами божественного Провидения, явившимися не иначе как затем; чтобы подвергнуть испытанию его астрономическую теорию.
– Вскоре я одарю мир каталогом тысячи звезд, – заявил он мне, – а у твоего арлекина только пустые слова, один пар.
– Коль скоро он считает небесные пространства безграничными и число звезд не имеющим конца, он не дает себе труда составлять их реестр, – отвечал я.
– А почему бы нам не подвергнуть проверке и то, измерение чего превосходит наши возможности? Должны ли мы, по примеру этого итальянца, на веки вечные погрузиться в грезы, созерцая Природу и ограничиваясь благоговейным признанием ее величия, но не прилагая к ней мерной линейки нашего разума?
Чтобы возражать ему, мне бы потребовалась поддержка целого собрания. А наш-то диалог происходил с глазу на глаз, Лонгомонтануса – и того не было. Мы беседовали на борту «Веддерена», отходившего от острова, направляясь в порт Барсебек, то бишь в тот самый город Лунн, где он собирался выступить в суде против Геллиуса.
С легким вызовом, как бы побуждая его тотчас меня опровергнуть, я отвечал:
– А зачем считать то, что заведомо бессчетно?
– Вот она, философия итальянца! Да затем, чтобы внести число туда, где его не было.
– Я вас понимаю, – заметил я. – Отныне вы, стало быть, уверовали, что наше исчисление и то, что мы исчисляем, едины. Звезда, которой никто никогда не видел, не существует. Ибо нет возможности утверждать, что она пребывает скорее здесь, нежели там. А раз она – нигде, значит, ее нет.
И тут нам явилось видение, подобное тому, что уже было когда-то ниспослано нам двоим. Только на сей раз и моряки на борту смогли разглядеть его. Да и все, кого они выспрашивали, пристав к берегу, все, кто в тот день держал путь морем из Копенгагена в Барсебек и Мальме, видели, как там, где никакой суши быть не могло, выплыл из тумана берег. К пристани, казалось, подходили суда, ни видом, ни размерами, не схожие с теми, что были нам знакомы; они плыли, переполненные светом, лишенные мачт, вдоль какого-то каменного моста вроде тех, что встречаются на римских гравюрах, только этот был таким немыслимо длинным,· что можно было подумать, будто он тянется через весь Эресунн. Сигнальные огни, казалось, перемещались в потемках быстрой чередой устремляясь к пристани, к монументальному порталу из двух поистине гигантских, невообразимых белых кубических строений, украшенных зубчатыми фризами, каждый из которых венчала стрела. Сияние, заливавшее город и холмы, было ярким, слепящим, как снег. Даже ледники Исландии, открывшись нашему взору, не были бы столь белы, и даль меж небом и морем тех краев не простиралась бы столь царственно.
По непостижимой милости Провидения нам открылось то, о чем некогда говорил со мною епископ Айнарсон: царство вечного покоя, где блаженствуют, слившись во Христе, мой брат, матушка и Бенте Нильсон. Врата небес распахнулись перед нами. Господь отвратил нас от земных наваждений и дал нам знать, что незачем страшиться грядущего, ибо все уже свершилось.
И вот при виде сего мира, казалось, сотканного из неисчислимых чудес, где так быстро проплывали корабли, освещенные, будто города, по небу чертили сотни сияющих лучей, а водную гладь пересекал мост длиною в три или четыре фьердингвая, мой Господин отвернулся, подобрал полы своего бархатного плаща и, придерживаясь за трос, перегнулся над верхней палубой и глянул вниз. Ему показалось зловещим зрелище этих берегов, где царил порядок, нам чуждый. Он испугался, как бы, бросив свою зыбкую тень на суетность его земных забот, видение это не сулило им дурного исхода, какой-то новой беды, уготованной ему капитулом Лунна.
В этом он не ошибся.
Мы провели два дня в этом городе древней Скании, в старинном монастыре возле черного, невероятно огромного кафедрального собора. Хозяин приказал мне ждать его, и я действительно его ждал вместе с молоденьким глухим лакеем среди толпы богомольцев, которые толкались, стремясь поглазеть на астрономические часы.
Раскрашенные металлические фигуры, ведомые герольдом с золоченым рожком, облаченным в белый камзол, выходили из домика с окошками, проходили чередой под голубой статуей Пресвятой Девы, качая головами и отвешивая ей поклоны. Колесо указывало годы парада планет и календарь вплоть до конца времен, имеющего наступить в 2123 году.
Дата сия послужила поводом для спора, разгоревшегося у меня за спиной. Обладатель высокого пронзительного голоса старался нагнать на прихожан страху, но мужчина постарше, очень высокого роста и без левой руки, стал ему возражать. «Конец времен – чистая иллюзия, предсказать его срок невозможно, – заявил он. – Если бы хоть все в мире часы разом остановились, время продолжало бы идти. Быть может, Евангелия хотели помочь нам догадаться, что, когда Христос ступил на землю, мир иной впервые в Истории предстал перед всеми как очевидность, и коль скоро единение живых и мертвых, согласно Писанию, свершилось, время невозможно более измерять так, как делалось до тех пор, и человечество пошло по ветхозаветному пути».
Возвращаясь в жилище Моего господина, я раздумывал о том, что белый брег, и сияющие города, и мост длиной в четыре фьердингвая, и портал из двух гигантских кубов, все, что так поразило нас вчера, уходит от нас в будущее настолько же далеко, насколько древние Афины отодвинуты в прошлое.
Сеньор возвратился, багровый от ярости. Велел стащить с него мокрые сапоги, схватил кочергу, чтобы прибить крысу, укусившую его, наложил повязку на палец, снял нос, нарочно перепугав ребенка, глазевшего на него в окно со двора, и объявил, что тяжба проиграна. Когда дочь хозяина гостиницы попыталась взять его плащ, чтобы просушить, он оттолкнул ее, выдул чуть ли не бочонок пива и все бормотал, будто говоря сам с собой: «Хоть бы еще брат сделал, как я сказал! Завтра вернемся на Гвэн, мне нужно иметь в запасе неделю до коронации».
Но когда я поведал ему о перепалке, случившейся перед собором, и пересказал, что говорил тот старик по поводу астрономических часов, его речи приобрели более благодушный характер.
«Эти часы врут», – буркнул он.
Не остановившись на этом, я ему признался в своем подозрении, что призрачные острова Эресунна явились нам из будущего.
– Что явно противоречит твоим бредням насчет звезд, которые не существовали бы, если бы никто их не видел. Берега грядущего не могли бы быть видимы, пока они еще не родились из моря.
– Значит, они, вероятно, уже возникли.
– Каким образом то, что принадлежит будущему, может существовать уже сегодня?
– А разве у меня нет способности провидеть события заранее? Грядущее в моих глазах ведь уподобляется прошедшему? Может статься, оно не уже существует, а пребывает вечно. Возможно, тот однорукий, что болтал в соборе, не прав, утверждая, что если все часы остановятся, время не прекратит своего течения? Что, если мы подобны головастикам: плавают они, плавают вдоль стенки стеклянной колбы, снуют неустанно то вверх, то вниз, но никогда им не дано увидеть, что сосуд круглый? Может, время – как стекло? Может, мы – головастики? Если бы мы выпрыгнули из воды, мы бы увидали, что людская суета похожа на их мельтешенье.
– Понятно, кто тебя заморочил, – заявил тогда мой господин. – Это все Бруно, узнаю его лживые разглагольствования, эту манеру подвергать сомнению все, даже сам ход времени.
– Вы ошибаетесь, – возразил я. – Джордано Бруно слыхом не слыхал о моих предсказаниях, вообще, кроме как о моей памяти, ничего обо мне не знает. Тем не менее верно то, что если бы нашелся человек достаточно умный и ученый, чтобы сохранять в своей памяти мир во всей полноте и точности таким, каков он есть, он знал бы так же точно и вполне все, что будет.
– Не желаю больше слушать подобный бред, – оборвал он.
– Однако же, – не унимался я, – когда вы меня расспрашиваете о будущем, мой бред внушает вам самое ошеломляющее доверие, разве не так? Да я и сам, утверждая что я предчувствую лишь то, что уже совершилось, ничего, кроме этого, и не предсказываю: мой брат-нетопырь, живущий среди звезд, сообщает мне о том, что нас ждет, ему же видно все разом: и смерть Сократа, и падение Вавилона, и коронация Христиана IV, хоть до нее дело еще не дошло, и даже 2123 год, который тем паче пока не наступил. Мой небесный брат знает место вашего рождения так же, как и кончины. Ему ведомо число всех сущих в мире вещей, и, может статься, в это самое мгновение он беседует с вашим братом, тем, что не живет на земле, ему вовеки не стать грешником, он останется нежным и блаженным в лоне Господа нашего Христа, который в милосердии своем зрит всю историю рода людского в стеклянной колбе.
– Довольно, – вздохнул он. – Во всем этом нет ни крупицы смысла.
– Смысл здесь такой, что в мире ином смерть Сократа, коронация датского монарха, падение Вавилона и 2123 год – все едино, все связано.
Тут его поразила внезапная идея:
– А ну-ка, скажи, что твой брат, который так и не родился, думает о наступающем царствовании Христиана IV?
– Что для вас оно чревато испытаниями.
– Об этом я бы и сам догадался. А что он скажет о месте моей кончины, раз уж оно ему известно?
– Это случится вдали от острова Гвэн.
– На суше или на море?
– Очень далеко от всех морей.
Отныне его воображение было отмечено мрачной печатью предопределенности, что, впрочем, отнюдь не спасало от страха перед кораблекрушением, истерзавшего его на обратном пути. Тремя днями раньше, в час отплытия, по моему примеру вздумав погадать на моей книге, он открыл Альциато на эмблеме 167-й: дельфин, выброшенный на песчаный берег. Вдали виднелся корабль, напоминающий его собственный. Животное сетовало на опасности, коими полон океан, говоря так: «Если Нептун не избавляет от беды своих. родных чад, как же могут люди, пускаясь по волнам, не подвергаться величайшим невзгодам?» Значение этой эмблемы было не ведомо моему господину, а между тем название звучало так: «In eum qui truculencia suorum perierit» (тот, кого сгубила его собственная ярость).
Плавание наше было неспокойным. Нос корабля рассекал бешеные волны, скрипя, словно мельничное колесо. Со всех сторон вздымались валы, и клочь «пены, срываясь с их гребней, катились в глубокие пропасти. Через час Сеньор спустился к льяло – водостоку, нащупал опору где-то в груде канатов и бревен, уцепился, другой рукой сорвал нос, побагровел, и его стошнило. Моряки, бывшие на палубе, его слуга и я сам – мы все притворились, будто не замечаем, что он плачет, не в силах снести такое унижение. К тому же я опасался появления призрачных островов, способного погубить нас в этих опасных прибрежных водах, где так велик риск крушения. Но морская даль с танцующими под пологом тумана волнами оставалась пустынной, и мы обошли рифы близ Норребро еще до наступления темноты.
– В чем дело? – крикнул Господин, увидев моряка, причалившего свою лодку к борту «Веддерена».
На рейде стоял в ожидании черный корабль королевского флота.
– Нынче утром прибыли два посланца королевы и пастор, их сразу повезли в храм Святого Ибба. Ваша карета тоже там.
– По какому праву они взяли мою карету?
Он заявил, что поедет верхом, и приказал отыскать Хальдора. Моряк отвечал, что слуга уже здесь, на дюне, и лошади тоже. Эту весть Сеньор встретил с заметным облегчением. С той поры как здесь побывал советник Христиан Фриис, он ощущал, что ему грозит бунт.
На пути от дома Неландера до мельницы Мунтхе наше появление и впрямь встречали криками. «Долой ересь!» – вопили одни. «Преступлениям конец!» – надрывались другие.
Поселянам так не терпелось получить все те поблажки, каких они ожидали от коронации нового монарха, что они бы охотно ускорили желанную развязку, забив нас камнями до смерти. Их удерживал только страх перед наказанием, каковое не замедлило бы воспоследовать. Старшие несколько утихомиривали буйство молодежи. Тумаки и угрозы, расточаемые слугам Ураниборга, доставались им лишь потому, что жителям хотелось уязвить самого хозяина, но последний делал вид, будто ничего не замечает.
Наше продвижение по дороге к Ураниборгу было замедленным, толпа как бы невзначай угрюмо скапливалась на пути, мешая проехать. Наконец мы добрались до Восточных ворот, там же стояла и карета. Два посланника будущего короля созерцали красоты парка на закате дня, под багровеющими небесами; их сопровождали Магдалена и Элизабет.
То были господа средних лет, болтливые, будто сороки, одетые как священнослужители, в шляпах из тонкой недорогой шерсти с полями, отделанными черным бархатом. Заметив приближающегося хозяина, оба состроили постные физиономии и погрузились в молчание, достойное монахов. В двух словах они объяснили ему цель своего прибытия: им было надобно кое о чем расспросить пастора Енса Енсена Венсосиля, того, что в приходе Святого Ибба, они как раз только что вернулись из пасторского дома. Сеньор, уже знавший об этом, отвечал так:
– Я могу давать отчет лишь тем, кто мне ровня. Мы здесь не среди папистов, которые готовы вырвать у человека клятву под пыткой и утверждают, будто Христос радуется, видя, как ломают кости неверующих.
– Значит, вы осмеливаетесь признаться, что не веруете?
Тут Господин сорвал с себя нос, который, однако же, перед тем весьма учтиво пристроил на подобающее место, чтобы встретить гостей. Когда он приходил в бешенство, его голос утрачивал сходство с утиным кряканьем. Тут он, напротив, вырывался из самых глубин его существа, грохоча, как морские валы в бурю, когда они разбиваются о скалы с тем же звуком, с каким бы грохнулось оземь большое дерево.
– Убирайтесь вон, ступайте ночевать к Венсосилю! – взревел он. – Но вы у меня соблаговолите вернуться туда пешком! Мой экипаж не предназначен для того, чтобы возить лицемеров!
Младший из тех двоих приходился родней члену сената, совсем как Геллиус. Оскорбление его не смутило, и он поспешил протараторить все свои вопросы разом из боязни, что не удастся задать ни. одного.
– Вы не отрицаете, что упразднили изгнание бесов в церемонии крещения? Признаете, что за восемнадцать лет ни разу не причастились, не принимали отпущения грехов, не заключили брак по законам церкви? Вы действительно занимаете в храме Святого Ибба скамью, находящуюся с той стороны, которая предназначена для женщин?
Сеньор не отвечал. Глядя поверх головы епископского посланца, он отдавал распоряжения дочерям. Потом приказывал что-то слугам, конюху, проходившему с лошадьми мимо ворот, Лонгомонтанусу и Тенгнагелю, которые направлялись к подземной обсерватории Стьернеборга в сопровождении двух лакеев, тащивших охапки книг. Хальдор удерживал пса Лёвеунга, мешая ему сожрать этих инквизиторов Христиана IV, что до самого хозяина, он их абсолютно не замечал. Им пришлось удалиться ни с чем, и они скрылись из виду в той стороне, где ферма Фюрбома.
Если верить слухам, они там вместо него подвергли допросу сиятельную даму Кирстен Йоргенсдаттер, которая в простоте душевной сильно подпортила дело супруга своими бесхитростными ответами, на что была вполне способна.
Когда назавтра они отбыли, хозяин уже не мог не сознавать, что будет отныне, не выслушанный, осужден теми, кого считал ровней, и что, присутствуя на коронации, ибо того требовал его ранг, подвергнется там жесточайшим унижениям.
Меня не пригласили сопровождать его. С собой он взял только дочь Магдалену (на которую весь город показывал пальцами за то, что Геллиус пренебрег ею), а в Копенгагене на улице Красильщиков в августе месяце встретился со своими сыновьями.
Единственным описанием празднеств по случаю коронации Христиана я обязан Тюге, от него я знаю, что перед Собором Богоматери и храмом Святого Клементия были установлены жаровни, где дымились бычьи туши, и о невероятном стечении народа, о скиллингах, которые знатные господа бросали в пыль, чтобы позабавиться воем и драками черни, о многочисленных турнирах, кавалькадах, где метали копье с медным наконечником в мишень – голову красногубого турка, о жонглерах и музыкантах, бродивших по городским улицам, а главное, о нарядах, которые были мне особенно интересны, но Тюге, к несчастью, едва мог припомнить их цвета. Я допытывался: «Какое платье было на королеве? Голубое, ладно, а что это была за голубизна? Будто морская синь? Или как утреннее небо? А может, как шея у павлина?» – а он мне на все это отвечал, что платье было голубое, просто-напросто голубое, и все. Он даже не мог сказать, была ли на нем мережка, бархат был простой или крапчатый, бахрома золотая или серебряная.
Служанки пытались добиться толку от Магдалены, но она ничего не рассказывала, только плакала. Много позже Тюге поведал мне, что ее унижали так же, как отца, – при всех, в разгаре пира. По городу разошелся пасквиль. Там говорилось: если бы свадьба состоялась, Тихо Браге не смог бы покинуть спальню новобрачных, ревнуя обоих, как Зевс, случись ему женить Ганимеда на Фетиде.
К концу августа унижения, перенесенные на празднике коронации, были забыты, так как Сеньора постигли еше более серьезные неприятности. Ему пришлось отказаться от поместья Нордфьорд, приносившего по тысяче талеров ежегодно. У него забрали этот фьеф без отсрочки. В довершение всего новым королевским канцлером, назначенным молодым монархом Христианом IV, оказался не кто иной, как Христиан Фриис собственной персоной, тот самый, что несколько дней рыскал по острову в поисках доносов, на основании которых можно было бы начать преследования моего господина. Да сверх того новый казначей королевства, получивший это место по милости Христиана IV, состоял в дружбе с графом Рюдбергом, тем, что имел привычку выбрасывать своих лакеев в окно. Звали этого господина Валькендорфом – в самом звучании его имени сквозила оскорбительная грубость.
Едва успев вернуться на остров, мой хозяин пережил еще одну обиду: он подал королю прошение возвратить ему права на поместье Нордфьорд вплоть до мая месяца, чтобы он мог взыскать арендную плату, сумму, без которой его доходам будет нанесен тяжкий урон – своим беспокойством на сей счет он поделился со всеми в доме, с сестрой Софией, с друзьями в Германии, с герцогом Мекленбургским. Сеньор без конца писал письма. За столом он только и делал, что обдумывал пассажи очередной эпистолы.
Свое ответное, послание король передал ему через посредство Фрииса. В нем монарх заявлял, что не имеет ни малейшего намерения, подобно своему отцу, до гробовой доски потворствовать гордыне дома Браге. Валькендорфу не составит труда найти для королевской казны лучшее применение, нежели снабжать астронома дорогими приборами.
В силу диковинных особенностей характера Сеньор и не подумал сократить свои расходы, он продолжал тратить деньги, не считая; словно бросал вызов не только врагам, но самой Судьбе. То и дело его видели возле печатного станка где сновали наборщики, которых он приглашал из столицы и весьма дорого оплачивал.
Во дни рождественских торжеств София приехала к брату в Ураниборг. Она горько корила своего племянника Тюге за то, что он в порыве любовного нетерпения побудил служанку Ливэ покинуть ее, не появляться целый месяц, доведя госпожу до отчаяния.
Тихо Браге ничего не знал об амурной связи юной колдуньи с его старшим сыном. Он потребовал объяснений, которых молодой человек к его вящему беспокойству дать не пожелал. Тогда Сеньор заперся в алхимическом кабинете, где просидел чуть не сутки, оплакивая всеобщее предательство.
На следующий день, возобновив домашнюю ссору, Тюге стал упрекать отца, что тот по собственной вине утратил благоволение двора. Юноша обвинил его в том, что он сорвал свадьбу дочери, без конца наседая на Геллиуса со все новыми притязаниями, дав тому повод потешать россказнями весь Копенгаген. Ведь этот негодяй ускорил беду, своими описаниями малейших подробностей их житья навлек немилость на семейство Браге. Он поощрял любопытство всех и каждого к их мерзостям…
– Каким еще мерзостям? – буркнул Сеньор.
– Не знаю, отец, – отвечал Тюге. – Не я же их творил.
Магдалена, все еще влюбленная в своего бывшего жениха, опять разрыдалась и потребовала, чтобы брат перестал мучить их такими разговорами. Она упрекнула его, зачем он прибавляет новую ложь к тем подлым наветам, что чернят Геллиуса, и заявила, что сегодня же уйдет на ферму, под крылышко матери.
Однако уже на рассвете следующего дня она, напротив, вернулась с целым обозом белья. Ее мамаша Кирстен прибыла тоже вместе с остальными дочерьми. Все они выглядели крайне расхристанными, тащили за собой трех белых псов Элизабет и испускали душераздирающие стоны. Слуги, которые были очень привязаны к сиятельной даме, рассказали, что Фюрбому и его сыну стоило большого труда удержать толпу разъяренных мужчин, чьи лица скрывались под масками: эта свора была полна решимости вытащить женщин из флигеля для гостей. Они выкрикивали бессвязные угрозы и, по-видимому, сильно нагрузились пивом. Эти разбойники ранили одного из слуг, тут уж люди с фермы обратили их в бегство, но арендатор сказал, что они прибыли из Ландскроны, чтобы расквитаться за гибель Густава Ассарсона, за которую они вроде бы поносили Сеньора.
Когда ослепительное солнце поднялось над этим днем, начавшимся так мрачно, к нам долетела новая весть: загоны опустошены, уток разворовали, главный затвор самого большого пруда открыт, мастер-бумажник и один из его подмастерьев зарезаны во сне все теми же бандитами. Они пробрались на остров со стороны Голландской долины.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































